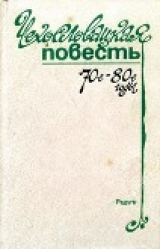
Текст книги "Чехословацкая повесть. 70-е — 80-е годы"
Автор книги: Владо Беднар
Соавторы: Любомир Фельдек,Валя Стиблова,Ян Костргун
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 45 страниц)
Рене сидит в редакции в конце стола и чувствует, как слабеет. Съедает лимон – это уже вошло в привычку: каждый день, чтобы восполнить недостатки питания, съедать по лимону. Ван Стипхоут выпивал по бутылке молока в день. Но и лимон не помогает – Рене ощущает все большую слабость. Опять он попал пальцем в небо! Рене умеет быстро работать. Те, кто видел, как он работает, ширят о нем славу, что при надобности он способен сам написать и подготовить к набору все 18 страниц номера за один день. Но номер выходит не сразу. Сначала цензура, потом типография. Пока газету верстают, печатают и возвращают в Нижнюю, проходит целая неделя, в течение которой на заводе, где так бурлит жизнь, все может перевернуться вверх дном. Именно это и происходит сейчас. Рене узнает, что «саботаж» контролеров не был воспринят уж настолько трагично. Инженер Мудрый вообще склонен всегда делать из мухи слона. А контролеры были по-своему правы, и своим «саботажем» заставили больше с ними считаться. С того времени, как стали работать шестнадцатичасовые смены, то есть с того самого 7 декабря, завод словно подменили – прекратились все разногласия и производство с ОТК теперь водой не разлить, особенно когда обнаружилась такая невероятная вещь: чем больше производится телевизоров за смену, тем телевизоры лучше.
И тут вдруг получается, что – 10 декабря суббота, значит, скажем, 12 декабря, в понедельник, – на конвейеры ляжет свежий номер многотиражки с его знаменитой «игрой в открытую». Контролеры, конечно, обидятся. Отношения снова испортятся. План сорвется. И виноват будет не кто иной, как он, Рене, великий искатель виновных. Или же случится нечто совсем непредвиденное и от него не зависящее – разве мало случалось в нынешнем году неожиданностей? Но всему причиной сделают его передовицу, и то, в чем он будет вовсе не повинен, тоже свалят на его бедную голову. Просто ужасно! Рене ума не приложит, что предпринять. Умереть – только это и остается.
Рене спешит на конвейер К поделиться своими треволнениями с Евой. Ева двигается едва-едва, видно, что к тяжелой работе она меньше приучена, чем другие женщины, а у нее самая трудоемкая операция – она вставляет кинескопы в телевизоры, за обычную смену ей приходится поднять – по расчетам нормировщика – тонну. За шестнадцатичасовую, стало быть, две. Но утомление ей к лицу. И пахнет она ацетоном. Однако волнения заглушают в душе Рене наслаждение, доставляемое своеобразным запахом и усталой девичьей красой.
– А может, позвонишь в Ружомберок, чтоб не печатали?
Боже мой, да ведь это блестящая мысль! Сегодня же только пятница, пожалуй, еще и печатать не начали! Рене бежит в редакцию – к счастью, там никого нет, господи, только бы не заявилась сейчас товарищ Пандулова или еще какой непрошеный гость, – звонит в Ружомберок.
– Что с номером?
– Имейте же немного терпения, товарищ Рене, – отвечают из Ружомберка. – Он уже в машине. Завтра его отсылаем, в понедельник будет у вас.
– Спасибо.
Товарищ Рене кладет трубку – и снова жизнь ему не мила. Уж лучше пулю в лоб! Что бы сказал Ван Стипхоут, окажись он сейчас в Нижней? Да чего там «сказал»! Что бы он сделал, будь он сейчас здесь?
Ранним субботним утром Рене покидает Нижнюю. Удачливо остановленная попутка доставляет его прямо в Ружомберок. Раньше, чем могло бы уйти из ружомберкской типографии какое-либо почтовое отправление, Рене входит в ее подъезд.
– А вы в Ружомберке сегодня, товарищ Рене?
– Да, кой-какие срочные дела были. А уж раз я здесь, постараюсь избавить вас от лишних хлопот. Ничего не отсылайте, газету возьму с собой.
– Ну зачем же вам утруждаться? Мы почтой пошлем.
– Помилуйте, разве это труд? Я здесь с машиной!
И вот Рене с пакетом многотиражки под мышкой гордо шагает по мосту через Ваг в сторону Оравы – там у шлагбаума всегда найдешь попутную машину. На мосту Рене ненадолго останавливается и обращает к мутным водам Вага такую речь:
– О праотец Ваг, в прошлом жемчужина наших рек! Знаю, как ты ненавидишь ружомберкский бумажный комбинат за то, что он отравляет твои воды. Но сегодня не вини его понапрасну! Ибо тот, кто на сей раз отравляет тебя целлюлозой, зовется Рене. Это я.
И, сказав эти проникновенные слова, бросает с моста в волны Вага внушительный сверток. В нем весь тираж свежего номера «Оравы», который должен был выйти 10 декабря 1960 года.
И товарищ Рене, провожая ностальгическим взглядом его полет, чувствует, что именно в эту минуту и он – пусть своеобразно – но включился в великое движение заводского коллектива.
[26]
ФИНАЛ
Рене работает теперь осмотрительно (готовит к концу года выпуск счетверенного номера, ловко подсунув в него и номер, погибший в пучинах Вага), а завод теперь работает весело, хотя и выкладывается до крайности.
Так что же, все теперь идет как по маслу? Ну полно, весь год не шло, с чего бы теперь вдруг пошло?
Однажды поднялась паника: работа, дескать, каторжная, а премии будут маленькими. Каждый божий день выходит «молния» – выходит она и по этому случаю. Рене доводит до сведения коллектива, что «руководство завода обязуется…» и так далее и тому подобное. Ему даже и самому любопытно, как все обернется…
В предрождественские дни возрастает число прогулов. Если на одном конвейере отсутствуют пять-шесть человек сразу, работа всего конвейера под угрозой, пишет Рене в следующей «молнии».
На конвейере К, рядом с Евой, падает в обморок беременная женщина. На конвейерах работает множество беременных женщин и девушек, которым еще не исполнилось восемнадцати. Дело, как известно, противозаконное.
Случись какая беда – уж кому-то придется отвечать. Что толку в разговорах, что инициатива-де исходит снизу – а где доказательства? К директору явилась делегация мастеров и начальников смен. Директор мог бы сказать «нет», но ведь не сказал – напротив, благословил. Все, что происходит, происходит с ведома и согласия руководства. Стало быть, кто понесет ответственность, если что случится?
Вдруг по заводу пронесся слух, что начальник производства издал письменное распоряжение, запрещающее беременным женщинам и девушкам до восемнадцати лет работать в шестнадцатичасовые смены. Свою точку зрения он письменно изложил и директору. Но если этот запрет вступит в силу, парализуется все производство – с каждого конвейера уйдет по нескольку работниц. Значит, все затраченные усилия окажутся напрасными – план выполнен не будет.
«Перестраховщик!» – честят начальника производства прочие руководящие работники, и ниже– и вышестоящие. Однако возразить ему нечего и некому. Закон нарушается на участке, которым руководит именно он. Случись – не приведи бог! – какая передряга, он первый в ответе. И директор тут бессилен. Даже у него нет права приказать своему заместителю по производству нарушить закон. На такое может решиться лишь сам заместитель, лишь он один. А он уже принял решение. Парализует производство, но зато получит алиби.
Рене знает, что и с алиби начальника производства не так-то все просто. За ним не только алиби. За ним и правда. Это решение отчасти обращено и к нему, Рене. Ну, каково, редактор? Кто теперь груб? А кто гуманен? Кто воспитывает хорошим примером? Рене вынужден признать, что на сей раз самый гуманный человек на заводе – это начальник производства. И хотя многие считают его трусом, Рене понимает, что решение его, в общем-то, смелое. Ведь это решение отнюдь не пользуется популярностью. Оно ни у кого не вызывает симпатии – даже беременным женщинам и несовершеннолетним девушкам оно не по душе. Одному Рене оно нравится. И потому Рене решает помочь начальнику производства. И не только ему, но и директору и другим руководящим работникам. Он устроит все так, что они не понесут – по крайней мере Рене кажется, что не понесут, – никакой ответственности. В отделе оформления Рене запасается большим листом бумаги. В верхнем левом его углу пишет обращение ко всем работающим в шестнадцатичасовых сменах, призывая их личной подписью подтвердить, что трудятся они добровольно, под свою ответственность, руководствуясь лишь собственным желанием выполнить план даже вопреки распоряжению начальства. С этим призывом Рене обходит все конвейеры и собирает подписи всех работающих. Бумагу с подписями вешает затем на видном месте в производственном цеху.
Хотя руководящие работники в отличие от Рене и не придают акции по сбору подписей особой юридической значимости, тем не менее акция придает им смелости. И они делают ход конем – начальника производства посылают до конца года в командировку. Пусть и лежит на нем наибольшая ответственность, но случись что – он в стороне. И производство, стало быть, может идти своим чередом.
Рене безотлучен. В «Скорой помощи» ночи напролет варят кофе, кто-то должен его разносить; последний номер года Рене уже отослал в типографию, он свободен и с удовольствием становится одним из разносчиков кофе. А через несколько дней находит для себя и вовсе захватывающее занятие! Что ни ночь, издает одну, а то и несколько «молний» под названием «Ночной горшок». И художник-оформитель Мишо Баник включается в работу – Рене ведь не умеет ни рисовать, ни гектографировать. Но Мишо Баника нет нужды упрашивать – то, что он может включиться в работу, наполняет его гордостью. Впрочем, включаются все. Ночи напролет играет оркестр ансамбля «Ораван» под руководством Милана Храстека, и Рене счастлив, что может в столь исключительных обстоятельствах выслушать и свои поделки, контрабандой протащенные в сокровищницу народных песен. Он слушает и при этом разносит с Мишо Баником свежие «молнии». В «молниях» всегда разрешаются самые наболевшие проблемы ночи. Оказывается, например, что иные ловкачи выпивают по две, по три чашки кофе кряду, тогда как женщинам на отдаленных концах конвейеров не достается ни единой. Мишо Баник по совету Рене рисует прямоугольник, который распахивается по двум сторонам двумя трапециями: тройное зеркало. В каждом зеркале одна и та же фигура, пьющая кофе. А под рисунком стихотворение:
Зеркалами отражен,
сам собою окружен.
Разве женщины пьют кофе?
Он не знает – в фас и в профиль
сам себя лишь видит он.
Или в роли ремонтника с паяльником в руке выступает заместитель директора по экономической части Бртань. У Мишо Баника мастерская рука – ему удается схватить характерный профиль заместителя. И вот уже выпускается «молния» с этим рисунком и стишками под ним:
Однажды черной-черной ночью
зам сделался чернорабочим.
«Окна РОСТА» Маяковского в сравнении с этим – детская забава, ухмыляется Рене.
Утром 20 декабря проносится по цеху радостная весть: пусть до выполнения годового плана еще далеко – на сегодняшний день достигнут необходимый уровень: ликвидирован дефицит. Мастера конвейеров приняли обет – не бриться, пока не снят дефицит. Мастер Мостар, на чьем конвейере он уже покрыт, получает право побриться первым. И тут же выходит «молния» со множеством портретов бородачей, а среди них один бритый. И текст:
С Мостаром беда —
пропала борода.
Кто бороду найдет,
пусть сразу и вернет.
Нулевой дефицит необходимо удержать до конца года. И конечно, до конца года Рене должен на заводе присутствовать! Он уезжает в Жилину лишь на два дня, В сочельник собирался приехать отец из Праги. Но, так и не дождавшись его, Рене с матерью съедают рождественский ужин вдвоем. А на другой день наш герой снова в Нижней.
И вот 30 декабря – день, когда завод должен выполнить годовой план, выпустив последний из 110 000 приемников. Рене это знает. Останется еще время на небольшое торжество прямо на производстве, а потом состоится ужин в заводской столовой, куда на автобусах из окрестных деревень свезут и рабочих утренней смены, окончившейся в два часа дня. Если, конечно, ничего не случится.
Но, конечно, что-то случается. После полудня выясняется, что конвейеры стоят и людей на них нет. Рене встречает начальника смены Муху в слезах – когда же Рене узрел впервые эту его светло-желтую шевелюру? Ах да, в первый же день, в проходной!
– Что случилось, товарищ Муха?
– А, ерунда. Упросили меня мастера́ и рабочие. Когда стало ясно, что вторая смена план выполнит – первая-то была после ночной, да работала уже в счет субботы, – я взял и отпустил всех после полудня домой.
– А почему же вы плачете?
– Со дня смерти отца в сорок четвертом не плакал, а теперь вот разнюнился. Так в душу плюнули – сил нету выдержать. Когда нужно было убеждать людей работать, для этого мы годились. И не подвели ни разу. А вот пойти человеку навстречу – как бы не так! Ну разве мне не обидно, что эта слава достанется не моей смене?
И Муха, продолжая хлюпать носом, удаляется – Рене даже в сомнении, придет ли он вечером на торжество. В два часа заступает к конвейерам вторая смена, и начальник смены Петрашко знай посмеивается:
– Говорят, Муха плакал как ребенок! Сам виноват. Никого не спросясь, остановил конвейеры. А если б у нас после обеда цепь порвалась? Месяц из кожи лезли вон, а в последний день план бы да и угробили!
Но все разыгрывается как по нотам: несмотря на более ранний уход первой смены, около шести наступает торжественная минута. По конвейеру движется, приближаясь к выходному контролю, увенчанный цветами стодесятитысячный телевизор марки «Кривань». Рене летит туда – теперь он уж не упустит момента, как в прошлом году с последним «Манесом». По пути встречает директора Поспишила, бегущего в обратном направлении.
– Куда это вы так поспешили? – шутит удивленный Рене.
Директор улавливает шутку, улыбается:
– Спешу позвонить Ржадеку. Обещал. Он сидит в министерстве и ждет этой минуты.
И директор Поспишил бежит дальше.
Он успевает воротиться, когда собравшийся народ кричит «ура!» и стодесятитысячный телевизор достигает цели.
На месте телевизора, на опустевшем поддоне конвейера К, стоит теперь директор Поспишил и держит речь:
– Товарищи рабочие и работницы, нет слов, которыми я мог бы выразить свою благодарность. Радостную весть я только что сообщил товарищу министру. И я слышал, как он даже ахнул от восторга. Товарищ министр в свою очередь поздравляет всех работников завода и желает им…
Рене стоит среди собравшихся, обнимает за плечи Еву, вдыхает ее аромат, но это не запах ацетона, размышляет он, это аромат девушки, пахнущей ацетоном.
Вместе с Евой и остальными работниками он проходит по двору к заводской столовой. Звуки декабрьского вечера перекрывает грохот винной бочки – начальник производства только что привез ее из командировки. А кто же катит ее по дорожке? Начальник отдела кадров и доктор Сикора. Автобусы уже подвозят людей с утренней смены. И Муха здесь! Да, сегодня придется поварам попотеть! А впрочем, они не одни, у них есть подмога. В длинном окошке стены, отделяющей столовую от кухни, Рене отлично видит, как под вдохновенным руководством всех женщин из отдела кадров со сковородок слетают один за другим шницели. А кто ж это сейчас перевернул на сковороде самый большой? Да кто же еще, как не товарищ Пандулова!
В заводской столовой Рене и Ева садятся рядом, прослушивают выступления, съедают по шницелю, на столе объявляется и бутылка вина из прикомандированной бочки.
– Угощайтесь, – раздается знакомый голос.
И тут только Рене замечает, что напротив сидят его старые знакомые, сидят так же по-дружески, как и в прошлом году в кабачке «У малых францисканцев»: Станислав Навратил и Антон Трнкочи. Он улыбается, им, и они, словно сговорившись, одновременно затягивают:
– Не боимся мы работы, дружно станем за станки…
Рене с Евой тоже подхватывают и, допев до конца, затягивают, разумеется, все сначала.
– …С песней радостной и бодрой не боимся мы работы…
Вдруг кто-то сзади хлюпает Рене по плечу – Тршиска! Шепчет на ухо:
– Надеюсь, соображаешь, Иван, что самую большую премию оторвут директор, и министр?
– И министр? – изумляется Рене.
– Ну ясное дело, министр тоже, мы небось прежде всего на него трубили, Иван, а ты-то как думаешь?
Рене смеется, и Тршиска, тоже смеясь, убегает к своему столу, чтобы не заняли места. Прав ли Тршиска? А если и прав, думает Рене, что из того? Разве не понесли бы министр с директором самого строгого наказания, если бы, скажем, план не был выполнен? Да и потом, вмешательство министра в июле месяце все же было решающим. И разве директор Поспишил не выбивался из сил? Забот уйма – а он еще и составителя хроники не забыл привлечь к работе. Пусть Ван Стипхоут и не написал хроники, но директор Поспишил не просчитался – хроника у него будет! Рене знает, что, хоть эту хронику напишет он вместо Ван Стипхоута, не пригласи директор Поспишил для ее написания именно Ван Стипхоута, ей бы не доставало самого главного.
А когда все кончается и Рене, простившись с Евой, бредет к себе в общежитие, на пути ему попадается бывший самоубийца Петер Врба.
– А не тяпнуть ли нам с тобой по такому случаю? – спрашивает Рене.
– Не вводи меня в грех, – смеется Петер Врба. – Ты же знаешь, что я не пью.
– Отметим иначе, – говорит Рене. – Но ты мне должен помочь.
Они вместе идут в комнату Рене и берут со стола большую картину с изображением дома, что стоит посреди буйной растительности на обочине пуантилистической дороги под аляповатой неоновой вывеской CAFÉ.
Друзья переносят картину в женское общежитие, объяснив комендантше Гаргулаковой, что это подарок бывшего производственного психолога, и с ее помощью устанавливают картину на почетном месте в Красном уголке.
Надо заметить, что Рене еще до этого успел на задней стороне холста вывести посвящение:
Свободному народу общежития, его вдохновенному трудовому порыву, которым он потряс мое воображение, с искренним почтением и в глубочайшем молчании посвящаю сие обещание встречи. Au revoir!
И Рене, приложив все усилия, дабы самым достоверным образом воспроизвести подпись Ван Стипхоута, обнаруживает, что это ему действительно удалось!
Ван Стипхоут
Валя Стиблова
СКАЛЬПЕЛЬ, ПОЖАЛУЙСТА!
Перевод с чешского Е. Элькинд
Valja Stýblová
Skalpel, prosím
Praha
«Československý spisovatel»
1981
© Valja Stýblová, 1981
1
Не люблю, когда из медицины делают сенсацию. Популярные статейки в газетах, прижизненные юбилеи… Как должен человек реагировать на просьбу: «Осветите перспективы вашей области науки!»? Или: «Мы слышали о ваших блестящих достижениях в микрохирургии. Расскажите об этом в нескольких словах».
Трудно. Прикроешь глаза – и представляешь себе пугающую неуклюжесть пальцев, управляющих микроскопом. Бьешься над стежками найлоновой монофиламентной нити. Самая длинная игла не больше шести миллиметров, а нить неразличима простым глазом. «Шьем новое платье короля», – говорят ассистенты.
Этот молоденький корреспондент пришел ко мне прямо с утра, едва я закончил обход. Вполне можно была отказать ему в «аудиенции». И почему я этого не сделал – сам не понимаю. Быть может, потому, что он напомнил мне кого-то, только я не сразу сообразил кого. Вел он себя не очень-то корректно. Не помню, например, чтоб он хоть раз назвал меня «профессор». Он ни о чем не попросил, а просто объявил о своем намерении записать беседу со мной для одного еженедельника. Такая самоуверенность, надо признаться, мне показалась забавной.
Он уже некоторое время ждал в моем кабинете (куда секретарша необдуманно его впустила), как ни в чем не бывало разложив на журнальном столике блокнот, ручку и какие-то папки, из которых торчали газетные вырезки.
– Боюсь, что не найду на это времени, – сказал я вместо приветствия.
Он пропустил это мимо ушей.
– Я вас особенно не задержу, – заверил он меня. – Поймите, это очень срочно. Через два месяца ваш юбилей.
Я все еще силился вспомнить, на кого он похож. И таким образом упустил минуту, когда еще удобно было извиниться и его выпроводить. Потом уже как-то не получилось. Он сидел напротив и пристально меня разглядывал.
– А вы на вид много моложе, чем я себе представлял, – заметил он. – Ученый, думаю, да еще профессор – наверное, почтенный старец…
Я не выдержал – улыбнулся. Он улыбнулся тоже. При этом на щеках у него обозначились ямочки, как у барышни. А между передними зубами был зазор, какой бывает у людей смешливых и плутоватых. Ну, наконец-то, вспомнил, кого он напоминает: Фенцла из студенческого интерната Главки! Пепика Фенцла! То же бесхитростное круглое лицо, тот же изумленный взгляд, который он ни на минуту от вас не отводит.
А может, это его сын? Я решил хотя бы послушать, что он скажет. Вызвал секретаршу и попросил принести нам кофе. Та удивленно подняла брови: уж не забыл ли я, какая у меня обширная программа на сегодня? Похоже, этот визитер надолго.
Она права, давайте поскорее к делу.
– Вы журналист? – начал я первым.
Он отрицательно помотал головой. Пока только учится на журналиста. Надо сдать несколько репортажей. Это входит в учебную программу.
– Редакция не очень на меня рассчитывает, – сказал он откровенно. – Пока мне не везло. На той неделе попросили сделать разговор с одним заслуженным деятелем, а он меня не принял, просто велел сказать, что его нету дома. Потом хотели, чтобы я пошел на вернисаж, а я совсем не разбираюсь в живописи, наверняка бы накатал какую-нибудь чушь. И вот я решил выбрать вас. Не сердитесь, что я так откровенно?..
– С чего бы мне сердиться.
Да, кажется, я основательно увяз. «Пепик Фенцл» снова ожил. И более того – стал поудобнее устраиваться в кресле.
– Какие вы мне приготовили вопросы? Что я думаю о будущем нейрохирургии? Или что-нибудь о благородной миссии врача? – поддел я его.
На это он не клюнул. Даже недовольно ухмыльнулся:
– Да нет, такую болтовню я не люблю, из этого бы ничего не вышло. Скорее что-нибудь о том, как вы начинали или что в вашей жизни не получилось. Можно еще какой-нибудь любопытный случай, когда вы действительно помогли…
Это еще куда ни шло, подумал я. По крайней мере понимает, что медицина такая же работа, как любая другая. Никаких вызывающих преклонение образцов или особых случаев, о которых писал Аксель Мунте. Просто хирург, у которого иногда тоже не получается.
Ему показалось, что я его не совсем понял.
– Нет, я действительно против таких наперед заданных типов, – сказал он решительно. – Например: врач-филантроп, разъезжающий по больным от зари до зари, так что даже не ест и не спит. Или главврач в провинциальном городке, всем говорящий «ты» и все на свете знающий. Или большой ученый – занят выше головы, а жена крутит с другим…
Я старался сохранить серьезность, ко мне это давалось трудно. Мой визави сосредоточенно посасывал чайную ложечку. Потом воинственно взмахнул ею:
– Может, я говорю и глупо – я имею в виду все эти романы с продолжением или многосерийные фильмы, где каждому отводится строго определенная роль. А в медицине-то все по-другому. Случайно я в этом мало-мальски разбираюсь: мать у меня операционная сестра.
Ну что же, сказал я себе, фразерства, во всяком случае, могу не опасаться.
Он вздохнул и положил ложечку на стол:
– Вы не рассердитесь, если я не допью этот кофе? Я его не люблю, просто боялся вас обидеть.
Я с жаром заверил его, что меня это ничуть не обидит. И с удовольствием похвалил за такой неформальный подход к репортажам. Было видно, что ему это приятно. Я стал прикидывать, когда назначить нашу следующую встречу.
В дверях показалась пани Ружкова:
– Вы не забыли, что у вас сегодня лекция, профессор?
– Нет, не забыл. Сейчас кончаем.
Он покраснел, как пристыженный школьник, и стал поспешно собирать свои вещи.
– Все ясно, надо уходить. Так всюду поступают. Пригласят сесть, потом заходит секретарша и говорит: у шефа неотложные дела. Я знал, что ничего не выйдет.
– Да погодите, – одернул я его, – зачем так сразу в амбицию! Меня на самом деле ждут студенты, это не отговорка. Поймите же, мой день расписан по часам, вы ведь меня не предуведомили о своем приходе.
Он недоверчиво вскинул глаза:
– Так вы меня не выгоняете?
– Нет, – подтвердил я и добавил, чтобы его успокоить: – Понятно, секретарше хочется иногда оградить меня от лишних посещений. К вам это не относится. Ведь я мог прямо ответить, что отказываюсь дать вам интервью.
Он просиял. Теперь это опять был Пепик Фенцл с улыбкой от уха до уха.
– Нет, правда, вы меня обрадовали. А я уж думал, вы такой же, как…
Он не договорил.
– Как кто?
– Да ну-у… Обидитесь, пожалуй.
Не знаю, какого рода честолюбие подвигнуло меня не быть таким же, как другие, с которыми ему так не везло, но мне вдруг очень захотелось, чтобы как раз этот репортаж у него вышел.
– Знаете что, – предложил я, – давайте-ка сюда вопросы, если они у вас составлены, и к вашему приходу я попытаюсь подготовить кое-какие заметки.
И это его не устроило. Вопросов у него не оказалось.
– Я думал, вы мне, может быть, опишете, как протекает ваш рабочий день. Или расскажете, что интересного произошло у вас в клинике за последний месяц. Возможно, вспомните и что-то из прошедшего. Или из личной жизни – это уж на ваше усмотрение.
– Ну вот и ладно. Так-то еще лучше. Прикину, а потом сообща дотянем.
С этим он наконец согласился.
– Нам все равно понадобится ваша фотография. Я приведу фотографа из нашего журнала. Она хоть желторотая, но дело понимает. Так что не сомневайтесь – ничего вымученного и застывшего. Это будете действительно вы.
Я не мог удержаться от иронии:
– Ну хорошо, хоть вы меня ободрили. А то, знаете ли, в моем возрасте…
– Вот именно, – горячо подхватил он. – Но вы ее не знаете, она из чего хочешь конфетку сделает.
Что можно было возразить? Сам напросился. Я предложил ему зайти через три недели.
– Исключено, – категорически отклонил он предложение. – Это должно быть у меня через неделю. Поймите, то, что вы расскажете, будет никуда не годно – придется все литературно обрабатывать.
Вот это да! Хороший допинг после учтивых петиций аспирантов, ждущих моего оппонентского резюме.
– Ну, это слишком рано, – начал торговаться я, – давайте через две недели.
Он уже ничего не предлагал. Оставил мне свой адрес.
Фамилия его была не Фенцл – смешно было предполагать это. Такие совпадения бывают крайне редко. Ведь я не знал даже, что сталось с Пепиком, не говоря уже о том, есть ли у него сын.
Прощаясь, он с таким искренним расположением стиснул мне руку, что у меня заныли пальцы. Спросил, надо ли предварительно позвонить через две недели.
– Ну разумеется, – сказал я, – придется ведь изыскивать для вас время. – И я заговорщицки указал пальцем на дверь в приемную у себя за спиной.
– А что, если она меня не пустит? Я все равно заявлюсь!
Да заявляйся уж, черт с тобой! Я закрыл за ним дверь и полминуты вслух похохатывал. В кабинет сунула голову секретарша и очень испугалась, увидев, что я один.
– Простите, что я его впустила, – начала она оправдываться. – Он сказал, ему надо обговорить какие-то сроки. Я думала, он медик. Потом стал о вас расспрашивать, и я поняла, что это из газеты. Но выгнать его уже не было возможности.
– Ничего страшного, – успокоил я ее. – Милейший паренек. Этакое, знаете ли… дитя природы – никаких околичностей.
Она негодующе тряхнула головой:
– Дерзкий он! Вы слишком мягкий человек, профессор. Люди не хотят понять, что у вас нет на такие вещи времени. Такая у вас работа – а они…
Старая добрая пани Ружкова! Дрожащими от возмущения руками подкладывает мне на подпись несколько медицинских заключений. Взгляд у нее при этом порицающий, ведь я все еще не могу удержаться от смеха.
Больше всего это позабавит Итку. Что-что, а чувства юмора Итке не занимать. «Неплохо ты устроился, – скажет она. – О перспективах нашей отрасли напишет Кртек – он старший доцент, секретарь общества по распространению политических и научных знаний, – список работ для «некролога» подготовит секретарша, тебе останутся одни раздумья и воспоминанья».
«А то возьмем-ка лучше отпуск, – предложу я. – Сбежим от всего – от статей, чествований, репортажей…»
И уже слышу, что отвечает на это моя жена:
«И опять-таки нет! Обещанья давать мы горазды, а выполнять их… Кто всю жизнь провозглашал эту истину? Так что давай пиши заметки и воспоминанья – пускай твой «Фенцл» блеснет. По крайней мере убедишься, что обещанного три года ждут».
Да, теперь ничего не поделаешь. Но в конце концов, две недели – порядочный срок, что-нибудь придумаю. Ведь если уж на то пошло, любой больной у нас переживает экстремальную ситуацию: операция, болезнь, выздоровление или смерть. Что ни больной, то человеческая судьба. Но, положа руку на сердце, может ли хирург подходить к пациенту с такой меркой? Рассмотреть каждый отдельный случай с такой дистанции – значит вычленить его из общего ряда. Существенная разница: видеть перед собой на операционном столе опухоль спинного мозга – или приятеля, которого знаешь двадцать лет. Большинство хирургов близкого человека вообще не оперируют.
Корреспондента, вероятно, занимают разные сенсации, необычайные катастрофы, несчастные случаи – а мы таких вещей не любим. Кому-то раздавило грудную клетку подъемником, сцепщик угодил головой между вагонами, шофер грузовика извлечен из-под горящих обломков. Рутинная информация для «Происшествий». Но кто из читателей мог бы представить себе, что значит для врача получить случай травматической эмфиземы легких или разрыва печени? А как удалить мелкие обломки костей черепа при тяжелой травме? Или что это за работа – оказание помощи при множественной травме головы с ожоговым шоком в придачу?
Нет, мы, врачи, не любим подобных сенсаций. Иногда у нас этих критических ситуаций по горло. Особенно, когда приходится вызывать кого-нибудь из родных и сообщать худшее.
Я поймал себя на том, что бесцельно стою у окна и гляжу в сад. Уже зацветают липы. Их медвяный аромат сильнее запаха дезинфекции, неумолимо проникающего по утрам ко мне в кабинет из коридора. Подумать только, на какие размышления навел меня этот юнец. Рассказы о людях ему подавай! Конечно, в них неизбежна патетика и то, что стократ повторенная критическая ситуация не в состоянии заглушить ни у кого из нас простой человеческой жалости. Пресловутый цинизм докторов – это фикция. Его особенно рьяно демонстрируют наши начинающие – те, которые бледнеют, когда не удается остановить кровотечение или когда больной умирает на столе. Курьезно, что потом они изо всех сил стараются казаться равнодушными. Обычно начинают рассказывать в ординаторской соленые анекдоты. И смеются так, что и в сестринской на втором этаже слышно.
В дверях опять показалась пани Ружкова. Да. Лекция. Сейчас иду.
– Еще вас дожидается пан Узел с этим мальчиком.
Как же я мог забыть? Надо им уделить минутку, они пришли проститься.
На мальчике еще пижамка и больничный халатик. Голова только начала обрастать светлыми волосенками и похожа на кеглю с большими ушами. Несут букет, завернутый в прозрачную бумагу. Дед в форме лесника и крепких башмаках, какие носят в горах. Большим носовым платком утирает лицо – на улице душно.








