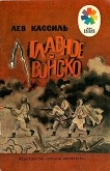Текст книги "Унтовое войско"
Автор книги: Виктор Сергеев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 42 страниц)
– Разве Николай Николаич пал духом?
– Он как будто между молотом и наковальней. Из Петербурга на него сыплются удары и здесь… не лучше. Петрашевский с Завалишиным пишут, о чем хотят, а жандармское отделение молчит. Когда это было, чтоб синие мундиры не заметили либеральных взглядов? Попробовали бы те либералы напасть на любого самодура-сатрапа! А на Муравьева можно. Вот он и смотрит на все сентябрем… В Петербурге ему пакостят, как только могут. Вот уж совершенно прав революционер Герцен! Он твердит, что наш Муравьев без всякого сравнения умнее и честнее всего кабинета совокупно. Истинно так! Хотя и слышим это от революционера…
Карсаков покачал головой:
– Просто не ведаю, как и быть. Сердце падает. Тяжело видеть нравственное состояние этого редкого человека. Он же святая простота.
– Из всех сил бьется, чтобы достигнуть лучшего.
– А находятся клеветники! И вот он теряет последнее здоровье и убивает в себе энергию.
В приемную то и дело заглядывали офицеры и чиновники управления. Карсаков и Волконский вышли.
В губернаторском доме у Николая Николаевича в присутственные часы был назначен общий прием. В главном зале разместились военные и гражданские чины. Отдельно стояла молодежь – старшие ученики гимназии. В смежной комнате разместилось купечество с городским головой..
Все находились в напряженно-тревожном ожидании. Что-то будет?
Из кабинета вышли военный и гражданский губернаторы. Они были спокойны. И те, кто ожидал приема, успокоились.
И тут распахнулась дверь кабинета. Многие даже ничего не успели заметить, не то, что разглядеть. Оттуда не вышел и не выбежал, а скорее вылетел разъяренный граф. Стоящие у дверей увидели перекошенные гневом черты его лица, дрожащие губы.
Сделав несколько шагов, граф подобрал саблю, оперся на нее и заговорил громко:
– Господа! События последнего времени, потрясшие наш край… Бог знает, что такое… Кругом ненависть и злоба моих недоброжелателей. А тут еще эта злополучная дуэль. Предостаточная тень легла на все мое управление Восточной Сибирью.
Господа! Кому как не вам знать, что до моего приезда сюда управление краем было… помойной ямой. Все и вся покупалось за деньги. Купцы и чиновники, перероднившись и перекумившись, все были отъявленными взяточниками, грабили казну и давили народ. Взятки вошли в привычку, они не считались не только преступлением, но и делом сколько-нибудь зазорным.
Всякое подобие правосудия исчезло. Мог ли я терпеть это?
Нет, нет и нет!
Я чистил эти авгиевы конюшни, сколько было во мне сил, и вычистил!
Отныне сибиряк-крестьянин, ссыльнопоселенец и бесправный каторжанин получили понятие о правосудии, доступности власти и существования чиновника, который не берет с них ничего.
Каюсь, прибегал я иногда к, мерам деспотичным, но оставался всегда бессребреником, полагая, что несу пользу отечеству. Да, бывал я тяжел и крут, но всякое новое деяние не утверждается легко.
Господа! Я сознаю, что больше всего наломали мы дров на Амуре. Все помыслы свои, все чувства сосредоточивал я на этом деле – детище моем… – Голос графа зазвенел, готовый сорваться на тонкий вскрик. На глаза его навернулись слезы. Все те, кто еще только что смотрели на него, опустили головы. – Я сознаю, – продолжал с трудом граф, – что амурское дело часто вовлекало меня в проруху и я попадал впросак. Не для себя я старался, а для России. И она меня будет судить!
Муравьев-Амурский замолчал, пронзил взглядом присутствующих и при гробовой тишине быстро прошел в залу и остановился перед гимназистами и молодыми чиновниками.
– Ну, а вы, пасквилянты, что дадите России? – грозно спросил он и, не получая ответа, продолжал: Готовы ли вы бескорыстно служить народу или по-прежнему дышите затаенной злобой и ненавистью чиновника-туземца ко всем «навозным», кто, по вашему воображению, десятками налетают ежегодно в Иркутск за чинами и орденами? Вам ненавистно видеть, что к своим «навозным» присным я питаю слабость, няньчусь с ними и тешу их, щедро расточая им чины и кресты, вручая самые деловые и серьезные места на управление краем А кто же, как не они, таскались и таскаются со мной по мертвой тундре! Кто, как не они, ставили оборону Петропавловского порта! Кто, как не они, терпя лишения, уходили в сплавы по Амуру, переносили холод, лихорадку, недоедание! А вы что делаете в свои молодые годы? Протираете штаны в присутственных местах да слушаете, как ваши седовласые родители поносят Муравьева за то, что он не давал им грабить казну и народ.
Полюбуйтесь-ка на них!
Да, надо признать, что не все те, кого я взял к себе на службу, оправдали мое доверие. Я прогнал тех от себя и строго наказал. Я готов раздавить собственной рукой всякого моего фаворита, если он окажется взяточником и пачкуном. Да будь у меня сын, единственный и нежно любимый, замечен в подлости, я зарядил бы им пушку и выстрелил бы!
А ваш удел – сгибаться в перегиб да ждать наследства… чего еще?
Да, годами вы молоды, а для великих дел перестарки!
Муравьев-Амурский отошел от молодежи и приблизился к группе военных.
– Я всегда гордился офицерами своей армии, которая не знала поражений от англичан и французов, – сказал он. – И вот теперь слышу, что зимовка наших войск на Амуре была похожа на зимовку Наполеона в России. Какая клевета! И кому, как не вам, военным, раскрыть ее!
Да, при отходе наших войск с Амура погибло от голода и морозов до трехсот солдат, казаков и офицеров. Не хватило провианта, теплой одежды…
Куда вы смотрели, господа? Богородицей сидели?
Вышел из строя начальник штаба, доложил:
– Ревизией установлено, что купеческие гильдии сорвали поставки для армии, ваше высокопревосходительство!
– Вот как! Помилуйте, что они творят!
Граф, казалось, только и ждал, чтобы обрушиться на купечество. Он забыл о военных и скорым шагом проследовал в смежную комнату, где расположились гильдейские.
Граф остановился на пороге, потряс саблей.
– Ну, купцы-бонвиваны, – крикнул он, – всяко мы с вами жили! Вы мне кровь пускали, ну и я вам ее пускал. Да только я с вами всегда по-честному… Я знаю, вы ненавидите меня за то, что в Кяхте мною установлено градоначальство, от Иркутска отделены Забайкалье и Якутия. Вам есть от чего приуныть. Пресеклись все ваши незаконные влияния на дела тех мест, а ведь тем влиянием вы пользовались давно через здешнюю губернскую власть. Монополия иркутских гильдий дала трещину, и немалую. Потерпели вы урон… полупочтенная публика.
Ну да, где надо, я и защищал вас. Есть ли тут, среди вас… Петр Дормидонтыч?
– Есть, как же… мы здесь, ваше высоко-прес-дит-ство! – отозвался испуганный Ситников.
– Помнишь ли ты, если не куриная у тебя память, как на твой богатый прииск покусился петербургский вельможный откупщик?
– Как же… Это для меня на всю жизнь истинное памятованье!
– Хотел он твой прииск прибрать себе… устроить это дельце через генерал-губернатора… административным порядком. Да не вышло!
А ты, Ситников, сознайся, что был уверен: его сиятельство так и распорядится – отберет у тебя прииск для влиятельного петербуржца. Думал так?
– Всяко думал. Все так думали, ваше сиятельство! Муравьев-Амурский повысил голос:
– Да разве во все годы моего управления я сотворил что-нибудь такое, что давало бы право делать обо мне подобные суждения?
– Мы полагали, что вашему сиятельству предпишут из Петербурга.
– Из Петербурга? Пусть! Если предпишет благоглупость министр – не исполню. Если сенат даст указ, должен буду исполнить, но все силы положу на то, чтобы сенат не дал такого указа.
Вы, иркутские купцы, ограждены законом. В честной торговле вам от меня помешки не будет. Сами не воруйте, так и вас не тронут. А вы, я гляжу, выставляетесь полузнайками. На Амуре хлеба мало… из-за вас. Нынче опять мало муки и солонины. А завали в лавках полно. Взыщу я с вас!
Голос графа гремел, постелено возвышаясь. Купцы притихли, опустили головы.
Муравьев-Амурский принял генерала Карсакова. Граф собрался в Петербург, чтобы подготовить сдачу поста председательствующего в совете главного управления Восточной Сибири давно выбранному преемнику своему.
– Николай Николаич, я недоволен газетой «Амур», – сказал Карсаков. – Да не я один. Она подстрекает общество. Эта газета…
– Ты недоволен «Амуром»? Разумеется, если там главный сотрудник Петрашевский, то газета и не может идти хорошо. А потому запрети печатать эту газету типографии, тогда редактору останется только переписывать свою газету через писарей. Меру эту я советую тебе принять немедленно. Редактору же объяви о том, чтобы он перестал метать петли и устранил от сотрудничества Петрашевского. А то пусть пеняет на себя, ибо клеветы и злобы мы не можем допустить в газете, которая находится под моей цензурой. Да и то подумай… Чего на них глядеть? Где надо – вымарай строчку. Без цензурной вымарки газеты не выходят. Иначе не избавимся от перлов глупости.
Про меня пишут, что я имею наклонности к петровским манерам, и тот, кто ругает меня в журналах да газетах, тот будто бы спасает меня от самого себя, заставляя меня страшиться общественного мнения. Видишь как… Должен я после всего этого сказать спасибо господину агитатору… Буду оставаться государственным деятелем и к тому же без диктаторских привычек, во всякое время года в белых лайковых перчаточках.
– А как бы вы посмотрели, ваше сиятельство, если бы этого социалиста Петрашевского мы вовсе удалили бы из Иркутска? А то этот пест не знает своей ступы.
– Посмотрел бы одобрительно, пожалуй. За дерзость в доносах и жалобах следует предавать подписавшихся тотчас же суду по распоряжению того правительственного места, куда эта жалоба поступила. Отправь-ка Петрашевского либо в Туруханск, либо в Минусинск.
…Участь Петрашевского была решена.
Глава десятаяНа суде Катерина всех ввела в недоумение: и председателя, и заседателей, и публику. Ей председатель – вопросы о том, да о сем, как да что, а она на него глаза дерзкие зеленые уставила, понесла без остановки о своем венчании… Выходило так, что была она увезена Лапаноговым в Читу, тот будто угрожал, грозил предать ее тело на съедение зверям. Она притворно согласилась с ним обвенчаться, не чувствуя к жениху ни малейшего расположения.
– Вот еще, – прошептал председатель суда Оринкину, – крестьянская мамземля! Сума переметная. Ей и статью нескоро подберешь. Разве, что вот эту… «по глупости и невежеству крестьянского быта». Как думаете?
– Она еще посмела обвинить господ офицеров. Помилуйте, ну и баба! А ведь наружность… Хоть, не красавица, а если одеть как следует, то весьма презентабельна. Завлекательная рожица.
Председатель поглядел на Катерину, глубоко вздохнул и вытер платком лоб.
– Не забывайся! Да ты же сказала священнику, что согласна на венчание с казаком Кудеяровым! Это все слышали и на следствии ты показывала это же.
– Да… нет… Не помню. Обеспамятела я.
– Ну и дура! Не обессудь. Секут вас, секут, да мало-с. Себя издергала и нас всех издергала. Экая ты переметчивая!
Адвокат обратился к Лапаногову:
– Не изволите ли вы пояснить сказанное обвиняемой? Да без извертов!
– Как же… изволюс, – Лапаногов поднялся медведем, давил узловатыми пальцами спинку скамьи. – В рассуждениях она помутилась, обезьянничает слепо по чьему-то наущению, господа судьи. Видит бог, оговорила она меня. Ехала она со мной без принуждения, и ничем я ей не грозил, опросите хоть ямщика, хоть отчима ее. Обескуражен я вовсе. Хотя и по нутру она мне, по нраву.
Катерину решено было наказать лозами, дав сто ударов.
– Но, уважая токмо молодость ее лет, – произнес судья, – и принимая во внимание ее глупость и невежество, свойственные крестьянской жизни, наказать ее пятьюдесятью ударами. Брак Катерины с Кудеяровым оставить на рассмотрение духовного начальства.
Неродова суд посчитал интересантом, во всем искавшим личную выгоду для себя. За бездоказательные претензии и обман с младенцем суд присудил ему двадцать ударов плетьми. Жене его за обман с младенцем уготовили пятнадцать розог.
Суд указал, что казака Кудеярова за венчание без воли родителей невесты и без дозволения начальства своего, а казаков – за содействие в том следовало бы наказать. Но как сие было учинено с благой целью поехать, оженившись, на Амур, чем пособить в налаживании жизни на амурских и уссурийских землях, то суд порешил освободить их от наказания.
В Иркутской духовной консистории дело Катерины не вызвало разногласий. Какие могли быть разногласия, если жених венчался с благородным помыслом отправиться на жительство в амурские края. Всем священнослужителям вменялось в обязанность венчать внеочередно тех, кто едет на Амур. Консистория указала, что по уставам христианским брак сей расторгнут быть не может.
Его высокопреосвященство все же наложил епитимью[57]57
Церковное наказание (поклоны, пост, молитвы).
[Закрыть] на Кудеяровых. Ивана Кудеярова перевели служить из Кульска в Нерчинск. После суда консистории он становился семейным казаком, пожелавшим ехать на Амур.
Первую епитимью Кудеяров совершил. А Катерина и в церковь не явилась, и в Нерчинске ее не оказалось. До Кудеярова дошли слухи, что она «отважилась стоять на своем».
Гантимуров приказал Кудеярову:
– Бери с собой казаков и привези жену в свою обитель. Без Катерины не возвращайся. Наказывать ее розгами будем при сотне, а не при тюрьме. Так и тебе, и ей лучше. Из тюрьмы пришлют надзирательницу, она исполнит то, что отписано Катерине по суду. Разрешите, ваше благородие! Ну. Нельзя ли самому исполнить? Исполню… не хуже надзирательницы.
Гантимуров заколебался:
– Узнают… Определят новую экзекуцию. Я упрошу надзирательницу, ваше благородие. Никто и не вызнает, как есть… Уж не извольте отказать. Извелся я.
– Засечешь ведь ее, поди?
– Что вы, господин сотник! Не извольте думать. По справедливости… по-божески, по-христиански. Хотя и позору натерпелся.
– Ладно уж, по случаю святого праздника… Не хочу тебе отказывать. Но не приведи бог, как кто узнает! Смотри у меня в оба! Понял?
– Как не понять. Да ведь и у надзирательницы-то сердце не волчье. Я их там всех знаю, ваше благородие.
Кудеяров приехал в Выселки с казаками. По задворью прошли в избу старосты. Велели Катерине собираться к отъезду в Нерчинск, чтоб утром была она готова тронуться в путь вместе с сыном.
С Неродовым не обмолвились ни словом. Тот вскорости вышел из горенки в сени и больше Кудеяров его не видел.
Мавра Федосеевна спросила зятя:
– Жить-то будешь в Нерчинске или на амурские земли съедешь?
– Это как начальство укажет. Мы – казаки, люди служивые.
– Это-то так, – вздохнула старуха.
– Можа, укочуем на Амур. Про Амур я давно все думаю да передумываю. Поглядим. Можа, и тронемся. И там жить ладно. На Амуре-то.
– Ты уж прости нас, Иван, – проговорила хозяйка. – Бог простит и ты прости. Катерина-то искропила себя слезьми. Боялась, что в девках засидится.
– Чео уж нам злобиться друг на дружку? Родственники. По закону. Я не злодей какой. Не застращал ее. Просто задерганный человек. Задолбил себе… Ну, а проживем не хуже иных-прочих. Обратного ходу нам нет, а то я бы отступился от Катерины. Силком люб не будешь.
– О приданом бы надо…
– А-а-а, чео там! Что дадите, то и возьму.
Старуха наморщила лоб, потерла ладонью лицо, вспоминая:
– Постель перовая, самовар желтой меди, шуба из мерлушки, крыта зеленой китайкой, с лисьим воротником.
Кудеяров отмахнулся:
– Да ну, чео там!
Ему не хотелось, чтобы казаки слышали, о чем распиналась теща. Но Мавра Федосеевна торопилась загладить свою вину перед зятем.
– У нас хозяйство не из последних, ты не думай чео худого, – говорила она. – Единственной дочери да пожалеть… Я и лошадь дам с ней… мерина игреневой масти, корову с кашириком. Еще постель стеженую. Башмаки сафьяновые на выход. Про доху-то забыла! – всплеснула она руками. – Совсем новая… на сурчатом меху, крыта нанкой дымчатого цвету. А воротник волчий. Те-е-плая!
Кудеяров поднялся из-за стола, поклонился хозяйке:
– Доброта твоя видна, матушка. Я о том не забуду. А только и ты помни, что венчался я с Катериной, не спрашивая с нее ничео. – Он еще раз поклонился. – Ночевать будем на постоялом дворе. Чуть свет – ехать нам.
По пути в Нерчинск Катерина будто бы отошла сердцем. Помягчела к Ивану. Не станешь же все дни молчать да глаза кулаком тереть. Надо к темноте с ночлегом определяться, надо пропитание себе готовить, надо и младенца с кем-то при нужде оставить. Мало ли что…
Кудеяров нет-нет да подсаживался к ней в телегу, глядел на закутанного в материнскую шаль сына, искал в нем что-либо свое, кудеяровское. Ничего не находя, тревожился, вздыхал, курил цигарку за цигаркой.
Катерина, угадав его мысли, полыхнула по нему зелеными глазищами, усмехнулась:
– Не бойсь!
– А я ничео, – пробовал отговориться Иван. – Ты чео?
– А того самого… Вылупился! Младенец, он младенец и есть. Чео тебе? Глядит-глядит… Не узнаешь, что ли? Дак откуда тебе узнать, коли видишь впервой?
– Да ты что! Ну, взглянул. С него не убудет.
– Залез тут… дышать Кольке нечем. Лошадью провонялся.
– Пусть привыкает, – улыбнулся Кудеяров. – Мы, казаки, как конец младенчеству… с конем проживаем. А он, Колька, в формулярные списки Нерчинской сотни вписан. Было бы про то тебе ведомо.
– Да уж ведомо. – Голос ее заметно потеплел. – Я уж и то думаю… Вчерась на станции тянется к мерину ручонкой, можа, погладить хотел, можа, еще чео захотелось. А мерин-то ржет так… потихонечку-потихонечку, чуть слышно. И эдак же пофыркивает и косится на Кольку.
– Казачий младенец… Он, Катерина, молоко материнское, можно сказать, сосет пополам с конским потом.
С того года, как ногами пойдет; расти ему не в зыбке, а в тряпошном седле, проворней будет.
– Не дури, дам я тебе его… как же. Ни за какие коврижки. Оборони бог.
– Я сам коней-то постигал сызмальства. Смолоду к езде под седлом обучен. В станице заведено так. Не с нас пошло, не с нами кончится.
Он взял ее за руку. Не то от этого прикосновения, не то от духовито-бражного запаха соснового леса у нее кружилась голова, щемило в горле. Душевная тревога томила ее.
С гор, видневшихся за лесом, спускались тучи, пригасив вечерний закат. Между вершинами посвистывал угонистый горный ветер. По ложбинкам и впадинкам выстилались там и тут снеговые скатерти. Они уже подтаивали. Часто попадались заросли голубичника и кипрея.
Она высвободила руку из его пальцев, вздохнула:
– Ну вот… поимел своего. Облагодетельствовал. Чео хотел – замыслил… Обхаживал, как норовистую лошадь. А зачем? Никогда не приносить тебе заклада от невесты – ни кольца, ни головного платка со цветочками. И никто из твоих сродственников не приедет в Выселки, не зайдет в мой дом, не сядет под «матку» и не скажет: «У вас, слыхали, бел ленок, а у нас ковылек: хорошо бы их соединить». Не скажет. Не-ет Никто уж не пообещает моей матушке, что на чужой жениховой стороне будут ее доченьку ласкать и холить, беречь от тяжелой работенки, сошьют ей шубу новую, купят шаль терновую… Вместо невесты-лебедицы бабу поротую, под судом бывавшую, получишь. Обмишулился ты. Будем жить в окаянстве. Вечные перекоры…
– Ну и созлая ты! – не удержался Кудеяров, соскакивая с телеги. – Ни с какого бока не подойдешь. Вот так клюква! Но запомни. Беда эта избывная. Обрящить себя надо.
– Страшно мне, Иван. Муторно на сердце, – призналась она.
– Поротья испугалась?
– Обезобразят тело, обесчестят.
– Эка невидаль! Нас, аников-воинов, все годы службы порют.
– Вы – мужики.
– Бабы, они мужиков живучее.
– Да уж… какое! Как сдумаю о том, что растелешат меня при всем народе… Стыдно ведь. И страшно. Под сердце холод подкатывает.
«Сказать ей, что пороть то я буду? – подумал он. – Не-ет. Погожу еще. Скажешь… Она, черт знает! Чео натворит после того – одному богу известно».
– Застегни душку-то, а то простынешь, – грубовато сказал он.
Сзади, нарастая, дробились цокающие звуки. Похоже, что камни сыпались на дорогу. Облако пыли выползло на сосновый подлесок, звуки приблизились. Кудеяров оглянулся. Из-за поворота показались всадники. Шеренга, еще… Пыль отлетала из-под копыт, подрагивала земля. К Кудеярову подъехал Жарков.
– А это-то казаки, Ванюха. Никак всей сотней прут. Язви тя! Давай ослобожать путь. Катерина, правь в сторону… во-он на то перелесье!
Были уже различимы лошади вороной масти, шедшие на рысях. Под бараньими папахами серые пятна усталых равнодушных лиц.
Проскакали сотник с хорунжим. Оба усатые, пожилых лет. Казаки отдали им честь.
Мимо проносились казаки по двое в ряд с закинутыми на плечо пиками. По седельным сумам было видно, что путь у них дальний.
Жарков, дурачась, крикнул:
– Эй, воины унтовые, царские слуги, откелева вы взялись? Из какой станицы?
На его крик отозвался кто-то из рядов тенорковым голосишком:
– Чео тут торчишь, как гвоздь в дощечке? Заворачивай с нами!
– Туза тебе в зад! Куда это я заверну?
– А на Амур, борода!
– Храни вас царица небесная!
Сотня ускакала. Осела пыль в кустах боярышника. Приглушился, ушел в каменистую твердь цокот копыт.
– Всё на Амур, на Амур! С кандибобером проследовали, – проговорил восхищенный Жарков. – Экую прорву людей нудят! Исполать вам всем!..
На последней станции перед Нерчинском казаки остановились передремать ночку. Во всех закоулках селения стояли подводы с распряженными лошадьми.
Подъехали к ближайшему костру. У огня возилась над казанком баба в ветхой куртке. Старое овчинное одеяло свисало с телеги. Тут же лежала шуба козлиная. На шубе валялся пустой штоф с дырой возле горлышка.
Бутыль-то битую пошто на Амур-реку тащишь? – спросил Жарков.
Баба подняла голову. Не разобрать, каких она лет. По лицу будто молода, а по глазам стара. Глаза у нее запавшие, маленькие, слезящиеся и пустые, бесцветные.
Она не расслышала слов.
– Кого будешь на Амуре-то делать? – громко спросил Жарков.
– Кого? Как все люди, так и я. Миряне-общественники… И я с ними. Бог поможет, – ответила баба, осеняя себя крестом. – Погрейтесь, казачки, коли зазябли в дороге.
Кудеяров и Жарков спешились, подошли к огню. Жарков все допытывался, кто она да почему в путь-дорогу пустилась. Баба сказала, что муж ее, казак, помер, схватил кондрашку в прошлом году.
– После смерти мужа, – пояснила она, – перебивалась опивками и объедками, задолжала людям.
Жарков, свертывая цигарку, посоветовал:
– Тебе бы просьбу подать по начальству.
– Подавала. Кадила властям. Вашему благородию, милостивому государю… командиру полковому.
– Ну и че?
– А че… Перед богом проливаю слезы. Вербовщик тут приехал в селение, ну я и решилась. Заблудшая овца. Опостылело мне. Начальнической милости не дождалась. Оскребышей испекла да и в путь собралась. За неотдачу долгов свели бы в кутузку. А на Амуре-реке все же должно лучше.
– Да-а, – протянул Жарков. – Язви тя… настрадалась ты, баба. Дай тебе бог какого ни на есть счастья на той реке.
– Спасибо, служивый, на добром слове.
На огонь пришел густоволосый чернявый мужик в шинели серого сукна, подпоясан ремешком, в унтах. Глаза цыгановатые, борода сивая.
– Не наложишь ли, Марья, заплату? – спросил он бабу.
– Отчего не наложить, показывай. Охо-хо-нюшки!
Жарков сделал шаг к мужику:
– А я тебя узнал. Каков гусь!
Мужик повернулся к нему, ощерил зубы:
– Много вас ездит тут…
– Поймали мы тебя возле села Ключи. Вспомнил?
– Не. Обличье твое знакомое. Бежал ты в ту пору с Алгачинского рудника. Зовут тя Ефимом Холодовым. Не забыл? Десять рубликов на тебе заробил.
– Никакой я не Холодов! Не ошельмован…
Кудеяров присмотрелся к мужику. Это был тот самый беглый, в которого он стрелял из пистолета. Ну да. Тот самый Ефим. Просил зарубить шашкой, не сдавать на Кару. Их тогда трое было. На зимниках.
Жарков, посмеиваясь, играл с Ефимом в кошки-мышки:
– При поимке чинил ты отбивательство завостренным длинным шестом, а когда вышибли из рук твоих тот шест, тогда зачал бросаться каменьями и кричать, что живым в руки не дашься.
– То не я. Обрати в шутку, казак.
– Принужден я тогда был применить оружие. В отстрах выстрелил из карабина, ты испугался и дал себя связать. Сдал я тебя сельскому старшине. Увезли на Кару.
– Не я же, – упрямо твердил Ефим. – Обмолвка твоя.
– Помню, что одет ты был в шубу старую из яманьих шкур, в шапке овчинной, при себе имел, мешок холщовый, а в оном такой же поменьше, а в нем огниво, нож в кожаном чехле.
– То не я. Оговор напрасен.
– Ну, пусть, язви тя! Ты скажи, куда навострился? На Амур?
– На Амур. А зачем тебе? Какая одурь взяла? Места там глухие, народишку мало, да и тот бедняцкого толку. А здесь тебе вольготно. Где милостыню возьмешь – до вечера гривенник. Где стащишь-натибришь… если плохо лежит. Осенью в огородах, в полях все поспевает. Бери, сколь хошь. Барашка прирежешь в бурятском кочевье. Кто дознается? Осень так-сяк пройдет, к зиме на отсидку явишься – на заводские работы. А весной опять утекешь… Как полая вода. На Амуре же ничего этого тебе не поддует.
Ефим зло сверкал глазами:
– Сказал бы я те… Да ты с карабином, а у меня ноне даже завостренного шеста нет. Будешь на Амуре, поспрашивай там по станицам Ефима Холодова. Тамотко уж мы с тобой поговорим душевно… А ныне что? Того и гляди, скрутишь руки.
Ефим шагнул за телегу, в темень…
Жарков присвистнул, хохотнул:
– Повернул оглобли и про заплату позабыл!
Иван и Катерина стояли на берегу реки. С шуршанием и стуком проплывали льдины с кучками конских катышей, с вмерзшими ворохами сена и соломы. Сырой ветер трепал концы ее шали – то закидывал за спину, то срывал на грудь.
Одна жизнь была у них уже позади, а другой они еще не успели познать. С час назад, приняв епитимью, они подписали в церкви клятву:
– Перед богом объявляем себя мужем и женой до конца дней своих!
От ненависти до любви один шаг… И они его сделали.
У нее отлегло от сердца, когда она узнала, что наказание над нею разрешено исполнить Кудеярову. Муж побил, а не палач государственной службы. Эка оказия! Муж побил… Мало ли мужей эдак-то делают. Кто на сие смотрит? Э-э-э! Никто.
Иная жизнь открывалась перед ними, они не думали о том, какая она будет.
Катерина посмотрела на мужа глазами с поволокой.
– Соком ты мне вышла, – сказал Иван.
– Зато нам теперя сносу нет.