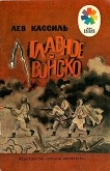Текст книги "Унтовое войско"
Автор книги: Виктор Сергеев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 42 страниц)
– Никак нет-с! Все соблюдается в наилучшем виде.
– Продолжай, – велел Муравьев переводчику.
«А посему вам лучше пораньше возвратить с Амура всех своих людей и тем поддержать дружбу с нами.
Генерал-губернатор! Ты, нарушивши дружественные отношения…»
– На ты обращается! – удивился Муравьев. Куда как невежлив амбань ваш, – сказал с укоризной Куканов маньчжурскому офицеру.
Маньчжур ответил, что у него нет прав обсуждать действия амбаня Юй Чена.
– Откуда взялся этот Юй Чен? – спросил Муравьев полковника. – Там был, я помню, Фуль Хунга, куда умней…
– Юй Чен из военных. Командовал гарнизоном в Айгуне, а ныне губернатор.
Муравьев кивнул переводчику. Тот переводил далее:
«…Сряду четыре года плавал и плаваешь вверх и вниз и построил много домов и складов по берегу. Какая этому непременная причина?
Просим тебя, генерал-губернатор, тщательно размысливши высокими мыслями твоими, не разрушать доброго согласия двух государств и избавить от хлопот и беспокойства войска двух государств».
Муравьев взял бумагу от переводчика, повертел в руках, усмехнулся:
– Переводи ему, – указал глазами на офицера-маньчжура. – Переводи так… «Поскольку нашего посла в Пекин не пустили, то нет и предмета для переговоров, почтенный амбань, и я не могу принять ваш лист и входить с вами в переговоры». Перевел? Ну вот. Далее так: «Прошу вас словесно обращаться к господину… – подмигнул полковнику Куканову, – к господину, мною назначенному, как к власти для левого берега. Та власть – полковник мой – равна по степени амбаню». Перевел? «Письменных же листов он, Куканов, брать у вас не может, ибо не имеет при себе переводчика». Спроси офицера ихнего, все ли тот понял, а если понял, то спроси, не желает ли их благородие откушать чаю. Лист этот верни ему, как я велел.
Маньчжурский офицер от чая вежливо отказался, и гости отплыли в Айгунь.
– Нет на свете дипломатов, Потап Ионыч, – обратился Муравьев к Куканову, – более тяжелых и несговорчивых, чем китайцы. Вел я переговоры с ними при последнем случае в Мариинском посту, времени истекло с той поры до полутора лет, а из трибунала внешних сношений никакого звука – ни согласия, ни отказа. Хотя… местные пограничные начальники писали в наш сенат после того, что они не считают себя вправе докладывать своему правительству мнение Муравьева о разграничении земель. Ну так что же? Я ведь не лыком шит. Добился от государя… По его высочайшей воле предоставлено мне право ответить местным китайским начальникам, что раз они меня не признают, то и я их не признаю, и их доклад сенату нашему я могу приостановить… что мною и исполнено.
Куканов вскинул брови:
– Приостановили, ваше-ство?
– Ну да. Они надо мной куражатся, а я над ними куражусь.
– Вчера купец пожаловал, с той стороны переплыл. Ци Шань… Интересовался, что русские могли бы у него купить. Из самого Пекина аршинник-то. Врет ли, нег ли? Сказывал Ци Шань, что в столице у них удивляются, как русские смелы, что ходят по Амуру и поселяются на нем. А еще сказывал, что богдыханское правительство близко к банкротству и пограничные начальники боятся генерал-губернатора. Это, стало быть, вас, ваше-ство, боятся как огня, и твердят себе, что этот генерал сделает что захочет, и если ему вздумается им вредить… – Куканов хохотнул в кулак, – право, чудаки! Оттого, что вредить им будете, ваше-ство, трудно им будет спастись. Чудеса да и только! Это вы верно изволили заметить, Николай Николаич, что дипломаты они тяжелые, а я бы добавил, что и странные. К чему бы это им выдумывать, что вы станете им вредить, а им от сего вреда трудно спастись?
– А то и выдумывают, Потап Ионыч, что они кругом запутались в неправоте своей и ничего делать не хотят, а хотят либо туману напустить, либо на рты замки навесить. Но очевидно то, что китайское правительство молчанием своим признало за нами право владения и обязанности защищать устье Амура и острова Сахалина.
– И все же это молчание, смею заметить, есть новая и продолжительная безответственность пекинского кабинета.
– Их молчание не может быть принято иначе, как за знак согласия на сделанные мною предложения на Мариинском посту. Посудите, полковник… Мы открыли прошлой весной навигацию, казачьи посты были по всему левому берегу, начиная от Усть-Стрелочного караула. И ведь что забавно! Главный-то караул здесь, на Усть-Зее, на виду крепостных башен Айгуня, и ты, начальник сего поста, постоянно в сношениях с китайскими властями. Все законно, чинно, важно. И все запутано. Кругом недоговоренности.
– Левый берег занимать не препятствуют. Но и нового трактата не заключают. Что сие означает?
– Этот Ци Шань… Может, паче чаяния, и правду привез тебе о банкротстве богдыханского правительства. Оно боится предать гласности занятие русскими левого берега. Боится и западных держав, и междоусобицы в государстве. Свои же подданные дадут коленкой…
– Ци Шань сам боится этих подданных. Как бы не турнули… «Лучше, – говорит, – быть чертом в большом храме, чем – богом в маленьком».
Под тентом уже жарко, во множестве появились пауты, и Муравьев пожелал отдыхать в палатке, а Куканов поехал наблюдать, как молодые казаки осваивали шагистику и строй.
Вести от Путятина по-прежнему не вносили ни ясности, ни утешения. Посольство его застряло в южнокитайском порту Тяньцзине, и путь на Пекин для адмирала все еще был закрыт.
Ефимий Васильевич в письмах к Муравьеву выказал себя деятелем неуравновешенным, легко переходившим из одной крайности в другую и склонным к авантюрам. Высказавшись за переход наших войск на правый берег для занятия Айгуня, он теперь уже, с берегов южно-китайского моря, настаивал на отозвании нашей духовной миссии из Пекина и закрытии кяхтинской торговли.
Николай Николаевич решительно возражал адмиралу, утверждая, что все это привело бы к разрыву всяких сношений с китайскими властями, а это только на руку западным державам.
Опасаясь, что в Петербурге поддержат полномочного посланника, Муравьев сел за письмо в министерство иностранных дел.
Глава третьяВанюшка Кудеяров ехал неторопкой рысью. В Нерчинск ему раньше воскресенья возвращаться незачем. Надо было купить в братских улусах строевого коня для посланного из Оренбурга на службу в нерчинскую команду хорунжего.
Тот хорунжий из Оренбурга все навязывался к Ванюшке покупателем его мерина, а продавать лошадь не хотелось: привык к ней. Да и мерин привык к Ванюшке, понимал и слушался хозяина. Он обучен службе на этапах – выезженная на славу лошадь. Тут, на этапах, порой бывала такая катавасия, что о-е-ей! То в побег кто ударился, то буча среди арестантов, и надо, чтоб лошадь у казака толпы не пугалась, шла на нее смело. А у мерина страха нет и хороша побежка. Бока неотвислые, подбористые.
Кудеяров пообещал хорунжему коня, лишь бы тот отвязался от Ванюшки, а то ведь, что ни день, твердит свое: «Переуступи лошадь, переуступи…».
Без всякого сожаления думал Кудеяров о Нерчинске – о грязной с лужами базарной площади, где пахло мукой, соленой рыбой, дегтем, рогожами, где с утра и допоздна переругивались между собой лабазники, приказчики, городовые, наезжие из станиц и деревень казаки и крестьяне, о мутной и мелкой речушке Алтачи, в которой можно было найти и дохлую кошку, и труп зарезанного невесть кем безродного бродяги, о мрачных желтых отвалах заброшенных шахт, в коих, по слухам, можно ходить по человеческим костям.
Проезжая закрайкой леса, Ванюшка глядел и не мог наглядеться на кудрявую навесь березовых листочков, усыпанных капельками после недавнего дождя, на синюю дымчатость богородской травы, от которой попахивало не выветрившимся с самой весны запахом проходивших тут овечьих стад, на оспинные пятна тарбаганьих нор, темневшие по склону луга.
Мерин его все пытался то сорвать на ходу шматок клейких духовитых листьев, то тянул морду под ноги, почуяв остропряный запах молодой полыни.
От солнца, томившегося над ним в высоком небе, от прохладного сиверка, набегавшего с безлесых каменистых гребней сопок, от озерных разливов богородской травы и остреца – от всего этого было приятно и покойно на душе.
Ванюшка вспомнил, что хорунжий просил выбрать коня хороших ладов – ретивого, крепкого, чтоб и рост, и длина, и ширина, и плотность костей, и сухость мышц – как надо. Вынь да положь… Чтоб видно было в коне свободное и легкое движение плеч, высокий подъем ног. «А не то, – сказал хорунжий, – купленого возьмешь себе, а мне – твоего мерина». – «Это тебе не Урал-река, – улыбнулся Ванюшка. – Зачем коню рост, ширина, высокий подъем? У нас этап погонишь на пятьсот верст, тут тебе мороз, буран и сена нет, и воды… Ковыль люд снегом добыл и будь доволен. Какая тут ретивость? Не сдохла бы лошадь – об этом печалься».
Тропа увела его от леса. Повсюду тянулась старая гарь, заросшая плакун-травой – красным и розовым кипреем. Ванюшка помахивал витой нагайкой, сбивал лепестки кипрея и жадно вдыхал густо настоянный на меду воздух. Над гарью стоял душный и сладкий дурман, не пускавший ветер. Конь, пока шел сквозь заросли, взмок, грива и хвост повисли, измочалились.
За гарью открылся луг в желтых чашечках лютиков. Виднелась пасмурная полоса леса. На опушке разбросаны зимники бурят.
«Заехать, че ли? – подумал Кудеяров. – Коня напоить…» Поправив по привычке черный гарусный с кистями пистолетный шнур, он огляделся вокруг – никем никого – и успокоенный тронул коня.
Объезжая жердевую изгородь, Кудеяров поглядывал настороженно на окошки из мутной слюды и потрескавшееся облезлое корье крыши. Что-то пугало его. Будто нашептывало: «Неусыпно гляди». А что пугало? Раздавленный лопушник возле жердей? Зверь мог плутать, скот бродил… Тишина на зимниках? Даже птиц не слыхать… Могла бы хоть какая ворона взлететь. Ну и что? Вороне тут поживиться нечем.
Высвистывая песенку, Кудеяров заехал в жердевой прогон, осмотрелся, ища колодец. Копыта коня мягко застучали по слежавшимся кучкам навоза. Остановив мерина, он хотел спешиться и осмотреть избу. Но чувство близкой опасности не отпускало его. «Попробую резко развернуть коня…»
Натянув поводья он поднял лошадь на дыбы и направил ее рысью от избы вдоль изгороди. Обернувшись увидел, как из дверей выбегали мужики-оборванцы с кольями.
Кудеяров почувствовал, как жар охватил его тело и в груди будто бы что-то оборвалось. Он видел, что если дать шпоры мерину, можно успеть проскочить в прогон и избежать нападения. Но он не хотел показывать спину: могли кинуть нож, камень… Могли перебить колом задние ноги коню. Да и его самого достать…
Нападающих было трое. Обросшие, с горящими злобой глазами, одетые в серые посконные одежды, в рваных унтах, перевязанных выше колен ремешками, в войлочных шапках, они набегали на Кудеярова, потрясая кольями и выкрикивая ругательства.
– Эй, кол тебе в рот! – орал тот, что встал возле прогона. – Слезавай с коня, так твою так!..
Остальные сбавили бег, с поднятыми кольями приближались к казаку.
– Слезавай, – повторил задыхаясь ближний мужик в широких портах. – Жизнь твою не тронем, а одежда, обутки наши.
Кудеяров вынул пистолет из кобуры. Те двое остановились. Ввалившиеся щеки, трясущиеся рты… В глазах отчаяние, слезы…
«Беглые, – подумал Кудеяров. – Заберут все… до ниточки. И мерина заберут, и оружие, и деньги. С какими глазами потом на людях казаться, как в сотню идти… с хорунжим чем расплачиваться?»
– Не подходи, а то стрелю, – сказал он, поднимая пистолет. – Освобождайте дорогу! Худо будет!
– Нам, казак, хуже некуда… Так и так погибель.
Это заговорил старик с вытянутым, изможденным лицом. Ноги его дрожали, по длинному синюшному носу обильно стекал пот. Старик опустил кол на землю, опираясь на него, как на посох.
– Шилохвостка ты, аника-воин, – беззлобно проговорил Кудеяров, успокаиваясь. Нападающие оказались не столь грозными, как ему сначала показалось. «Старик от ветра упадет. Этот, что в широких штанах, хоть и покрепче, а тоже не ахти какой воин, зуб на зуб не попадает. Вот этот у прогона…»
Он не успел ничего додумать про третьего, как тот с криком: «Псюга, палач!» – бросился на казака с поднятым колом. Кудеяров выстрелил, не целясь. Бегущий ткнулся в землю, перекатился через себя… Сколько-то времени он лежал неподвижно, затем руки его зашевелились, он поднял лохматую черную голову и зашипел хриплым простуженным голосом:
– Псюга! Стреляй… Казни, добивай!
Он заколотил в неистовстве кулаками по кучам старого навоза и крупные слезы текли по его грязным щекам.
Кудеяров двинул коня на беглого в широких портах, тот с испугу попятился, не зная, что ему делать, и казак саблей выбил у него кол из рук.
Старик сам кинул свою жердину, понимая бесполезность сопротивления.
– У-у, волчья сыть! – стонал на земле раненый.
Кудеяров перезарядил пистолет, достал веревку из переметной сумы и велел старику, чтобы тот связал руки своему сотоварищу. Старик покорно исполнил то, что ему велел казак. Тогда Кудеяров спешился и связал руки старику.
Раненый чернявый мужик выкрикивал басово:
– Добивай сяшкой! Секи голову!
В округлившихся невидящих глазах была безысходная горесть.
– Отпусти нас, господин казак! – прошамкал старик. – Просим именем господа нашего Иисуса Христа… Во имя честного и пречистого тела… во имя честной и пречистой крови христовой…
Ванюшка криво усмехнулся:
– О пречистой крови христовой баешь, а меня порешить собирался. Иль у меня кровь-то бесова?
Чернявый мужик крикнул старику:
– У кого волю просишь? Зри – воротник-то его мундирный красный… Пропитался кровушкой… Все они, казаки, на милость неподатливы, урожденные от ирода, от нечестивцев.
Старик вздохнул:
– Живем – не люди, умрем – не покойники!
Ванюшка спросил:
– Откедова, утеклецы, будете? С этапной партии или с рудников? Чео замолкли? Сдам в арестантский дом, имена, прозвища ваши сыщутся.
Раненый заскрежетал зубами, перевалился на спину, ругаясь про себя.
– Ногу бы ему перетянуть, – попросил беглый, у которого Кудеяров выбил саблей кол. – Изойдет кровью-т… Ефим? А, Ефим? Попроси господина казака сделать божецкую милость…
– Ладно уж, сделаю, – буркнул Кудеяров.
Жалко ему что-то стало повязанных и униженных бродяг. Забыл, что вот только-только сам от них спасался, в полном испуге был.
Подошел к чернявому: «Ну, раб божий Ефим, показывай». Потянул за голенище унта. Ефим застонал. «Больно? Или резать обувку?» Ефим замотал головой: «Тяни».
Стянул кое-как. «Ну, божий разбойничек, повезло тебе, – посочувствовал Кудеяров бродяге – Кость целехонька. Пуля-то в пролете занизила, поторопился я нажать курок, а то бы плясала твоя душа в обнимку с чертями».
Ванюшка прикинул: «Чем же перевязать ногу?» Вынул из сумы холщовый мешочек, подержал, крякнул, начал вытаскивать из мешочка хлеб, картошку, лук, яйца и складывать весь свой путевой провиант обратно в суму.
Беглые смотрели на него во все глаза. Кудеяров достал из кармана нож, распорол мешочек, потряс его, похлопал ладонью, выбивая сор и пыль.
– Ты, дедко, поищи поблизости подорожникову траву, – сказал Кудеяров. – Знаешь таку? Да не вздумай сигануть. Не то смотри! Стопчу конем…
– Избавил бы мои рученьки от мучениев, – попросил старик. – Режет, боль по всем костям… Куда я сигану?
Кудеяров поглядел на него – тщедушного, хилого, с бледными впалыми щеками, с ногами, подгибающимися в коленях – и развязал путы с рук. Вдогонку повелел:
– Паутины поищи в избе.
Старик, прихрамывая, заторопился со двора. Ефим молча сидел, прислонившись к изгороди. Глаза его были закрыты, он тяжело и прерывисто дышал. Тот, что был в широких портках, вдруг пал на колени перед казаком, залопотал скороговоркой;
– Дай поисть, казак! Поисть, поисть!.. Живот выворачивает, оголодали – терпенья нет. Кинь кусочек, опосля убей хоть… Скус хлеба забыл, напоследок хоть… Поубивают нас на Каре. Перед смертью хлеба хочу… картохи. Исхудали так, что порты ползут.
Он завыл и затрясся, заламывая связанные руки, заелозил на коленях.
– Михайла! – позвал его раненый. – Терпи… Молитву читай, не вой по-жеребячьи, бо есмь от рождения ты человеце.
Ванюшка пятился от елозившего на коленях Михайлы.
– Ужо накормлю, потерпи! – крикнул он. – Навязались, дьяволы, на мою голову! Меня сотник отпустил к бурятам коня купить, а тут воюй с вами да корми ишшо!
Бродяга перестал выть, только всхлипывал, неловко тыкал связанными руками, пытаясь дотянуться до рукава и утереть глаза, полные слез.
Приковылял старик.
– Ай, заждались? Насилу сыскал подорожничек. Когда не надо, так его прорва, а когда надо… – Он покрутил головой, глубоко вдыхая воздух. – Никак хлебушком попахивает? Ай, попахивает!
Кудеяров взял у него подорожник, паутину, присел перед Ефимом. Выбрал крупные листья, наложил сверху паутину. Положил пистолет перед собой, полез в подсумок за патроном. Из патрона вытащил пулю, отсыпал пороха. Наложил на рану. Перетянул мешковиной, завязал покрепче, крякнул, предовольный содеянным и… похолодел. Пистолет был у Ефима. Полуприкрыв глаза, тот разглядывал оружие, может быть, впервые попавшее ему в руки.
– Не балуй! – крикнул Кудеяров. – Клади на место!
Чуть приметная ухмылка дрогнула на губах бродяги, в глазах замельтешили искры и погасли. Он протянул пистолет казаку и спросил:
– Далече пуля летит? ^Сколь надобно, – сердито ответил Кудеяров, пряча пистолет в кобуру. – Руки-то на чужое не распускай.
– Да я так… полюбопытничал.
Кудеяров вытер пот со лба, удивленно разглядывая Ефима.
– Почему не стрелял? – не вытерпел он.
Ефим закрыл глаза, долго молчал. Кудеяров посчитал, что тот не ответит, и пошел к лошади.
– Погоди… – попросил раненый. – Мы хоть и каторжные, а нетто мы нелюди? Погоди… Зря перевязывал-то.
– Не дури. Как так зря?
– Ни к чему. Повесят нас на Каре, вздернут…
– Напрокудили-то чео? Убили кого, че ли?
– Из приставников он был. Произведен в надзиратели. Звали Чуркиным. Зверь… Хуже некуда. Старался перед Разгильдеевым. Мочи нашей не стало… Видит бог.
Кудеяров знал, что за убийство и даже за попытку к убийству сторожевого казака, надзирателя или смотрителя любого из каторжан присуждали к смертной казни.
Сразу вспомнилось морозное утро на Каре. Веревочные петли на перекладине золотопромывательной машины. Приговоренных поставили спиной к машине. Лосева и Мансурова… Они, бедные, все вертели головами туда-сюда, очень уж хотели видеть, что творится позади них. А видеть не могли – привязаны были веревками к сиденью на телеге. Теплилась, видать, у них маленькая надежда, что приговор отменили, что виселица не изготовлена… А на ней уже палач подтягивался на руках, проверял, прочны ли веревки.
Запомнилось до жути, как поп бормотал: «…Причащается раб божий… в оставлении грехов, на жизнь вечную!» Крестом прикладывался к губам… А морозище был! От губ с кровью отдирал крест, с мясом… А осужденные благодарили батюшку и все головами вертели. Очень уж надо было им увидеть, что у них позади.
Подошел палач, накинул мешок на голову Лосеву, а потом на голову Мансурову и долго осматривал, оправлял мешковины, убирая складки, и так подергивал, и эдак потягивал, и всяко оглаживал, чтоб петли затянулись как следует, чтоб без сучка без задоринки…
Мансурова и Лосева поймала полиция. Повязали их в Кордоне, в своих избах… при родителях-стариках, женах, детишках. Не иначе нашелся какой-то паскудник, выдал бедолаг за горсть сребреников.
Убийства или попыток к убийству за ними не числилось, и они бы миновали виселицу, отделавшись проходом по «зеленой улице» и переводом в разряд бессрочных с приковкой к тачке. Но за ними открылось подстрекательство казаков к бунту против властей. Будто бы подговаривали Мансуров и Лосев знакомых своих противиться возвращению заводов и рудников кабинету его величества…
Палачу чем-то не понравился мешок на Лосеве, он его стащил с головы бедняги, стал оглядывать, ощупывать и откинул прочь. Достал из телеги другой, потряс, вывернул, поглядел на свет…
У Лосева задергалась голова, глаза лезли из орбит, крикнул сдавленно:
– Царь-то у нас не царь! Подменили нам его графья да князья… Какой же это государь, ежели рудники да заводы у своего же государства отбирает?! Турецкий султан не позволил бы себе этого грабежа.
Палач подскочил по знаку Разгильдеева, живо накрыл Лосева мешком, одни глухие хрипы были слышны.
Тела закачались, веревки натянулись. Барабаны – тра-та-та-та!
И это тоже до жути запомнилось…
– Отпусти ты нас Христа ради! – заговорил старик. – Не повинны мы перед миром честным. Надзиратель Чуркин сам убивец. Не успеет каторга с разрезов приволочься, кандалами прозвякать, а он тут как тут. Одного определяет в карцер, к другому занаряжет палача с розгами, над третьим сам изгаляется. Уж как могли – терпели. Мы к битью привычные с малолетства… ничего… бить, оно можно. Мы понимаем… не бить нельзя. Каторга, известно… Но надзирателя прикончили… не помним, как кинулись, как руки поднялись. Сатана велел, черт надоумил – ничего другого не придумаем.
Кудеяров вывалил им на травяном пригорке весь свой дорожный харч. Бродяги хватали, что попадалось под руку, рвали зубами, не жуя, глотали, давились…
«Как же быть с ними? – мучительно думал Кудеяров. – Доставить в волостную тюрьму? И в сотнях зачитают вскорости приказ генерал-губернатора по войскам Восточной Сибири. И скажет генерал-губернатор в том приказе, что казак Нерчинской сотни Иван Кудеяров был уволен в улусы для покупки коня хорунжему. В пустых зимовьях Новобрянского селения выскочили на него трое беглых с кольями. Кудеяров, презирая превосходство тех беглых и собственную безопасность… Да, да, вот так и сочинят! Было же с Петькой Жарковым и двумя казаками… Преследовали бежавших с Петровского Завода ссыльнокаторжных, нашли тех в лесу, переловили и связали. После чего читался по сотням приказ, по всем войскам… Трое словили пятерых, гнались по следу, изготовленные к стычке… А он, Кудеяров, уволенный покупать лошадь, следов беглых не видел, о них, ничего не слышал, а один заарканил троих. Как же тогда не написать, что оный Кудеяров сделал в них, бродяг, выстрел из пистолета, а потом с саблей напал на них! И сочинит генерал-губернатор… Совсем, как в том случае с Петькой Жарковым… «Видя неустрашимость казака Кудеярова Ивана, запросили беглые пощады, и он связал их веревкой и привел в деревню к старшине». А уж понизу приказной бумаги такие слова будут вырисованы, что вся жизнь нынешняя безвестного казака шарагольского Ивана Кудеярова переменится. Совсем, как в том случае с Петькой Жарковым… Даже похлеще будет, самого Петьку завидки возьмут. И пропишется в приказе: «Я, генерал-губернатор, приказываю… за смелость и расторопность Кудеярова Ивана произвести его в урядники, на этот чин готовить его к присяге, а от губернского правления истребовать ему деньги… за поимку беглых».
И уж в самых нижних строках приказа будет присочинено: «О таковом похвальном действии казака Кудеярова мне приятно объявить по всем войскам мне вверенным. Поступок этот есть пример действия для всех казаков на будущее».
Сладко защемило под сердцем у Ванюшки, затуманилось в голове… В Шараголе на станичном сходе узнают о том, как он отличился. Молодые казаки наперебой дружбы с ним искать зачнут, атаман за руку здороваться надумает, а уж девки, девки…
Но не успел подумать Ванюшка, что станется с девками при его приезде в Шарагол, как взгляд его упал на голодных и ободранных бродяг, и он подумал о том, как привезут бродяг к золотопромывательной машине, как на ее перекладине закачаются петли веревочные, как захлестнутся они на человечьих шеях…. И вся сладость из груди ушла. Сердце захолонуло.
Стало обидно за себя… что он такой нетвердый, слезливый, жалостливый. Он чувствовал, что у него не хватит сил вести этих людей на виселицу.
«Лучше бы не встречать их мне, – подумал он. – Кой черт меня дернул заворачивать на эти зимники? Теперь вот мучайся, терзайся, проклинай себя, этих беглых, что сдуру вымахали на тебя с кольями. Ах ты ж, боже ж мой! И надо же… Кто бы мог подумать? Кто бы».
Он уже ненавидел этих бродяг, жадно поедавших его припасы, ненавидел их свалявшиеся бороды, их лбы, не успевшие зарасти волосами, их худые дрожащие руки, слезящиеся глаза.
Насытившись, бродяги смотрели на него уже с какой-то осмысленностью и живым блеском в глазах. «А ведь они не прочь снова напасть на меня», – пришло ему в голову и жестокий и злобный живчик зашевелился у него под сердцем.
Кудеяров вскочил на коня и велел бродягам двигаться поперед лошади в Новобрянское селение. Они послушались без ропота и побрели, спотыкаясь, то подтягивая сползающие порты, то расчесывая свои зудящиеся тела.
Ефим, прихрамывая, шел последним. По бледным щекам его стекал пот, он морщился не то от боли, не то от жары и все кряхтел и бормотал что-то. Едва миновали зимники и вошли в лес, Ефим остановился и начал снимать с себя рубаху.
– Ты чео? – спросил оторопело Кудеяров.
Бродяга даже не посмотрел в его сторону. Сняв рубаху, он протянул ее старику.
Выменяешь на хлебушко у христиан.
Ефим перекрестился и повернулся к Кудеярову:
– Сил нет. Не дойду… Тут бы успокоиться хотела душа. Березки, травка, место сухое, песочек… Чем на проклятой Каре… Все едино. Чео на плаху ведешь? Махни сяшкой и конец… Ефиму Холодову. За ради Христа! За себя перед богом и судом его страшным ответ дать могу… Как суще… господь бог душевно и телесно да поможет мне в судный час.
Старик и Михайла, разомлевшие от сытости и солнца, блаженно щурились и улыбались, поглядывая на Ефима. Они оба ничего не смыслили из того, что происходило на их глазах, оба хотели спать и ни о чем не думать.
Кудеяров обмяк в седле: «Давно пора ехать в улус за лошадью, а я тут прохлаждаюсь с имя… Не видел я их, сюда не заезжал… Спаси, Христос».
– Живите, как схотите, христовы странники, – проговорил он глухо. – Не видел я вас и вы меня тако же… Не кладите худой славы на меня, что стрелил я… Напредки поопаситесь выскакивать с кольями на кого попало. Казака наскоком не возьмешь.
У Ефима задрожали ресницы, слезы потекли из глаз. Он плакал, захлебываясь.
– Как же так, а? Как же? – шептал он потрескавшимися губами. – Отпущаешь нас… Вот слава те господи! И мы ведь в Расее в церковь хаживали, крест на шее имели… В светлое христово воскресенье помолимся за твою душу, казак.
Кудеяров тронул коня, но тут же придержал его. Что-то мучило его, держало тут, мешало уехать. О чем-то надо было спросить этих бродяг, узнать… Ах, да! Он так и не знал, за что же эти трое угодили в каторгу.
Старик и Михайла, поняв, что им дарована свобода, смеялись утробно, рты у них кривились без звука, они держались за животы и осоловелыми от нахлынувшей радости глазами смотрели на казака.
– Можа, более не свидимся, боговы странники. А любопытственно мне… За какие грехи тяжкие угораздило вас в колодничью партию? В Кару за так не погонют, не сошлют. Явственно услышать бы… Как более не свидимся, – несвязно спрашивал Кудеяров.
Ефим отстранил рукой старика и Михайлу, прошел, хромая, к лошади, взялся кривыми цепкими пальцами за уздечный мундштук, затряс бородой, – забормотал, утирая лицо:
– Пострадали, казак, за мир православный. Все мы трое… одной волости Вепревской. Народ оголодал, пухнул с голодухи. Бунт учинил перед помещиком, красного петуха пустил… На усмирение казаков вызвали. Ну и коих… сяшками посекли, нагайками побили, коих в железные цепи да в Сибирь:матушку, безо всякого сроку, навечно определили. Вот и суди о наших грехах… За зря охаяли нас. Благодарим тебя, казак, что насытил нас, грешных, недостойных. Напитались мы, отогрелись.
Благодарим… а то полетел бы для нас мир божий кувырком. Ты хоть сам по усмирению служишь, а добрый, береги тя Христос. Для полюбовного согласья ничево бы не пожалели. Ничево-о-о! От полноты сердца, да нечем, голы мы… гольтепа и есть.
Кудеяров облегченно вздохнул, потянул поводья. Он погнал коня ходкой рысью, чтобы поскорее удалиться от зимников, от прогретого солнцем соснового леска, от бродяг, кои взбаламутили всю душу его…