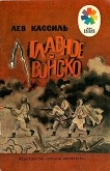Текст книги "Унтовое войско"
Автор книги: Виктор Сергеев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 42 страниц)
«Как-то там в Нарин-Кундуе? – устало подумал он. – Отец, жена… Знают ли, что со мной?»
Джигмит ворочался с боку на бок. Болела шея. Деревянной колодкой натерло. Везли как каторжника. В селениях мужики и бабы к телеге близко не подходили. Опасались. Долетали обрывки разговоров: «Ишь, брацкого зацапали, ну теперя упекут его».
«И чео он насумасбродничал? Убивец? Глазами-то сверлит как..». – «Какой он убивец? Не иначе офицеры его сечь-казнить будут за вольные слова»– «Како-тако вольное слово?» – «Не-е, мужики. Конвойный даве шепнул старосте: Он-де, пятидесятник, со своими бурятами без государева приказа на Китай грабежом шел». – «Ну и врать ты наторел, Гаврилка!» – «Поди сам соври».
Джигмит улыбнулся, вспоминая, как о нем судачили в деревнях: «Скажут с ноготок, а перескажут с локоток».
Троицкосавские конвойные солдаты относились к нему с почтительной настороженностью и любопытством, но ни о чем не расспрашивали. Кормили сносно. Что сами ели, то и ему подавали.
Ранжуров всмотрелся в оконце. Звезды-светлячки в медленном ёхоре поворачивались на высоком небе, будто хотели получше рассмотреть, куда направило паруса судно генерал-губернатора.
Глава пятаяВ атаманском саду – свежая, только что выклюнувшаяся из почек зелень. На яблонях-коротышках набухли бело-розовые бутончики. Вдоль забора рубчатыми листиками ощетинился крыжовник. Топорщились пильчатые листья смородины. Узкие агатовые грядки пахли прелой землей, лежалым навозом.
В углу сада под ветками акации – застолье на скорую руку по причине заезда в Верхнеудинск горного инженера Ивана Евграфовича Разгильдеева.
Хозяйничал сам атаман Забайкальского городового казачьего полка подполковник Потап Ионыч Куканов. Приглашены сотники полка Василий Васильевич Чекрыжев, Афанасий Петрович Ситников и Леонард Карлович Гюне.
Атаман Куканов, с виду свирепый, с пышными, как у пехотного фельдфебеля усами, в жизни был командиром покладистым и добрейшим.
Сотники Чекрыжев, Ситников и Гюне командовали расквартированными в Верхнеудинске частями полка.
Василий Васильевич Чекрыжев, уже в летах, с прокуренными усами, до недавнего времени служил по казенным сборам, но любил военную службу и попал в казачьи сотники по протекции атамана.
Румяный, блондинистый, женоподобный Афанасий Петрович Ситников, из бывших семинаристов-белоподкладочников, сын купца, жалованье офицерское проматывал в неделю, а затем слал просительные письма в Иркутск, обещал «взяться за ум, помолясь благовещенью пресвятой богородицы». Если у него заводились деньги, он покупал медальоны в серебряной оправе с изображением нерукотворного Спаса и Николая-чудотворца. Медальоны те скоро закладывал и ломбарде и садился за письмо к батюшке – советнику коммерции. Из книг он читал «Письма о христианской жизни», «Житие и чудеса святого праведного Симеона Верхотурского» да евангелие в синем коленкоровом переплете. А сам все дни ездил по судам да ведал охраной и пересылкой арестных людей…
По праздникам с утра наносил визиты именитым горожанам, у коих значились девицы на выданье. Всякое соболиное боа на тонкой девичьей шее волновало его. Бывал он всюду принят и угощаем, ибо советника коммерции иркутского купца Петра Дормидонтовича Ситникова знали по всему здешнему краю.
Афанасий Петрович жил между богом и присутственными местами да арестантскими ротами. По настроение жаловался он, что судьба кинула его по средине реки, и отныне всю жизнь плавать ему, Ситникову, меж берегов. Один берег темный, лесистый обрывистый. Солнце там никогда не светит, оно при ходит туда на закат, но его не видать с реки из-за высокого берега. А другой берег пологий и чистый, со степным раздольем, с солнцем и птицами. И к какому берегу плыть – Афанасий Петрович не выбрал. «Я, – говорил он, – проживаю меж берегом света и берегом тьмы. Куда податься? Где найти утешение? Нету у меня сил, чтобы дойти до любого из тех берегов. Живу, как грешник без покаяния».
Леонард Карлович Гюне, сухой, костлявый, из обрусевших немцев, служил когда-то в Варшаве, за дуэль разжалован и отправлен в Сибирь в линейный батальон. Дослужился до поручика и вышел в отставку. Из родных в Варшаве у него никого не осталось, и он устроился на жительство в Верхнеудинске. Мало-помалу перезнакомился с офицерами гарнизона, вошел в их компанию, и они уговорили его заняться вновь военной службой, на сей раз уже в казачьем полку. Леонард Карлович поначалу отнекивался, но скоро и сам почувствовал, что без армейской жизни он существовать не может, что богатого выбора здесь не сыщется, а уже шли упорные слухи, что казакам предстоят походы на Амур. Он подумал-подумал да и возревновал к казачеству и согласился быть избранным в офицеры полка.
Куканов поднял тост за его превосходительство генерал-губернатора Николая Николаевича Муравьева.
– С его именем, господа, – подчеркнул атаман, – мы связываем свои надежды на возрождение славного Забайкальского казачьего войска, коему Россия обязана распространением своей государственности на огромнейшие восточные территории. Уповаем на то, что его превосходительство замолвит о нас, забайкальцах, слово перед государем и склонит его к необходимым реформам по упорядочению положения нашего.
Разгильдеев при упоминании генерал-губернатора весь встрепенулся, приосанился, даже отодвинул от себя блюдо с мороженой брусникой, дабы такие пустяки не помешали торжественности момента. Был он мужчиной изрядно ожиревшим, могучего сложения, с пухлыми щеками и маленькими глазками.
– Вы слышали, господа, какой фурор у публики вызвал общий прием, который Николай Николаевич назначил на утро после своего явления в Иркутск? Его никто не видел, никто ничего о нем не знал, и он будто бы ни в чем не сведущ. И, вот вдруг прием… Чуть ли не из кареты. Прямо дух замирает.
– Да, мы что-то слышали с пятого на десятое. Да уж так ничего в голове не сохранилось. Провинция…
– A-а, господа! Не знать – не жить. А я вижу все доподлинно. Общий прием… Часы пробили десять. Зала уже полна – ни войти, ни выйти. Военные собрались у глухой стены особняком. Остальное зала заняли гражданские чиновники. Купечеству и думским хватило лишь места в гостиной.
Растворяются двери и входит к нам… Я тотчас определил, что он породистого вида, из дворян, невысокого роста, с красным и моложавым лицом, с курчавыми, как у ангела… ну, самую малость разве что… рыжеватыми волосами. На нем простой армейский мундир. Я не военный, господа, но и то почувствовал в себе потребность стать во фрунт. Правая рука генерала, раненная при штурме Ахульго, висела на черной перевязи. Я почувствовал себя ничтожеством, да и остальные также. У него даже руки породисто выглядят.
Последовала процедура представления.
Бригадный генерал представил военных. Бедняга робел, говорил вполголоса и путался. Николай Николаевич переходил от одного к другому молча, как бы утверждая, что я, Муравьев, есть я, а кто вы – еще посмотрим. Так он и прошел среди военных, не кланяясь и никому не подавая руки.
Сухо принял почетный рапорт, пошевелил рукой на перевязи. Молча прошествовал мимо всех важных лиц главного управления. Даже мимо председательствовавшего в совете главного управления гражданского губернатора. Тот стоял красный как рак.
Муравьев быстро ушел в гостиную, принял от городского общества хлеб-соль и возвратился а залу. Здесь он раскланялся и удалился. Весь прием не занял и получаса.
В залу вернулся адъютант и объявил;
«Генерал просит начальников отделений остаться».
Ну, остались. Соляным столом заведует у нас… этот… Николай Николаевич ему: «Так много слышал о вас хорошего!» И давай нахваливать соляной стол. А тут начальник золотого стола выдвигается… с обидой: «Если уж генерал в восторге от соляного стола, то каков он будет от золотого стола!» А генерал будто его мысли читал. Вопрошает: «Где золотой стол?> Столоначальник кланяется, думая на полном серьезе, что генерал его расцелует. И вдруг, господа, заместо поцелуя вот такие словечки: «Я надеюсь, господин, что вы не станете со мной служить». И тут же предложил ему уйти на покой. Адъютанты набежали, шепчут Николаю Николаевичу, что столоначальнику не положено по закону идти в отставку, он из горного ведомства. «Пусть возьмет медицинское свидетельство», – стоит на своем генерал. «Да он здоров как бык», – изъясняют адъютанты.
И что вы думаете, господа? Врачебная управа выдала-таки медицинское свидетельство начальнику золотого стола.
– А за что его так-то?
– За взятки, господа. Брал вовсе несоразмерно. Ходил по краю пропасти. Пока не было Николая Николаевича. Ну, а уж тут… Кругом строгости. А особенно бойся самого генерал-губернатора. Никогда и никто не знает, как он поступит.
– Как он нынче выглядит? – поинтересовался Ситников, жеманно щурясь и незаметно для остальных разглядывая свое отражение на стенке самовара.
– Чудесно! Чудесно! – воскликнул Разгильдеев. Такой, знаете ли, живой, просто воструха-непоседа. Того и гляди, что воспарит… Я умилялся, глядя на него. Черты лица тонкие и подвижные. Глаза по тебе так и бегают, и где на тебе изволят задержаться, там тебе и холодно, и тревожно, а то жарко и радостно. Ну, как вострубит тебе генерал… призовет к великому делу. А он все может. Это по настроению его превосходительства. В кресле он подолгу не задерживается, Начиная разъяснять предмет его интересующий, он быстро увлекается, вскакивает и подзывает к карте, все растолкует покажёт. Слова летят водометом. Для меня весь он внове. Порядливый господин.
– Муравьев к нам о прошлом годе заезжаль, посмотреть, – заговорил Гюне. – И что же? Он заявиль, что Забайкальский городовой польк – один из слабых в Сибири, хуже его поискать. Фронтовое образование плехое, господин атаман, скажу откровенно. Все ружья с расстрелом[16]16
Раздутость в дуле.
[Закрыть] и к употреблению не годны. Я не привыкаль так служить. Сабли и те старого образца.
– А служба какая? – вмешался Чекрыжев. – Ныне велят охранять провиантские магазины. Нам же приказано взять под охрану кладовую окружного казначейства. В больницу нужен караул… больные поступили из острога.
– У меня караулы у соляного амбара, винного подвала, у магазинов. На три смены полусотни не хватает. А чуть что – в полк жалобы. Судья шумит, что казаки на службу являются в неопрятной одежде и лошади у них не годны к езде и содержатся в нечистоте. А что делать прикажете?
– Зовемся унтовым войском, – иронизировал Гюне. – Обувь у нас – унты, не глядел бы… А главенствующее блюдо на столе – мур-р-цовка.
– Что? – не понял Разгильдеев.
– Хлебы в кипяченой воде… с добавлением подсолнечного масла.
Чекрыжев почесал затылок:
– Живет нынешний казак… хуже некуда.
– Мы отвлеклись, господа, – проговорил хозяин, разливая вино в бокалы. – Первая чаша принадлежит жажде, мы ее утолили, господа. Вторая чаша – для веселья. Выпьем и споем, господа. Без песен рот тесен.
Ситников отодвинулся от самовара, надоело смотреть на собственное отражение, икнул, соображая, что бы это для него значило.
– Опять кислое поел, – пробурчал он.
Разгильдеев поднял бокал.
– Прошу, господа, самого малого внимания. Самого малого. Николай Николаевич Мураевьев обещал государю намывать на Каре в год по сто пудов золота. Его превосходительство, думая о Каре, остановил свой выбор на мне. Выпьем, господа! Третью чашу… Чаща наслаждения. Для Амурской кампании, думаете, золото не понадобится?
Разгильдеев торжествующе посматривал на офицеров:
– Займемся золотишком на речке Каре. Это вы слышите от самого управляющего Нерчинскими приисками Ивана Евграфовича Разгильдеева!
Куканов сказал:
– Что же, господин управляющий, наделил нас бог одной судьбой. Вы – для нас, а мы – для вас.
– Вот именно! Вот именно! – расплылся в улыбке Разгильдеев.
Сотники ничего не поняли. На какую «одну судьбу» намекал Куканов? Почему «вы – для нас, а мы – для вас?»
Сутками раньше Разгильдеев и Куканов беседовали с глазу на глаз. Управляющий Нерчинскими приисками не с бухты-барахты заявился в штаб городового полка. Сюда его привели неотложные дела. Сто пудов золота Муравьеву – шутка сказать. Жилья на Каре мало, а каторжников гонят и гонят. Рой землянки. Золотоносную породу бери в подземных штольнях, по колено в воде. Никому никакого отдыха. Каторжников не жалеть. Знать одно: золото, золото, золото! На приисках ввести особый режим. Со всей строгостью и осторожностью… Режим тот, установленный Муравьевым, такой, что департамент внутренних дел, не славящийся мягкотелостью, и тот бы не утвердил. А Муравьеву департамент не указ. Из карийских штолен ни один звук на волю не должен вырваться, чтобы все шито-крыто оставалось, никаких зацепок для прокуроров и ревизских комиссий. А охрану карийских каторжников велено взять на себя казакам. Вот и понадобился атаман управляющему приисками.
Разгильдеев такого наговорил, что ое-ей!..
По морям да океанам плывет-де от самого аж Кронштадта к устью Амура транспорт «Байкал» с капитаном Невельским. Велено-де тому Невельскому скрытно ото всех вызнать, судоходно ли устье Амура.
А как откроется, что оно судоходно, то Муравьев, мол, сразу же к царю с докладом: «Повелите, государь, пожаловать к нам всей державой на Амур-реку!»
Все бы ничего… Николай-то Николаевич верит в успех Невельского, да только врагов у них обоих тьма-тьмущая в столице, – рассказывал Разгильдеев. – А самый зловредный из них – министр иностранных дел Карл Василич Нессельроде.
Богу надо молиться, господа, чтобы дело любезного нашего Николая Николаевича выиграло. А как случится такое, то казакам за усердие на службе ждать милостей от меня, а от его превосходительства – медалей. Ну, а уж атаману да сотникам – иные награды: атаману – ленту Иоанна Иерусалимского, а сотникам – Анинскую ленту. Да и к жалованию кое-что.
Потап Ионыч только покрякивал да руку тянул к затылку, слушая Разгильдеева. Приказ Муравьева о выделении карийским приискам казаков он получил. А что касается особого режима для тамошних каторжников… Потап Ионыч повздыхал, посокрушался, да ведь он-то не ответчик перед департаментом внутренних дел. А Муравьев, по всему выходило, ни бога, ни дьявола не боялся. Ленту же Иоанна Иерусалимского запросто не выслужишь. Да и к жалованью кое-что… с неба никто не насыплет. Наградами да презентами городовой полк не избалован. Вот и приходилось поить и кормить любезного Ивана Евграфовича, знакомить его с сотниками полка.
– А что, ваше высокородие, – обратился захмелевший Разгильдеев к хозяину, – известно ли вам, почему мы ушли с Амура?
– По недостатку сил, стало быть. По Нерчинскому трактату.
– Манджуры обычаев большой политик не знают, – сказал Гюне, – и имеют склонность к войне. Их надо приобщить к той политик.
– Приобщат, Леонард Карлович, – заулыбался Разгильдеев. – Англия уже подбирается к Китаю.
На стол подали штофы с вином. Застолье оживилось, хозяин разливал вино по бокалам.
От только что политых агатовых грядок исходил терпкий запах сырой земли. Луковичные стрелки торчали тут и там, возбуждая аппетит у гостей. Бабочки-капустницы порхали от цветка к цветку, купаясь в лучах нежаркого на исходе весны солнца. В саду стояла умиротворенная тишина, и молодые листья застыли от безветрия. Только одинокий шмель упрямо и надоедливо гудел, то приближаясь к акациям, то удаляясь.
– Законопатились мы по избам, – вздохнул Куканов, закатывая под лоб глаза и следя за бабочкой. – Разводим капусту да ловим беглых, прости господи.
– А что, ваше высокородие, не изволите ли… Опростаем поначалу фужерчики, господа. Опростаем!
Ситников, икая, засомневался:
– Уж не чашу ли безумия поднимаем?
– Что вы, господин сотник! Да не икайте. Попробуйте мороженой брусники. Помогает.
Куканов чокнулся с гостями. Вино опрокинул в рот и выпил одним глотком.
– Замечу, господа, что с Амуром этим… Манджурская династия Цин весьма и весьма… Сил у нее невпроворот. Гога да Магога… Тронь манджурцев, так они вовсе запетушатся.
Куканов умолк, потянулся к бокалу. И как только не стало слышно его хрипловатого баса, тотчас все услышали легкое посапывание с тихим присвистом, исходившее из багрового носа сотника Чекрыжева.
Солнце скатывалось за маковки церкви, зелень в саду потускнела, острее запахло листом крыжовника. В ветках акации блуждали отсветы косых лучей, а в них раскачивались на ветру паутинки.
– А что, господа, – встрепенулся от задумчивости Разгильдеев. – Не поехать ли нам ко мне в нумер? Угощу коньячным вином.
– Не дурно придумано, – оживился Ситников. – Всей душой…
Гюне, борясь с дремотой, сказал:
– Я мало пиль, здоровье, господа, не позволяйт. Извините.
– Ни черта, Леонард Карлович! – забасил Куканов. – Эка выдумал! «Мало пиль»… А ты попробуй «много пиль». А? Ничего, вот велю положить Василь Васильича на отдохновение и поедем, господа, в нумер.
Был вызван вестовой казак и подана атаманская двуконная – запряжка.
Глава шестаяВ гостиной Муравьева во всю стену между посеребренными бра эмблемы и символы, изображающие добродетели, пороки и страсти. Радость представлена младою женою – веселой, приятно востроглазой, брюнетистой, держащею в правой руке пальмовую ветвь, а в левой – рог изобилия. Зависть – высохшая старушка со шмыгающими глазами, губастая, бледная, с тонкой выей, беспокойная и печальная, с черными зубами, ушами торчащими и щеками запавшими и с кожею на теле в струпьях. На голове и руках у Зависти – змеи. Они грызут ее живот. Возле стоит семиглавая гидра с собакой.
Николай Николаевич, отдыхая после обеда в халате и пан-туфлях, любил рассматривать эмблему в виде жены величественного и важного вида, в дорогостоящем манто из выпоротка, очами зрящей назад, держащей в руках книгу и перо. Так изображена сама История. Николай Николаевич не прочь бы возлежать на страницах книги у той Истории, оставив свое имя в благодарной памяти потомков. Но на все требовалось время, а само Время отмечалось на эмблеме в образе старика, от древности лет с адамовой головой. Лишь череп с костями сохранился.
Муравьев отнюдь не был стареющим вельможею. Он сохранил подвижность и горячность. И хотя многие считали его некрасивым, все же благородные и решительные черты его, горделивая осанка делали его внешность притягательной.
«Время, время! – размышлял Николай Николаевич. – Горит трава под ногами… Вот как ты бежишь. Как мало тебя отпущено нам. Неужели я приду к этой женщине-Истории, будучи седым согбенным старцем? Что ждет меня? То, что прошло, – это часы песочные с высыпавшимся песком. Настоящее – это мыльные пузыри, пускаемые младенцем. А будущее? Кто его предскажет? Надо поспешить… Ехать на Камчатку? Да. Невельского видеть. Непременно видеть. Скоро быть ему в устье Амура, и если судоходно оно… А иначе и быть не может! Свирепо водометная река, да без выхода в океан? Не мыслится сие. Нессельроде – лукавец, каких поискать, да нерешителен, лезет в амурские дела, а сам крепок задним умом, мешает моим замыслам. Замаял совсем».
Муравьева беспокоило, что от царя до сего времени не поступили инструкции с разрешением Невельскому провести исследования амурского лимана. Что же делать? Невельской придет в Петропавловск – разрешения нет… И все. Год потерян. А что будет через год?
Николай Николаевич сел за письмо Невельскому. Написал, что нынешним летом посетит Петропавловский порт и будет рад встретиться с Невельским.
Письмо он отправил со срочным курьером на имя начальника Камчатки.
У Муравьева шевельнулась было мысль: самому, не ожидая разрешения царя, приказать Невельскому плыть в устье Амура. Взять всю ответственность на себя.
На память пришли слова из полковой песни офицеров-кавказцев:
Устройся как возможно тише,
Чтоб зависти не возбудить.
Безмерно не вздымайся выше,
Чтоб после шеи не сломить.
Песенка-то пустячная, шуточная, а вот ведь… бывает же – связала Николая Николаевича по рукам и ногам, притушила в душе всякую решимость отдать приказ без воли царя. И как пожалел он, что пришла она ему на ум не ко времени.
Через полмесяца после того прискакал на перекладных его адъютант, привез из Петербурга инструкцию, подписанную государем. Невельскому разрешалось провести исследование амурского лимана!
Как же теперь? Невельской возьмет в Петропавловске письмо, узнает, что от царя все еще ничего нет да и не будет… возьмет курс на Кронштадт… и год потеряет. А в жизни человеческой год – это ой как много!
Муравьев решил послать своего адъютанта в Охотск. Невельской не мог миновать на «Байкале» этот порт, там его можно успеть перехватить и вручить ему государеву инструкцию.
Адъютант уехал, а генерал дал себе слово не поддаваться чувствам, возникающим от случайных обстоятельств. Не хватало, чтобы еще раз помешал ему в серьезном деле какой-нибудь пустяк… вроде той шутливой песенки.
И в тот же день генерал записал для себя: «Слабый духом отчаивается и ни в чем не находит утешения. Менее слабый ищет утешения в религии. Моя же участь твердостью все переломить и переносить хладно то, что других приводит в отчаяние, и вот мой девиз: всякое добро и зло употреблять в свою пользу, а это все равно что в пользу отечества».
Давным-давно он, Муравьев, видел часто во сне мертвых в гробах, и однажды все они на него смотрели, будучи даже полусгнившими. Виделись ему поля, засеянные сгнившей пшеницей. Во сне он не раз скитался посреди незнакомых, неприязненных людей.
Дурные сновидения прошли после того, как встретил на юге Франции девицу де Ришемон, ставшую его женой. Теперь она звалась Екатериной Николаевной. Она недурственна собой, даже красива… Точеные черты лица – ее глаза, ее губы, ее лоб – все, решительно все, даже ее голос, все дышало умом, все выказывало образованность, мягкость доброго и отзывчивого характера. Как быстро она полюбила Россию!
С каким рвением принялась обучаться русскому! Незрелый ум не смог бы.
Всего лишь два года, как они поженились. Два года. А что осталось от оранжерейной де Ришемон? Ничего не осталось. Ее просто нет, а есть мужественная Катенька. Она не только поменяла Францию на Иркутск. Она скоро поедет с ним на Камчатку. Боже мой, кто бы мог подумать! Уж он ли не отговаривал ее – пугал морозами, клоповными почтовыми станциями, дорожной тряской, якутской безлюдной тундрой. Куда там! Необузданные чувства! Она только смеялась и твердила:
– С милым и в раю шалаш!
Он хохотал, она смешно морщила нос, трясла головкой в папильотках и снова путала слова, краснела и смеялась:
– Рай в шалаше! Рай в шалаше!
Попробуй неотвязчивую отговорить. Николай Николаевич уступил.
– Катенька! – позвал он. – Тебе не скучно?
Ждал ее и все волновался, где она, придет ли скоро. А чего волноваться? Где его Катенька? Не далее, как у себя в будуаре.
Успокоился, когда ее мягкие теплые руки коснулись его щек.
– По уму и душевным качествам ты многое заслуживаешь, а то, что ты проделала из одной лишь любви ко мне, то это выше всякой похвалы и одобрения. Ты поняла меня?
– О нет, я все поняла! Ты опять хвалил… меня. Много хвалил. У меня… кружил голова. Перестань же, пожалуйста, Николя.
Муравьев взглянул на эмблемы и символы, усмехнулся: «Женщина-История и женщина-жена. Кто нам дороже?» Спросил Екатерину Николаевну:
– Ты бываешь у Волконской и Трубецкой?
– О да! Бываешь… У них дети английский, французский… Как это? Дети… у них…
– Изучают языки?
– О да! Изу-ча-ют. Ре-пе-ти-ру-ют.
Николай Николаевич посерьезнел, заговорил по французски, что делал крайне редко, стремясь быстрее обучить жену изъясняться по-русски. Но сейчас ему хотелось, чтобы Катенька уразумела все как следует.
Губернатор гражданский и жандармский полковник отправили донос царю. Муравьев-де со своею супругой завязали знакомства с семействами декабристов Волконского и Трубецкого, тем самым указали, какое им, декабристам, подобает занимать место в иркутском обществе. Забавно, что этого им, доносителям-недоумкам, показалось мало и они присовокупили к моей либеральности губернскую гербовую печати, привезенную мною из Петербурга. На печати-де у него, Муравьева, корона, проткнутая мечом. Опростоволосились вовсе, показав, что ничего не смыслят в геральдике.
– Дурные новости из Петербурга? – с тревогой спросила Екатерина Николаевна. – Ты, право, Николя, сначала делаешь, потом думаешь. Я, как могла, удерживала тебя, умаляя твою пылкость и неуравновешенность.
Заметив, что муж улыбается, Екатерина Николаевна облегченно вздохнула.
Ты всегда такой… Сначала, не подумав, попугаешь меня, а уж, подумав, поуспокоишь. Так что же из Петербурга?
– Государь вернул донос мне… для объяснений. И тут я поступился своей привычкой – попугать тебя, Катенька. Я просто умолчал обо всем перед тобой, а порфироносцу объяснил, что декабристы-де давно искупили свою вину, и ныне вижу я в них лучших подданных его величества, что они не должны быть навсегда изгнаны из общества, что они умны, образованны и преданы трону. И что в том плохого, если я введу их в общество и отменю всякие нелепые, и вздорные ограничения? Помилуй бог, что это за порядок, если Волконские не могут отъехать от Иркутска лишние пять верст? Можно подумать, что за околицей нашей сибирской столицы там и сям распространяются иные крупные города. Вот ведь рассуждение какое: по Иркутску передвигайся, как хочешь, но не вздумай проехать по пустынной степной дороге и, упаси бог, если без спросу забредешь в глухой лес. Оставайся денно и нощно, где тебя поселили, и из-под недремлющего ока нашего жандарма не ступи и шагу. Так-то ему, недремлющему оку, спокойнее, а где дело совершается по уму, а где – не по уму, так в этом наши незадачливые доносчики смолоду не разбирались. Порой думаю, как Христос: «Прости им, господи, не ведают, что творят».
Екатерина Николаевна, признательно глядя на мужа, все же укоризненно качала головой. Неисправимый… Опять сам поднял над своей же головой нож гильотины. Ведь чего проще отписать своему доброжелателю Льву Алексеевичу[17]17
Л. А. Перовский, министр внутренних дел.
[Закрыть]. Эти декабристы как раз по его ведомству. Ну, если уж опасаешься, что твою бумагу похоронят под всякими предлогами в канцеляриях министерства, где врагов у тебя отыщется предостаточно, так отпиши самому государю императору. Ты же имеешь право писать все, что хочешь, прямо в собственные его величества руки. Так нет же! Никому ничего… В Петербурге ведать не ведают, что генерал-губернатор Восточной Сибири своею властью, никого не спросись, отменил ограничения в переездах декабристов, завел с ними личное знакомство, чем возбудил кривотолки в городе. А как на все это посмотрели в правительствующем сенате, что скажет государь?
Муравьев угадал, о чем думала жена. Он сам думал сейчас о своей манере принимать порой ответственные решения, которые принимать ему не полагалось по занимаемой должности и имеющемуся чину.
– Прости, Катенька. Что же мне делать? Расстояния, отделяющие меня от Петербурга, столь велики, что дело можно загубить, если полагаться во всем на нашу почту. Чует мое сердце, что успех сопутствует мне и надо дерзать – приучить себя к быстроте в действиях да и заодно… – легкая улыбка тронула его губы, – заодно приучить к себе вельможный петербургский свет. Вот послушай-ка, что пишет мне Лев Алексеевич. Истинная опора моя…
Николай Николаевич вынул из инкрустированного ларца с секретным замком сложенный вчетверо лист бумаги.
– Ну, это так себе… Это опять же не то. Вот! – Он перевернул лист. – Лев Алексеевич сообщает о том, что молвил государь в ответ на мое объяснение. Вот: «Нашелся человек, который понял меня, что я не ищу личной мести». Вот и все. Катенька! Вот и все наши страхи, милая! Губернатора гражданского я еще ранее заставил подать прошение об отставке. Не подумай, что повлиял тот его донос на меня. Тогда я ничего не знал о доносе, За ним дело темного свойства. Касательно золотых приисков. А ныне он будет уволен за донос без прошения для себя о чтем-либо. А уж о нашем жандарме Лев Алексеевич побеспокоился. Он мне тут, в письме, правда, не удержался и целую кучу советов надавал: «Действуйте, сколь можно осмотрительнее, хладнокровнее, без шума и отдаляйте каждый повод к нареканиям и жалобам. О вашей вспыльчивости, о поспешности в решениях у нас говорят много».
– Ты еще молод, Николя. Начинаешь карьеру… А у тебя так много врагов. – И она добавила по-русски: – Я совсем не понималь… Зачем тебе много врагов?
Муравьев поднялся, заходил по гостиной из угла в угол.
– Все они меня ненавидят и не терпят за то, что я молод. Меня возвеличили выскочкой. Когда в Петербурге узнали о моем назначении в Восточную Сибирь – это назвали скандалезом: слишком молод губернатор! Генерал-губернатор Западной Сибири, узнав, кто его сосед, пришел в азарт и не нашел ничего лучшего, как громогласно заявить первому попавшемуся молодому чиновнику губернаторства: «Ты министр!» – «Какой же я министр, ваше превосходительство? – возроптал бедный чиновник. – Я лишь начинаю службу». – «А вон Муравьев – мальчишка, а уж губернатор!»
Но эти протобестии ненавидят меня не только потому, что я обскакал их в чинах. Я для них белая ворона. То, что я умею делать, они этого не умеют. А то, что они умеют делать, я этого не хочу.
Был у меня с государем как-то… разговор… упомянул я об Амуре, а он в ответ: «Что до реки Амур, то с этим успеется. Для смышленого слушателя не нужно много слов». И, еще тогда было сказано о Камчатке, Катенька. Государь молвил: «На Камчатке ты не будешь, ехать туда далеко и затруднительно». Я поспешно ответил: «Нет, ваше величество. Я туда постараюсь добраться». Если бы я мог тогда сказать, что постараюсь добраться вместе со своею женой!
Постучавшись, вошел камердинер… Доложил, что просит аудиенции штабс-капитан Карсаков.
Штабс-капитан Карсаков пользовался сугубым доверием Муравьева и был принят для доклада в служебном кабинете генерала.
Карсаков доложил, что к пристани пришвартовался галиот с арестованным пятидесятником Ранжуровым.
Прочитав письмо комиссара Троицкосавского пограничного управления, Муравьев задумался: «Перешла границу целая воинская часть… Манджуры будут встревожены». Этот пятидесятник заслуживал самого строгого устрашения. «Отправить его на Кару в колодках к Разгильдееву. А казаков, что ходили с ним за кордон, посечь розгами в Верхнеудинске на плацу принародно и выслать для продолжения службы в Якутск. Распустились донельзя! Не войско, а бродячий табор».
Николай Николаевич собирался уже отдать распоряжение, но что-то удержало его. Какое-то сомнение возникло у него в правильности наказания, Вспомнился Нессельроде… В больной голове министра столько галлюцинаций вспыхнет… Будет кадило раздувать. Наказывать казаков расхотелось. «Черт с ними! Побили хунхузов – не велика беда. A-а, на каждую опаску страха не наберешься. Погляжу-ка на этого пятидесятника. Что за муж?»