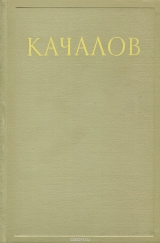
Текст книги "Сборник статей, воспоминаний, писем"
Автор книги: Василий Качалов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 48 страниц)
В сезоне 1914/15 года было возобновлено "Горе от ума", весной состоялась премьера "Каменного гостя". "Радость от возвращения на родину,– записывает Качалов в дневнике в конце сезона.– Неуспех в Чацком, еще хуже – в Дон Жуане".
В связи с реставрацией спектакля "Горе от ума" в 1914 году С. Н. Дурылин писал о Чацком: "Горе" углубилось, но свежесть, непосредственность чувства осталась прежняя". Качалов отметил в дневнике: "Возобновлено "Горе от ума" – опять в очках, опять без успеха". Акценты режиссурой были расставлены те же.
В пушкинский спектакль 26 марта 1915 года Художественный театр включил "маленькие трагедии": "Моцарт и Сальери", "Каменный гость" и "Пир во время чумы". Критика вынесла спектаклю обвинительный приговор. Так и писали: "Провал пушкинского спектакля в Художественном театре". Некоторое исключение делали только для "Каменного гостя". Даже друзья театра находили пренебрежение к "державным правам" пушкинского стиха, излишнюю насыщенность "переживанием", отсутствие гармонического единства содержания и формы. Наиболее "пушкинской" частью вечера был признан "Каменный гость", особенно третья и четвертая картины. Говорили, что только у Качалова и звучит пушкинская речь. Но его толкование Дон Гуана было отвергнуто единодушно: он играл не пушкинского Дон Гуана, а своего: "Не того, который избрал источником наслаждения женщин, а того, которому важнее всего – преступить запрет",– говорил Качалов Эфросу. В результате работы В. И. признался: "Я хотел победить поэта. Я оказался побежденным". Своеобразный качаловский замысел был мало кем понят. Спор шел о степени "искрометности" этого Дон Гуана и о приемах игры.
Если Ал. Бенуа находил, что "вряд ли можно увидеть на сцене более влюбленного и более правдивого Дон Жуана, чем Качалов", то большинство рецензентов состязалось в остроумии, угадывая "национальность" этого севильского обольстителя: "Скорее швед, чем пламенный испанец...", "Разве такие обольстители бывали у вдов испанских командоров?" Исполнитель был назван "испанцем из Тверской губернии", "ибсеновским героем", тургеневским Рудиным и, наконец, "эскимосом". Иронизировали по поводу утрированного холодка исполнения. Были критики, которые поняли стремление Качалова к максимальной простоте и жизненности на сцене, "без кастаньет и тореадорства": "Много ли актеров, кроме Качалова, так победили бы дешевый соблазн "пошикарить" у Лауры, поэффектничать на поединке "изящной небрежностью", блеснуть привычкой к дуэлям?"
На студенческих вечерах в пользу землячества и на концертной эстраде Качалов в эти годы читал стихи Пушкина, Некрасова, Тютчева, Блока, сцены из трагедии А. К. Толстого "Смерть Иоанна Грозного", "Тройку" Гоголя, пролог из "Анатэмы", "Ярмарку в Голтве" Горького, "Студент" и "В ссылке" Чехова, сцену "кошмара" из "Братьев Карамазовых". С осени 1915 года Ракитин в спектакле "Месяц в деревне" совсем перешел к Качалову.
В годы войны К. С. Станиславский заинтересовался драмой А. Блока "Роза и Крест". Завязалась переписка с автором, состоялся ряд встреч, началась большая работа, которая так и не была доведена до конца. Качалов репетировал сначала Бертрана, потом Гаэтана. Был очень занят и драмой Блока и старыми ролями. Играл четыре-пять спектаклей в неделю. Уже начинались его бронхиты, с которыми он справлялся пока довольно легко. Драма Блока его взволновала, остальной надвигавшийся на него репертуар мучительно тяготил. "От Л. Андреева отделался, от Мережковского – тоже",– писал он в Петроград. Но это было напрасной надеждой. Каким-то "совиным" победоносцевским крылом, по вещему слову А. Блока, легла на Художественный театр пьеса Мережковского "Будет радость" (премьера 3 февраля 1916 года). Пьеса, фальшивая исторически, раздувавшая элементы "богоискательства" в среде предреволюционной студенческой молодежи, искажавшая проблему "отцов" и "детей", была к тому же бездарна. Тягучий фельетон о "больной России" в годы, когда страна переживала революционный подъем, был удручающе оскорбителен. В основе лежала клеветническая концепция – "будущее принадлежит сочетанию общественного начала с религиозным". Ни намека на "радость" в труппе Художественного театра не было.
Качалову пришлось играть Федора Краснокутского, молодого психиатра с "усмешечкой", человека с печатью достоевщины, с философией самоубийства как проявления "своеволия". Качалову этот персонаж был враждебен. И это чувствовала публика. "Не веря, никого не уверишь", – угадал рецензент. "Качалов явно не хотел играть", – писал другой.
В предоктябрьские годы глубокие классовые противоречия в России привели к резкому обострению классовой борьбы и в искусстве. Философия и эстетика декадентства означали отказ от наследства революционных демократов, приводили к реакционному искажению действительности. Художественный театр оказывался в тупике. В речи на торжественном заседании в день 40-летнего юбилея МХАТ Вл. И. Немирович-Данченко сказал: "Мы все сейчас великолепно сознаем, что если бы не было Великой Октябрьской социалистической революции, наше искусство потерялось бы и заглохло" {Вл. И. Немирович-Данченко. Статьи, речи, беседы, письма, стр. 152.}.
Антинародному искусству противостояло творчество М. Горького, сыгравшего такую огромную роль в истории Художественного театра.
II
ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ
Качалов принадлежал к группе тех «стариков» МХАТ (в 1917 году ему было 42 года), силами которых создавался этот театр, он был его ведущим актером. Идейное звучание основных сценических образов Качалова оказывало глубокое влияние на передовую молодежь. Образы мыслителей и борцов, создаваемые Качаловым (Тузенбах, Трофимов, Чацкий, Бранд), помогали этой молодежи общественно расти и вооружаться для борьбы. Эти образы были насыщены крепкой верой в «грядущую бурю» и убеждением, что «так дальше жить нельзя». Актер, сформировавшийся в среде дореволюционного петербургского студенчества, выдвинутый в начале своего пути общественностью Казани и Саратова, нашедший полное применение своим творческим силам в театре Станиславского и Немировича-Данченко, Качалов всем своим прошлым был подготовлен к тому, чтобы стать подлинно советским актером. В апреле 1917 года – в период между Февральской и Октябрьской революциями – он писал в Петроград: «Прежде, до революции, пробегал газеты в 5 минут, а теперь трачу на это иногда по 2 часа. Читаю „Правду“, эсдековские и буржуйные. Читаю и потом еще думаю о прочитанном. Часто склоняюсь к большевизму и не боюсь даже гибели „Государства Российского“, а большевизм к этому ведет. Пускай! Вот только увидеть бы, что будет на развалинах. И тут бывает досадно, что стар».
Качалов осознавал, что история не знала в прошлом такого глубокого рубежа, такого коренного перелома во всех областях общественной жизни, который произошел в результате победы Великой Октябрьской социалистической революции. Он упорно и взволнованно думал о роли искусства в социалистическом обществе, о задачах, которые стоят перед советским театром, о новом зрителе, об ответственности художника перед народом. Он жадно впитывал в себя все то новое, что внесла революция в жизнь.
Впоследствии Качалов вспоминал большой вечер в Колонном зале Дома Союзов ранней весной одного из первых лет Октября: "В артистической комнате оживление: В. И. Ленин с Горьким. Алексей Максимович поворачивается ко мне и говорит: "Вот спорю с Владимиром Ильичом по поводу новой театральной публики. Что новая театральная публика не хуже старых театралов, что она внимательнее,– в этом спора нет. Но что ей нужно? Я говорю, что ей нужна только героика. А вот Владимир Ильич утверждает, что нужна и лирика, нужен Чехов, нужна житейская правда" {"Труд", 21 июня 1936 г.}.
Качалову мерещились грандиозные образы – от Эдипа до Фауста. В апреле 1918 года он впервые выступил в "Манфреде" Байрона, в сопровождении симфонического оркестра. Эту романтическую трагедию Качалов переводил в почти реалистический план. Он не читал – он играл. Сцену с Астартой он лишал всякой мистики: он видел ее в своих воспоминаниях и говорил с ней, как с живой женщиной. На подмостках, в обстановке Колонного зала, во фраке он решался сыграть даже смерть Манфреда. В сочетании с музыкой Шумана, исполняемой симфоническим оркестром, монологи Манфреда звучали очень сильно. Эта качаловская работа была первым шагом к "Эгмонту". Он впервые выступал в трагедии вне стен родного театра – без декораций, грима, костюма. Он не терял внутренней насыщенности образа в условиях, ставивших его речь в прямую зависимость от оркестра. Глубина его реалистического дарования, творческий подъем актера покоряли зрительный зал, и зритель готов был видеть и горный пейзаж, и встречу на крутизне Манфреда с альпийским охотником. В качаловском исполнении этой философской трагедии звучало не отчаяние потерявшего почву человека, а пафос разрушительной любви и ненависти Манфреда.
В театр шел новый, массовый зритель. Он заполнял и залы клубов, требовал нового, интересного, волнующего материала для размышлений. Работать для этого зрителя было радостно. Советуясь как-то относительно своего репертуара с организаторами концертных выступлений в рабочей аудитории, Качалов услышал по поводу какого-то художественного отрывка отзыв молодого рабочего: "Металлисты поймут, а текстильщики нет". В. И. потом часто с особенной теплотой вспоминал эту подробность, угадывая в оценке точное знание общего культурного уровня рабочих разных профессий. Питая огромный творческий интерес к новому зрителю, он был особенно взволнован весной 1919 года приемом спектакля "У врат царства" рабочей аудиторией Подмосковья (Орехово-Зуево). Текст гамсуновской пьесы не был еще тогда переделан Качаловым, но сценические образы Карено, Иервена и Хиллинга в исполнении артистов Художественного театра настолько убедительно говорили сами за себя, что рабочие правильно поняли всю концепцию спектакля, встретившего у них удивительно теплый, даже восторженный прием. О Карено они сказали: "Это наш".
В июне 1919 года предстояли гастроли части труппы Художественного театра в Харькове. Перед поездкой был возобновлен "Дядя Ваня" с Качаловым – Астровым. Во время гастролей произошла катастрофа: вся группа актеров была отрезана от Советской России деникинской армией, взявшей Харьков. Начались вынужденные трехлетние скитания по югу России, Балканам и Средней Европе. Тоска по родине во многом способствовала созреванию Качалова как советского актера. Когда связь с Москвой была восстановлена, он писал: "...никакого "счастья" для меня здесь нет. Очень тянет в Россию. Сейчас весна у вас, настоящая, упорная, постепенная, всё дня прибавляется,– не то, что здесь: ein, zwei, drei – и готово, меняй штаны, снимай пальто. Уже лето. Никакой весны и зимы не было. Ерунда какая-то. А у вас теперь не пройдешь, не проедешь. Реки на улице. Из дворов вонь страшная. А я бы и вонь вашу московскую понюхал бы с благодарностью. Конечно, я очень русский и без России тоскую. Зато Москва без меня, театр без меня может жить, совсем не тоскуя. Театр не только может,– он _д_о_л_ж_е_н_ жить без меня. Я хочу застать его живым и сильным".
В. И. получал письма от товарищей по театру, в которых говорилось, что театр видит в нем опору. Это чувство ответственности волновало его тем более, что он считал, что дело не в нем, – не в отдельном актере, а в самом существе театра, в его органической идейной перестройке. "Не во мне та живая вода, которая могла бы его воскресить", – прибавлял он.
29 мая 1922 года Качалов вернулся в Москву.
"Я в России! Я в Москве! Я в русском искусстве, в великом, настоящем русском искусстве! – взволнованно писал в эти дни Качалов.– Какое счастье приобщиться, почувствовать связь с этим искусством, почувствовать, как в твои запыленные легкие вливаются струи свежего, весеннего искусства. Всей моей душой верю, что никакие опасности не грозят русскому театру, когда его держат такие чистые и крепкие руки".
Качалова с семьей устроили очень уютно в верхнем этаже маленького флигеля во дворе Художественного театра: три крохотных комнатки и кухня. В. И. сейчас же перевез к себе из Кунцева обеих сестер, к которым всегда относился с огромной нежностью и заботой, и с тех пор они жили с ним до конца жизни. Он очень любил эту свою квартирку и театральный двор с собаками и курами и с грустью расставался с этим гнездом в конце декабря 1928 года при переезде в Брюсовскии переулок. В. В. Шверубович вспоминает, как в первые дни после возвращения они шли с Василием Ивановичем по московским улицам. Из уличной толпы до Качалова донеслись строки есенинских стихов. Радостно-приподнятый, он сказал сыну:
– Слышишь? Есенин!
Тогда он еще не был лично знаком с поэтом, но возил с собой повсюду в чемодане книжки стихов Блока и Есенина.
И в первых своих выступлениях в Художественном театре летом 1922 года он читал стихи о родине Блока и Есенина. В июне и июле он играл сцены из "Гамлета" (сцены с королевой и с Розенкранцем и Гильденштерном), "На дне" и "У жизни в лапах". Читал в концертах речи Брута и Антония, пролог из "Анатэмы", "Кошмар" из "Братьев Карамазовых", стихи Пушкина, Блока и Есенина.
Он дышал русским искусством и неохотно рассказывал о заграничных театрах: "Едва ли не самый сенсационный спектакль берлинского сезона – "Приключения капельмейстера Крейслера", инсценировка сказки Гофмана. Грустно! Не хочется делиться впечатлениями. Неблагополучно в берлинских театрах. Большие достижения в технике сцены, почти чудеса в постановочных ухищрениях и нет духа живого ни в актере, ни в режиссере. В этой гофманской инсценировке чуть ли не 40 картин идут на протяжении всего двух часов. Скучно! Все тот же старый, омертвелый, заштампованный, тяжелый пафос".
В конце лета недели три Качалов с сыном прожили в Алексине у Эфросов, где отдыхала и Студия Малого театра. В. И. был окружен там большим вниманием и любовью студийной молодежи.
ПОЕЗДКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА
ПО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ
Уже весной 1922 года Художественный театр стал готовиться к заграничной поездке. 14 сентября вся труппа во главе с К. С. Станиславским выехала из Москвы.
Начало путешествия В. И. описывал так: "Скучно без Москвы. Скучаю самым настоящим образом. Утешаюсь работой, мечтой о Федоре. Чудесный, необыкновенный Петербург! Умилен был и взволнован, хотя мало его видел. Все-таки побегал, потоптал траву на Екатерининском канале и проваливался в лужи торцовые. Даже в ожидании парохода у Николаевского моста пробежался по Васильевскому острову".
Поездка МХАТ была триумфом русского советского искусства. "Мхатовцы продемонстрировали всему миру, что советское искусство – самое передовое и яркое. Двухлетнее турне театра по странам Западной Европы и Америки не только утвердило славу гуманистического русского искусства, но и утвердило перед лицом всего человечества, что лучшие люди искусства солидарны с партией большевиков, что лучший театр в мире идет в ногу со своим народом" {Э. Смилгис. Передовой театр мира. "Советская Латвия", 27 октября 1948 г.}.
После пышной встречи и исключительного успеха МХАТ в Берлине, на прощальном литературном вечере в переполненном "Марморзале" на две с половиной тысячи зрителей одно появление на эстраде Станиславского, Качалова, Москвина, Грибунина вызвало энтузиазм. В Праге начали играть 20 октября. Внимание общества, особенно деятелей искусства, было трогательно. Чествование Художественного театра проходило в необыкновенно теплой атмосфере. 28 октября, в четвертую годовщину со дня возникновения Чехословацкой республики, москвичи поднесли Виноградскому театру в Праге венок. На прощанье 31 октября шел спектакль "Три сестры" по сильно пониженным ценам для малоимущих слоев населения. В. И. интересовался московскими постановками Немировича-Данченко. О себе сообщал: "Выучил и начал читать Маяковского – "Приключение на даче – с солнцем" (это в сборнике "Лирень"). На публике еще не пришлось читать, но в компании интимной, говорят, хорошо читаю. Даже строгие судьи одобряют".
Так началась работа Качалова над творчеством талантливейшего поэта нашей советской эпохи. С годами Маяковский занял огромное место в творческой жизни Качалова. В. И. не только сам был увлечен поэзией Маяковского, но как-то естественно стал ее пропагандистом. Работа Качалова над произведениями Маяковского, отличавшаяся глубиной их понимания и мастерством исполнения, явилась крупным вкладом в дело развития социалистической культуры.
Театр задержался в пути, а в Загребе его ожидала в это время восторженная встреча "многотысячной толпы, чуть ли не весь город собрался навстречу, неся охапки цветов" {О. С. Бокшанская. Из переписки с Вл. И. Немировичем-Данченко. "Ежегодник МХТ" за 1943 г.}. Энтузиасты этого хорватского города, проведя бессонную ночь на вокзале, приветствовали москвичей, как ближайших друзей. Пребывание МХАТ в Загребе было овеяно ни с чем не сравнимой поэзией и восторгом, которым был охвачен зрительный зал.
14 ноября в Загребе Качалов впервые сыграл Гаева в "Вишневом саде", а 17 ноября была премьера "Царя Федора" в новом составе – со Станиславским, Качаловым и Пашенной. "Качалов был хорош, очень хорош и интересен в разработке роли, играл очень-очень хорошо",– сообщала О. С. Бокшанская Вл. И. Немировичу-Данченко. Парижский сезон начали с "Федора" 5 декабря. Париж всегда занимал в душе Василия Ивановича особое место. Он любил самый город, улицы, воздух Парижа, ритм его жизни. 18 декабря В. И. писал: "Приближается Америка, безрадостная, холодная, неуютная, и я с каждым днем все больше начинаю тосковать по Москве. В Загребе жилось хорошо, сравнительно тихо и спокойно, а здесь, в Париже, страшно устаю от "публичности" и радуюсь только, когда один попадаю на парижскую улицу. Упоительнейший город! Играю здесь Федора. Говорят, хорошо. Очень удался грим".
Путешествие по океану в письме от 2 января 1923 года он описывал так: "Вот мы и подплываем к Америке. Говорят, в бинокль уже видна земля. А мне не хочется смотреть, и жаль, что она видна. Тепло, солнце, дует теплый ветер откуда-то от Мексики. Радостно и бессмысленно смотрю на волны. Сейчас пишу тебе, а все лежат, стало сильнее качать к вечеру. Только неугомонный Костя {К. С. Станиславский.} собрал какое-то режиссерское совещание о том, как сокращать антракты в Нью-Йорке, при участии Димки, который, впрочем, утратил на пароходе всю свою серьезность. Очень смешит и утешает меня Костя. Очень бодр, страшно много ест, в хорошем духе, но минутами слегка трусит океана. На палубе по вечерам от скуки старый матрос что-то насвистывает. Иногда кое-кто из матросов, а может быть, и из публики ему подсвистывают. Костя спрашивает: "А вы заметили, что перед бурей матросы начинают свистеть? Это им приказ дан такой, чтобы не было паники у публики: раз свистят, значит нет опасности, – перед смертью не засвистишь". А вчера я наблюдал, как он, прищурившись, через пенсне смотрел на две пары танцующих фокстрот и отбивал головой такт, очевидно, изучая ритм фокстрота. У нас играет небольшой оркестрик, а кроме того, мы везем с собой замечательного гармониста-виртуоза. В Берлине и в Париже много слез было пролито под его гармонию: вставала Москва, и хотелось плакать".
В Нью-Йорке, по плану американского антрепренера, Художественному театру готовилась грандиозная встреча. В январском письме В. И. писал о первых впечатлениях: "В довершение всей грусти был утром туман, падал мокрый снег и слепил глаза. Кроме мокрого снега и тумана, на нас тут же посыпались целой тучей интервьюеры и фотографы, которые влезли на пароход, выехав к нам навстречу. Меня забросали вопросами, сколько нас, как живется в Москве, в Париже, в Берлине. "А почему не приехал Немирович-Данченко? Он жив? Все с баками? А ведь Станиславский был всегда с черными усами,– почему их на нем нет? А Орленева нет с вами? Качалов, так вы же из Вильно,– что можете сказать про Вильно?" Начались съемки. Снимали нас и по одному, и группами. Наконец подплыли к пристани. Нью-Йорк. Первым входит на пароход по мосткам Морис Гест, наш антрепренер. Красные с золотом буквы на банте в петлице. За ним толпа русских и американцев,– с теми же бантами. Тут же передают, что нас должен был встречать архиерей в облачении – с певчими, приглашенными Гестом, но в последнюю минуту не решился. Работают кинематографщики. Сходим по мосткам... Наконец, садимся в жесткие такси, и, подскакивая и ударяясь головой о крышу кареты (ухабы, рытвины, лужи), подъезжаю к дому, где буду жить. Весь тротуар перед подъездом дома – сплошная, громадная мусорная куча, покрытая тающим снегом. Торчит из кучи железная кровать, ножки сломанного стула, жестянки от консервов, картонки, башмаки, бутылки, банки. Нога попадает в сугроб, из сугроба – в лужу".
В Америке принято, чтобы в течение недели, утром и вечером, шел один и тот же спектакль. Первая американская неделя была неделей "Царя Федора". Качалов играл последние четыре дня недели вечерние спектакли. В первый вечер его встретили аплодисментами и проводили с цветами. В. И. говорил, что Федора ему играть вчетверо легче, чем Гамлета, и втрое, чем Бранда. В роли горьковского Барона у него был огромный успех: в прессе он был отмечен как величайший артист мира. "Хорошо, обаятельно играет Вершинина Качалов",– писала Вл. И. Немировичу-Данченко О. С. Бокшанская 5 февраля 1923 года.
В силу сложной системы непривычного распределения спектаклей актеры работали с огромным напряжением. Качалову иной раз приходилось не уходить из театра домой, а перегримировываться из Тузенбаха в Вершинина, чтобы дать передохнуть Станиславскому. Из тяжелых ролей у него был только Федор.
От такой работы были переутомлены все. Москвин и Качалов в половине марта уже были не в состоянии неделями играть Федора. Гест настаивал на "Анатэме" и обещал оглушительный успех в течение трех месяцев. Но Анатэму играл один Качалов, который не мог вынести этого спектакля даже в продолжение одной недели.
Присмотревшись к Америке, В. И. делился в письме своими впечатлениями: "Смешной Нью-Йорк, смешные американцы. Много нелепого и неожиданного. Питерская зима, сырая, влажная. Как будто пахнет ветром от Невы, вдруг завалит снегом, белые сугробы, и через 2–3 часа серая грязь, но нет былых питерских дворников, и утопаешь по колено в грязи. Ни пройти, ни проехать,– такая грязь, такие лужи и ухабы. Кучи мусора в центре города. Вообще контрасты, невозможные в Европе. Не спустился, а слетел с 56 этажа на экспресс-лифте, вышел на улицу и попал носом в снежный или мусорный сугроб. Поднимался на лифте с какими-то двумя девчонками, и солидные джентльмены стояли в лифте с обнаженными перед этими девчонками головами, сняв свои котелки. Наивное, театральное джентльменство, и в то же время процветает всякий мордобой, и кулак здесь в большом почете. Кулаком регулируются всякие недоразумения и осложнения. Вчера прочел в газете, как какой-то "джентльмен" избил палкой какую-то "леди", приняв ее за проститутку, которая якобы подмигнула его сыну, и на суде был оправдан. Провинциализм, наивность, неблагоустройство, добродушие, сила молодости народа – и вдруг отчаянный скандал в театре оттого, что негр захотел сесть в партер в первых рядах. Хамство, даже зверство по отношению к неграм. Очень много пьют, несмотря на запрещение, и много и хорошо работают. К концу каждого спектакля рабочие все пьяны, и в то же время антракты доведены до минимума благодаря их талантливости и чисто русской, по определению Димы, смекалке. А какие драки, какой мордобой! Какая жуть была в театре на днях днем, во время расстановки декораций, когда театральные рабочие начали драться в четыре пары – на сцене, а потом, сняв пиджаки, выкатились на улицу и на глазах у публики и полисменов до потери сознания избивали друг друга. Одних втащили раскровавленных в театр, и они в бутафории лежали до вечера, а другие, тоже окровавленные, подвязали чистыми платками скулы и продолжали работать. А какое убожество, какая грязь и теснота в еврейском квартале! Говорят, в китайском еще хуже,– я там еще не был. А бандитизм более зверский, чем в Париже. Вечером все небо Нью-Йорка – сплошной фейерверк реклам, перешибающих друг друга. Все кажется безвкусным, убогим, скучным, никакой духовности и красоты".
Но эта Америка доллара, суда Линча, торжества "кулака", Америка реклам и мусора, Америка нищенских кварталов и "театрального джентльменства" не закрывала от Качалова положительных черт американского трудового народа. Его уменье работать, приветливость он ценил. "А утром,– писал он,– такая картина: какими-то страшными и смешными визжащими машинами, лебедками, тачками, целыми вагонами, которые поднимаются на воздух, расчищают какой-то громадный пустырь. Как раз около меня очутился старик-рабочий, гладко выбритый, с седыми подстриженными усами, в очках, с сигарой в зубах. Он ждал, когда к нему спустится лебедка, высморкался в чистый носовой платок, увидал меня, что-то веселое сказал мне, я ответил: "Ол райт!" Он закашлялся от хохота и сигары. И вот через неделю, ну, через 10 дней прохожу опять мимо этого пустыря, а его нет и в помине: уже выведено два этажа, уже тянутся в небо железные леса".
"Доволен ли я жизнью? – отвечал в каком-то письме В. И. на вопрос.– Все чего-то не хватает и что-то ужасно лишнее. И, честное слово, не для того, чтобы сказать тебе приятное, в Москве – верю и чувствую – было бы в тысячу раз лучше".
На апрель и май Художественный театр повезли в глубь страны – Чикаго, Филадельфию, Бостон, после чего театр возвращался в Европу до ноября 1923 года, так как правительство разрешило продлить гастроли еще на один сезон. Несмотря на успех, весь гонорар ушел на оплату переездов. Обратно ехали на "Лаконии", тоже одном из крупнейших океанских пароходов. "Лакония" оказалась даже лучше "Мажестика",– писал В. И.,– хотя Станиславский, когда узнал, что решено ехать на однотрубной "Лаконии", очень волновался и кричал: "Я категорически заявляю, что на одной трубе не поеду. Я отвечаю за весь театр и не допущу, чтобы театр ехал с одной трубой. Раз что (у него такая привычка говорить "раз что") – раз что меня сюда привезли на трех трубах, потрудитесь обратно везти так же". Но его успокоили и убедили, что теперь все новые пароходы делаются с одной трубой, но зато эта труба огромная и стоит прежних трех".
С ноября 1923 по январь 1924 года в Нью-Йорке намечался новый для Америки репертуар ("Иванов", "Братья Карамазовы", "Плоды просвещения" (новая постановка), "У жизни в лапах", "Хозяйка гостиницы"), а затем поездка по городам вплоть до Калифорнии с "Царем Федором", "На дне" и одной-двумя пьесами Чехова. Впрочем, не надеялись закончить "Плоды просвещения" и поэтому просили Качалова приготовить роль доктора Штокмана, в которой он должен был заменять Станиславского. В. И. был очень взволнован этим предложением, вел переписку со Станиславским, не хотел браться за роль. Он надеялся, что вопрос о ней будет решен отрицательно. Мысль о Москве, которая ни на минуту не переставала жить в его сознании и руководить его поведением, удерживала его от работы над Штокманом: ему казалось, что Штокман для Москвы уже неинтересен и не будет иметь смысла, как писал он, "дорабатывать его на московской публике".
О любви к Родине, как о чувстве большом и интимном, требующем дел, а не слов, В. И. редко высказывался громко. Но сквозь все его письма этих лет проходит одно слово – Москва. Он представлял себе, что с возвращением в Москву "нельзя же будет продолжать старое, т. е. во всяком случае теперешнее,– как писал он 7 февраля 1923 года Вл. И. Немировичу-Данченко,– а надо попытаться начинать какое-то новое дело". "Не представляю себе,– писал он,– чтобы мы приехали и продолжали бы играть то, что мы играли сейчас, и так, как мы это играем сейчас". Ему хотелось "в какой-то новой работе обрести веру в себя и этим путем внутренне обновиться самим и обновить и очистить атмосферу театра". Он был убежден, что в этой работе необходима помощь Владимира Ивановича. Он твердо знал, что театру нужна какая-то "опора", какая-то "живая вода", что театр если и вышел из идейного тупика, то пока еще на деле этого не обнаружил. Годы отрыва от Москвы сосредоточили мысли Качалова на вопросе о пути советского театра.
Для тех, кто близко знал Качалова, самым мощным впечатлением от его личности было впечатление непрерывного, интенсивного движения, человеческого и творческого роста. Прислушиваться к этому движению жизни в народе, в товарищах, в себе и в самом театре было его неиссякающей потребностью. Исключительно скромный и требовательный к себе, он даже не сознавал, в какой степени он жил подлинной жизнью своего народа и в какой мере чувствовал свою ответственность перед страной. Он хотел видеть Художественный театр сильным и крепким, но сознавал, что новые пути в искусстве им еще не нащупаны. В. И. не умел не быть правдивым и по отношению к себе, и по отношению к товарищам. "Разлюбил я наш теперешний театр в поездке,– писал он Немировичу-Данченко в том же письме.– Много он теряет при "экспорте", хотя в то же время напоминает банку с консервами. Когда на сцене раскрывается эта банка, это еще не так плохо и для нетребовательного вкуса даже приемлемо: аромата и свежести нет, но для широкого употребления еще может сойти. А вот когда мы сами, промеж себя, поближе заглянем в эту банку, то уже делается неловко и грустно, и мы отворачиваемся от банки и друг от друга". В том же письме Качалов признавал, что ему "хочется зацепиться за что-то свое, живое, выскочить из круга теней".
В суматохе американских гастролей и во время летнего отдыха в Европе он думал о том же. В письме того же года Вл. И. Немировичу-Данченко он говорит: "Самое важное, чтобы было между нами соглашение в главнейшем, _к_у_д_а_ _д_о_л_ж_е_н_ _б_ы_т_ь_ _н_а_п_р_а_в_л_е_н_ _т_р_у_д". Качалов считал, что театр должен "прочитывать авторскую душу своим собственным "содержанием", "всем богатством своей созвучно автору настроенной и хорошо распаханной души", "быть богатым душой в большей степени, чем всяким имуществом, всяким инвентарем". Он еще не находил свежего драматургического материала для реалистического искусства советской эпохи. Ему еще рисовался пока какой-то монументальный классический репертуар. Он видел в роли Лира Станиславского и Леонидова, в "Отелло" – Леонидова – Отелло и себя – Яго. Он думал о "Макбете", "Эдипе", "Грозе", "Лесе", о "милом лике Чехова" в одной-двух постановках. Он мечтал о "большой дружной работе" и верил, что тогда театр оживет. "Тем более,– писал он Немировичу-Данченко в том же письме,– мастера мы все недурные, формой владеем, воспитаны хорошо (алаверды к Вам), вкус у нас выше среднего. "Подсказать" Вам, навести Вас на открытие или счастливую находку едва ли сможем, но сами понять и сделать можем еще многое. Словом, материал не безнадежный, по-моему... Вы оба – самые большие люди театра, каких я только встречал на своем веку. Оба обладаете громадными достоинствами и умами, и талантами, и энергией, и серьезностью, и эти качества вас соединяют".








