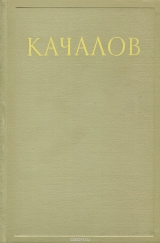
Текст книги "Сборник статей, воспоминаний, писем"
Автор книги: Василий Качалов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 48 страниц)
В своей статье о Есенине Качалов писал: "До ранней весны 1925 года я никогда не встречался с Есениным. ...Но стихи его любил давно. Сразу полюбил, как только наткнулся на них, кажется, в 1917 году, в каком-то журнале. И потом во время моих скитаний по Европе и Америке всегда возил с собой сборник его стихов. Такое у меня было чувство, как будто я возил с собой горсточку русской земли. Так явственно, сладко и горько пахло от них русской землей".
Любовь к родной земле, искренняя, горячая влюбленность в родные просторы и дороги, в "белые рощи и травяные луга", в "край разливов грозных и тихих вешних сил" – вот что больше всего привлекало Качалова к Есенину. Волновала его и необыкновенная есенинская душевная тонкость в таких стихах, как "Корова" или "Песнь о собаке". Эти стихи Качалов читал на эстраде наиболее часто, так же как и "Мы теперь уходим понемногу", "Гой ты, Русь моя родная!" или "Клен". Он читал эти стихи взволнованно и как-то очень бережно, почти интимно. Но всегда, и особенно в последние годы, лирика Есенина звучала у него воспоминанием, страницей прошлого, страницей дорогой, но уже перевернутой.
Некоторыми чертами своего творческого облика привлек к себе Качалова ранний Тихонов, как впоследствии Багрицкий. Он читал в концертах два лирических стихотворения Тихонова, которые нравились ему своей мужественностью и лаконизмом. Из баллад Тихонова прочно вошла в качаловский репертуар только "Баллада о гвоздях", и он замечательно умел передать силу чеканного ритма этих кратких и строгих двустиший. Может быть, мотив жертвенности подвига, еще присутствующий в ранних балладах Тихонова о гражданской войне и несколько заслоняющий в них тему героической народной борьбы и победы, оказался внутренно чужд Качалову и на время ограничил его близость к поэту. Зато в годы Великой Отечественной войны стихотворение Тихонова "Три кубка", полное жизнеутверждающего гуманизма, одухотворенное великой освободительной миссией Советской Армии, Качалов читал вдохновенно и почти везде, где ему только приходилось выступать.
Творчество Багрицкого было представлено в репертуаре Качалова несколькими стихотворениями. Больше всего он работал над поэмой "Дума про Опанаса". Но она привлекала Качалова скорее своим великолепным стихом, чем остротой сюжета и судьбами основных героев. Может быть, именно поэтому "Дума" в его исполнении звучала несколько однообразно, с декламационной напевностью. Наибольшую радость в работе над Багрицким, сложная эволюция которого в общем мало отразилась в творчестве Качалова, принесли ему "Джон – Ячменное зерно" и стихи о Пушкине, принадлежавшие к его любимейшим произведениям. Баллада "Джон – Ячменное зерно", написанная Багрицким по мотивам Бёрнса, увлекала Качалова сверкающими красками здорового народного юмора и жизнерадостностью. Стихи о Пушкине волновали своей лирической задушевностью, живым, действенным восприятием пушкинского гения, которое по-новому связывало его с нашей современностью.
В тридцатых и сороковых годах русская классическая и советская поэзия занимала в концертных выступлениях Качалова едва ли не главное место. Именно в эти последние десятилетия своей жизни он пришел к вершинам своего воплощения лирики и эпоса Пушкина и создал замечательный лирический цикл из стихотворений Лермонтова. В той или иной степени до конца оставались его спутниками и каждый раз по-новому раскрывали его творческую личность Блок и Есенин, Тихонов и Багрицкий. Но поэтом самым значительным для его внутреннего роста и потому воспринятым им с особенной остротой был в эти годы, несомненно, Маяковский.
Можно смело сказать, что конец тридцатых и сороковые годы в творчестве Качалова прошли под знаком поэзии Маяковского, что Маяковский сыграл огромную роль в обогащении его мировоззрения идеями социалистической эпохи, что под влиянием Горького и Маяковского его гуманизм приобретал новые, боевые черты. Блок был для Качалова бесконечно дорог, но он сопутствовал ему из прошлого, пусть даже из близкого прошлого первых лет революции. Маяковский был весь в настоящем, он звал и увлекал с собою в самую гущу современной действительности, его стихами Качалов мог говорить о будущем.
Увлечение Маяковским началось у Качалова еще в двадцатых годах, во время заграничных гастролей. Он тогда впервые стал читать "Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче". Судя по позднейшему исполнению Качаловым этих стихов, его интересовала в них далеко не только озорная дерзость фантастического сюжета, в котором солнце фигурирует в качестве гостя Маяковского и дружески беседует с. ним за самоваром. Здесь, в этих смелых гиперболах, для Качалова открывалась возможность раскрепощения в себе такого звонкого, открытого жизнеутверждения, которое прежде вырывалось у него разве только в "Вакхической песне" Пушкина. Все живое должно что-то давать жизни, творчески обогащать ее, – в этом был внутренний стержень, "сквозное действие" качаловской трактовки, и его особенно сильно можно было почувствовать в знаменитых финальных строках:
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить –
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой –
и солнца!
Это звучало революционно. Неудивительно, что когда Качалов читал как-то «Необычайное приключение» в Париже, присутствовавший при этом писатель-эмигрант И. А. Бунин демонстративно встал со своего места и, обращаясь к жене, громко сказал: «Пойдем отсюда, а то еще тут обратишься в советскую веру!»
По возвращении на Родину Качалов стал часто читать эти стихи в концертах, но, по его словам, в то время ему еще не удавалось овладеть новой выразительной формой поэзии Маяковского, ее новыми ритмами. Он рассказывал, что после одного из выступлений, кажется, в Колонном зале, его познакомили с Маяковским, который не скрыл от него, что ему не понравилось, как он читает его стихи. Кто-то спросил его: "А вы что ему ответили?" – Василий Иванович очень серьезно, без тени улыбки, сказал: "Ответил, что буду еще работать,– если он не возражает".
И он действительно продолжал свою работу над Маяковским, но еще долго не выносил ее результатов на открытую концертную эстраду. В архиве Качалова периода 1924–1925 годов сохранились переписанные им большие куски из "Облака в штанах" и стихотворение "Послушайте!". По-видимому, он собирался читать их с эстрады, готовил для концертов. Когда в 1927 году появилась поэма "Хорошо!", он послал Маяковскому письмо, в котором взволнованно благодарил его за эту поэму и сообщал о том, что уже начал над ней работать. В спорах о Маяковском он становился, несмотря на свою обычную сдержанность, непримиримым, особенно когда он сталкивался с огульным и беспринципным "отрицанием" поэта. А сколько людей своего круга, своего поколения, начиная со Станиславского и Немировича-Данченко, он заразил своим отношением к Маяковскому, читая его стихи!
Многие из старых зрителей и поклонников Качалова долго не могли "примириться" (а иные так и не примирились) с его увлечением Маяковским. Он получал письма, подписанные и анонимные, содержавшие то горестные упреки в "измене Блоку", то советы вернуться к "своему я", несовместимому с "грубостью" Маяковского, то, наконец, откровенную злобную ругань. Даже некоторые из близких друзей, вкусу которых он обычно верил, иногда убеждали его, что Маяковский не доходит, непонятен, что не стоит ему тратить на эти стихи столько душевных сил.
Это было в тот период, когда у Качалова уже созрел репертуар из произведений Маяковского, в который входили "Во весь голос" (первое вступление в поэму), "Юбилейное", "Разговор с товарищем Лениным", отрывок из поэмы "Про это" и несколько небольших лирических стихотворений. В его программах Маяковский занял одно из самых видных мест, рядом с Пушкиным и Шекспиром. В концертном репертуаре Качалова его удельный вес был исключительно высок и по количеству исполнений и по широте охвата различных аудиторий, а главное, по страстности упорной борьбы Качалова за Маяковского и за свое право нести его поэзию в массы.
Сосредоточившись на немногих произведениях Маяковского, Качалов не прекращал работы над ними в течение нескольких лет. Процесс работы был очень сложен. Обычно одновременно Василий Иванович брал не более двух стихотворений и занимался ими. Собственно, "занимался" – не то слово: он просто читал эти стихи сначала для себя, у себя в комнате, потом – домашним, близким друзьям, и постепенно круг слушателей расширялся.
Он не заучивал стихов наизусть, не скандировал их, не пытался строить никаких ритмических схем, не расчленял поэму на "куски". Он никогда не "толковал" стихов и не говорил о своих "задачах". До поры до времени это оставалось его сокровенным творческим процессом; думается, что он не спешил с точной формулировкой своего замысла даже для самого себя, вынашивая его в себе и боясь спугнуть живое чувство слишком общими и приблизительными определениями. Чтение одних и тех же стихов сначала по книге, потом, по мере постепенного запоминания текста, наизусть переносилось из дому на прогулки, за кулисы театра – на время антрактов, в самые разнообразные компании людей, так или иначе интересующихся поэзией, чаще всего в среду молодежи. Потом начиналась серия чтений по радио, иногда запись на пластинки. Одновременно Василий Иванович начинал выносить стихи, находившиеся у него еще в работе, на эстраду, но в закрытых концертах, без афиш. Только после этого наступала "премьера" в каком-нибудь большом концерте или в программе творческого вечера.
Василий Иванович отлично понимал, что полуготовая работа неизбежно должна вызвать ряд недоуменных отзывов в процессе выступлений, которые он считал для себя предварительными. Он смело шел на это, потому что иначе работать вообще не мог, а над Маяковским – в особенности. Пластинки и тонфильмы, которые он принимал как пробные, оставались, а он часто забывал об их существовании. Впрочем, он знал, что для многих слушателей впечатление от его первых пробных чтений останется отрицательным навсегда, и смотрел на это как на неизбежные издержки своей творческой лаборатории.
Постепенно и неторопливо, но с горячим увлечением овладевал он мыслью поэта, неотрывно от ритмического рисунка строки, строфы, главы, произведения в целом. Слушая в его чтении одни и те же стихи Маяковского по многу раз, можно было заметить, как постепенно исчезала первоначальная чрезмерная рационалистичность – подчеркнутая логика, слишком настойчиво прочерченное развитие мысли. Первоначально _в_с_ё_ казалось главным, необыкновенно важным, первостепенным. Отдельные образы и рифмы как бы выпирали на первый план, смаковались выразительные детали (особенно наиболее смелые и неожиданные метафоры и эпитеты Маяковского), кое-где прорывался декламационный пафос. А в то же время отдельные куски казались не связанными между собой, и переходы с одного к другому были то механическими, то чисто голосовыми.
Волнующе интересно было следить за тем, как по мере работы Качалова стихотворение Маяковского приобретало у него глубину и перспективу, как возникали ударные места, направляя в определенное русло его темперамент, как начинал вырисовываться единый идейно-эмоциональный стержень вещи. Он чутко улавливал у себя сам каждый проблеск живого чувства, до конца правдивого и глубокого отношения – сначала в отдельных кусках, а потом в целом, когда эти проблески внутренне сливались у него воедино. Он шел от частного к общему, не довольствуясь отдельными удачами. Помню отлично, как однажды, после нескольких лет упорной работы над поэмой "Юбилейное", он сказал, показывая рукой на грудь: "Ну, теперь эти стихи у меня уже _т_у_т". Но еще долго после этого продолжалась его работа над формой поэмы, пока он достиг в ней совершенной свободы.
"Юбилейное", как и "Разговор с товарищем Лениным", принадлежало к наивысшим достижениям Качалова в репертуаре Маяковского. Вот где подлинно происходило слияние "актера" с "мастером художественного слова". Он не "играл" поэта, разговаривающего с Пушкиным и с Лениным. Без обычных в таких случаях наивных _а_к_т_е_р_с_к_и_х_ "видений" воображаемого объекта-партнера Качалов был наполнен и взволнован великой личностью, к которой он обращался. Без каких-либо житейских правдоподобных приспособлений, он в обоих случаях добивался впечатления именно живого разговора. Но в этом разговоре не было ни одной будничной интонации, от начала до конца он был переполнен рвущимися на простор большими чувствами. Это был разговор, необходимый Качалову и потому предельно человечески простой.
Стихами Маяковского он говорил с гениальным вождем революции, сохраняя основную интонацию поэта: "Товарищ Ленин, я вам докладываю не по службе, а _п_о_ _д_у_ш_е", "хочется итти, приветствовать, рапортовать!" Так же, как сам Маяковский, Качалов умел сделать этот "рапорт" своим, личным, но в то же время он говорил с Лениным от лица миллионов советских людей, которые "борются и живут" во имя великой, невиданной в мире стройки. В этом и был внутренний пламень его исполнения: донести _с_в_о_е_ отношение к Ленину, разделяемое миллионами ("Лес флагов... рук трава...")
Читая "Разговор с товарищем Лениным", Качалов позволял себе делать небольшую купюру: он пропускал строфу о "кулаках и волокитчиках, подхалимах, сектантах и пьяницах". Ему казалось, что самая конкретность этого перечисления, столь важная для Маяковского в 1929 году, в наши дни невольно снижает и как бы мельчит темперамент того доклада "не по службе, а по душе", с которым поэт обращался к Ленину. Это не значит, конечно, что он хоть сколько-нибудь затушевывал тему непримиримой готовности бороться до конца с "разной дрянью и ерундой", идущей от прошлого. Наоборот, и купюрой своей (верной или ошибочной – это другой вопрос) он только хотел ее усилить и укрупнить. Достаточно вспомнить, как гневно и жестко произносил Качалов слова о врагах: "Мы их всех, конешно, скрутим", чтобы понять, с какой естественной внутренней необходимостью возникала у него из чувства патриотической гордости тема дальнейшей борьбы за свою Родину.
И в "Юбилейном" было много от самой личности Качалова, от его отношения к жизни. Любовь к живому Пушкину и ненависть к тем, кто наводит на его образ "хрестоматийный глянец", _т_в_о_р_ч_е_с_к_о_е, а не почтительно равнодушное восприятие гения Пушкина в современности,– все это Качалов брал у Маяковского, как свое, радуясь союзу с ним и в этой сокровенной и дорогой для него области. Нежно и мужественно, во всеоружии просветленного юмора Маяковского, касался он в этом "юбилейном" разговоре лирической личной темы поэта.
И сквозь все эти взволнованные, беспокойные строки о Пушкине, о судьбах поэзии в нашей стране, о любви звучало то главное, о чем хотел сказать в них Маяковский, звучало как собственный качаловский девиз:
Ненавижу
всяческую мертвечину!
Обожаю
всяческую жизнь!
В «Юбилейном», в главе из поэмы «Про это» («В этой теме, и личной и мелкой...»), в отрывке из «Второго вступления в поэму о пятилетке» Качалов с открытой душой, доверчиво и молодо воспринимал и как бы делал своей лирику Маяковского. «Во весь голос» и оставшийся незаконченным монтаж отрывков из «Хорошо!» были первыми подступами Качалова к его эпосу.
В лирическое вступление к поэме "Во весь голос" он вносил мощную эпическую интонацию Маяковского, как будто черпая ее из тех ненаписанных глав, которые по замыслу автора должны были быть посвящены социалистической пятилетке. Страстные слова Маяковского о высокой и требовательной миссии поэта, которыми он как бы подводил итог своего пути, звучали у Качалова обобщенно. Этими словами он говорил о призвании всякого подлинного художника эпохи социализма. У него было свое, завоеванное всей его жизнью право говорить "во весь голос" об искусстве как о непрерывной борьбе, отвергающей легкие пути, свое, может быть, неосознанное право с гордостью оглянуться на прошлое и обратиться к потомкам, которые будут жить в коммунистическом обществе, "как живой с живыми говоря". В этой внутренней, глубочайшей идеологической конгениальности, а не в отдельных удачах и неудачах исполнения, раскрывается перед нами подлинный смысл встречи Качалова с Маяковским.
Увлечение Маяковским во многом определяло подход и требования Качалова вообще к современной советской поэзии. Мимо него не проходило ни одно значительное явление в этой области. Но по-настоящему становились ему близкими только такие стихи, которые могли заразить его неподдельным _ч_у_в_с_т_в_о_м_ _н_о_в_о_г_о, боевой жизнеутверждающей нотой. Он ценил способность поэта остро видеть и ощущать современность в грандиозном размахе творческих созидательных работ, в новых моральных качествах советского человека, в глубине его патриотизма.
На протяжении многих лет Качалов читал в концертах стихотворение малоизвестного автора "Перекличка гигантов". Его не смущало явное несовершенство формы этих стихов, его волновала та искренность пафоса, с которой начинающий поэт разворачивал картину величественных созданий социалистической эпохи. Надолго вошли в его репертуар стихи молодых поэтов: В. Гусева – о новых талантах, рождающихся в народных массах ("Слава"), и Н. Дементьева – о простой русской женщине-матери, у которой в прошлом – только тяжелый, пригибающий к земле труд и забота, а в настоящем – великая гордость за сына, большевика, ставшего одним из активных строителей новой жизни.
Во время Великой Отечественной войны, когда Качалов уже не играл новых ролей в театре, он создал в своих концертах и постоянных выступлениях по радио как бы свой особый жанр лирического монолога, наполняя стихи Симонова, Светлова и Тихонова всей силой своей беспредельной любви к Родине и ненависти к фашизму.
"У меня к фашизму... какая-то необыкновенно острая, гадливая ненависть, как к чему-то нестерпимо, остро вонючему", – писал он в одном из писем этого периода. – "И хотелось бы дожить до тех дней, когда и духу фашистского не останется на земле". В этих словах голос Качалова-гуманиста звучит такой же горячей убежденностью, какой он воздействовал на слушателей, когда читал с эстрады и по радио полюбившиеся ему "Три кубка" Тихонова, "Итальянец" Светлова или лирику Симонова. И не было ничего удивительного в том, что одним из последних увлечений Качалова стала поэма Твардовского "Василий Теркин" – произведение, на первый взгляд далекое от его индивидуальности по своему стилю, но бесконечно дорогое ему по облику народного героя, простого и великого творца и защитника новой "жизни на земле".
3
Особое место в творчестве Качалова на концертной эстраде занимала драматургия. В программу своих вечеров он включал сцены и целые акты из пьес Пушкина, Островского, А. К. Толстого, Горького, Шекспира. В большинстве случаев это были вещи, специально приготовленные Качаловым для концертов,– даже когда в основу работы были положены фрагменты из роли, сыгранной им на сцене: тогда обычно отрывки из пьесы сочетались в новой, всегда сюжетно законченной композиции (сцены из «Каменного гостя» Пушкина, «Где тонко, там и рвется» Тургенева). А еще чаще к той роли, которую Качалов играл в репертуаре Художественного театра, прибавлялись в его же исполнении отдельные реплики или целые большие куски других ролей той же пьесы. Ряд драматических сцен был сделан им для эстрады совершенно заново и не имел никаких прямых связей с его театральной биографией. Все это являлось результатом самостоятельной работы Качалова, рождалось из его собственной творческой инициативы, без какой бы то ни было помощи режиссера или составителя текста.
С некоторых пор Качалов все чаще отказывался и от партнера в своем концертном исполнении драматических сцен. Один за другим он создавал свои – как он сам их называл – "монтажи", в которых выступал исполнителем двух, а иногда и нескольких ролей. Это, может быть, самое своеобразное явление во всей концертной деятельности Качалова, и правы те, кто называет его "театром Качалова на эстраде".
Неверно было бы думать, что эти "монтажи" Качалова родились из его неудовлетворенности теми ролями, которые он играл в Художественном театре. Конечно, он стремился и обогатить свой репертуар, и проверить или утвердить свои возможности в неожиданных для него амплуа, и совершенствовать на новом материале свое мастерство. Конечно, были роли, как Несчастливцев в "Лесе" или Ричард III, которые ему хотелось, но так и не привелось сыграть в театре, в то время как на эстраде он подходил к ним вплотную и по-своему находил их основное решение, хотя и не играл их от начала до конца. Но главное, мне кажется, было не в этом. К созданию концертного монтажа, как особенного жанра в искусстве драматического актера, Качалова влекла потребность не только расширить пределы своего творчества, но и найти для него новые пути. В этих монтажах он стремился нарушить путем внутреннего перевоплощения привычные границы театральной роли. Ему было важно охватить целиком весь ход увлекавшей его мысли писателя, соединить в себе драматургическую тезу и антитезу, действие и контрдействие – ради нерушимой цельности своего замысла, ради полноты и силы проявления своей творческой воли.
Еще в 1911 году, во время работы над "Гамлетом", он мечтал включить в свою роль слова, принадлежащие тени отца Гамлета, превратив сцены с тенью как бы в разговор Гамлета с самим собой. Приблизительно в это же время он создал "Кошмар Ивана Карамазова", сняв с него всякую мистику и разрешив его как страстный внутренний философский спор, сталкивающий Ивана с тем "чортом", которого он боится и ненавидит в своей собственной, разъеденной эгоизмом душе.
К дореволюционному периоду относится и первая концертная композиция Качалова, в которой соединяются две роли: диалог Иоанна Грозного с Гарабурдой из трагедии А. К. Толстого "Смерть Иоанна Грозного".
В советскую эпоху, в особенности начиная с тридцатых годов, круг качаловских концертных монтажей становится гораздо шире и значительнее, впервые по-настоящему раскрывая еще неизведанные стороны его таланта. Его творческая мысль с небывалой смелостью концентрирует в соединенных им отрывках то трагическую судьбу Гамлета, то квинтэссенцию социально-философского смысла "На дне", то сатирическую, обличительную силу комедии Островского "На всякого мудреца довольно простоты". Он заново создает совершенный образ летописца Пимена в сцене из "Бориса Годунова" и осуществляет наконец в полной мере свой замысел Дон Гуана, еще ускользавший от него в спектакле 1915 года. И на сцене и на эстраде Качалов в эти годы предстает подлинным актером пушкинского театра, подобно тому, как его работы над "Ричардом III", "Гамлетом" и "Юлием Цезарем" утверждают его как актера шекспировского репертуара с громадным диапазоном возможностей. По-новому сыграв Чацкого в юбилейном спектакле Художественного театра 1938 года, раскрыв до конца его обличительную тему, Качалов не довольствуется в концертах блистательным исполнением монологов Чацкого, но сталкивает его в своем монтаже с Фамусовым. Играя обе роли, он до конца воплощает свое восприятие острейшей социальной контроверзы между вольнолюбивым, патриотическим самосознанием Чацкого и воинствующим консерватизмом фамусовской Москвы. Так, принимая на себя задачи, стоящие за пределами обычных сценических возможностей актера, Качалов обнаруживает смелость анализа и глубину обобщений художника-новатора.
Концертные драматические композиции Качалова были разнообразны по своему характеру. Особый стиль каждой из них возникал в зависимости от той цели, которую он перед собой ставил, выбирая тот или иной драматургический материал.
Когда он исполнял в концертах небольшие отрывки из "Трех сестер", объединенные его собственными короткими пояснениями, казалось, что это – творческое воспоминание Качалова об одной из его самых любимых ролей, уже недоступной ему на сцене, но продолжавшей жить в его душе. Он произносил реплики Ирины, Соленого, Вершинина, сохраняя в них тонкость и живую теплоту чеховского текста, но жил он в это время только мыслями и чувствами своего Тузенбаха, его уверенным ожиданием грядущей "здоровой бури, которая идет, уже близка", его неразделенной чистой любовью. Негромко и просто, без малейшего оттенка "жаления себя", глубоко пряча прорывающуюся тоску, говорил он перед уходом на дуэль о своей жажде жизни, о том, как он завтра увезет Ирину на кирпичный завод и будет работать... Каким затаенным волнением были согреты его прощальные слова: "Вот дерево засохло, но все же оно вместе с другими качается от ветра. Так, мне кажется, если я и умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе..."
И смысл качаловской композиции сцен из "Трех сестер" заключался прежде всего в том, что эти дорогие для него, не отзвучавшие и не забытые слова окутывались в контексте диалога, который он только намечал, мужественной и строгой поэзией отношения его Тузенбаха к жизни, к людям, к своему долгу на земле.
Иное значение приобретала ранее сыгранная Качаловым роль в монтаже сцен из "Гамлета". Тузенбаха Качалов вспоминал, возобновлял, как бы заново оживлял внутри себя. Над образом Гамлета он продолжал неустанно работать. Он возвращался к нему постоянно, с тех пор как впервые сыграл эту роль в 1911 году в спектакле Художественного театра, полном неразрешимых противоречий идеалистической трактовки трагедии и носившем на себе давящий отпечаток мистико-формалистической режиссуры Гордона Крэга. Гамлет, как воплощение "мировой скорби", в бессильном раздумье останавливающийся перед злом и несправедливостью, Гамлет – скорбный принц в черных монашеских одеяниях, абстрактно противопоставленный лживому блеску золотого клавдиева двора, – все это было для Качалова далеко позади, когда он создавал в тридцатых годах свой монтаж, охватывающий почти целиком сцены Гамлета из второго акта трагедии.
Ради нового образа самого Гамлета прежде всего была задумана и сделана Качаловым эта работа. Именно потому, что он боялся нарушить живую природу вновь найденной им внутренней характеристики Гамлета, он предпочитал играть его без партнеров. Он слишком дорожил тонкостью открывшегося ему психологического "подтекста" Гамлета, слишком много потратил душевных сил на овладение единством тончайших стимулов его поведения и основным философским смыслом сцены, чтобы, не будучи режиссером, предоставить все это случайностям обычного концертного исполнения "отрывков из пьесы".
Беря на себя роли Полония, Розенкранца и Гильденштерна, он был всецело захвачен образом Гамлета, который он до конца освобождал от символических покровов режиссуры Крэга и от ошибок своего собственного прежнего восприятия. Кроме Гамлета, только Первый актер интересовал и волновал его самим существом образа. По контрасту с той предельной простотой, к которой он стремился в каждом проявлении души Гамлета, он искал для Первого актера смелого декламационного пафоса, но наполненного такой силой мысли, такой увлеченностью, таким внутренним жаром, какие были бы действительно способны "мечтам всю душу покорить". Это была труднейшая задача, и только иногда Качалову удавалось осуществить свой замысел полностью. Тогда последующий монолог о Гекубе, который Гамлет произносит, пораженный покоряющим искусством актера, приобретал у него особенную внутреннюю значительность.
Полоний, так же как и Гильденштерн с Розенкранцем, носил в исполнении Качалова эскизный характер. В изображении этих людей он ограничивался немногими и резкими красками. Казалось, что они нужны Качалову только для того, чтобы его Гамлет мог, как будто в последний раз, до последней глубины заглянуть в окружающую его стихию лжи, пошлости и предательства, сбросить с глаз последнюю пелену и найти в себе силы для борьбы. Качалов как бы пропускал эти образы через себя – Гамлета. Полоний был окрашен его иронией, Розенкрану и Гильденштерн – его глубоким презрением. Иногда можно было подумать, что это не они говорят, а Гамлет их изображает, великолепно их видя и понимая,– почти передразнивает их, может быть, даже карикатурит. Нельзя забыть испытующих, пронизывающих глаз Гамлета – Качалова, устремленных на этих невидимых партнеров. Но в следующее мгновение они переставали для него существовать. Внутренно оставшись один, он словно вглядывался в себя, прислушивался к себе, и тогда рождались интонации предельной душевной муки и страстно требовательного, беспощадного допроса, обращенного Гамлетом" к своей человеческой сущности. Из напряженности этой борьбы с самим собою, уже не прикрытой никаким притворством и никакой игрой, из самой глубины души Гамлета возникал его порыв к действию.
Но наиболее сложным типом драматургического монтажа у Качалова была такая композиция фрагментов из пьесы, которая сталкивала в резком контрасте два образа, в равной или почти равной мере требовавшие его перевоплощения. К этому разряду качаловских монтажей относятся сцены из "Юлия Цезаря", "Горя от ума", "Леса", "Царя Федора Иоанновича". Вершиной его мастерства был диалог Сатина и Барона из четвертого акта "На дне" М. Горького.
Среди этих работ легче всего, по его словам, далась ему сцена из "Юлия Цезаря". Здесь отсутствовало попеременное и моментальное перевоплощение из одного образа в другой в процессе диалога, какое было предуказано Качалову драматургией самого отрывка, когда он брал для работы встречу Несчастливцева с Аркашкой из "Леса", сцену примирения Шуйского и Годунова из "Царя Федора" или сцены из "На дне". В отрывке из "Юлия Цезаря" он соединял два самостоятельных монолога – Брута и Антония, – следующие почти непосредственно один за другим в тексте трагедии. Качалов подчеркивал конец одной речи и начало другой паузой и небольшим пояснительным конферансом. Обычные аплодисменты после речи Брута, по-видимому, не мешали ему. И тем не менее в этих двух монологах было внутреннее единство, заставлявшее воспринимать их как нечто целое. Каждый из них был как бы сгустком роли, наиболее ярко выявлявшим характер героя в острейшей ситуации сюжета. Далекий от обычной концертной декламации эффектных и "выигрышных" монологов, Качалов превращал их в настоящие речи, обращенные к одной и той же воображаемой толпе. Эту толпу он видел не вокруг себя на пустой сцене, а в зрительном зале: здесь, прямо перед ним, были римляне, к которым он обращался. И то, что зрительный зал как бы в качестве "действующего лица" становился прямым объектом воздействия Качалова – Брута и Антония, придавало особенную остроту всему исполнению. Без грима и костюма, без единого намека на аксессуары и декорации, он заставлял совершенно конкретно ощутить накаленную атмосферу Рима в один из самых напряженных моментов его истории, увидеть бушующую своевластную римскую толпу, заполнившую Форум.








