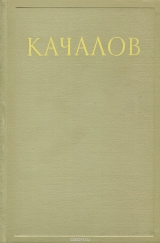
Текст книги "Сборник статей, воспоминаний, писем"
Автор книги: Василий Качалов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 48 страниц)
Так и голос Качалова сразу передал слушателям его главное свойство: благородство и глубину его натуры.
Он встал, и невозможно было бы не узнать, что он – первый в этой толпе, не только по тому, что его одеяние было роскошнее, чем у других, но по тому, как он держался, по каждому его взгляду и жесту, величавому и слегка медлительному, по его гордой простоте – простоте человека, которому не приходится прибегать к стараниям, чтобы вызвать общее поклонение...
Роль Берендея представляет собой большие трудности для исполнителя, потому что в ней совершенно нет динамики. Она написана в эпических тонах, и только один-два момента есть в пьесе, где мудрый и спокойный царь Берендей выходит из этого эпического покоя. Но эта нединамическая роль в исполнении Качалова неотразимо привлекала внимание зрителя, готового смотреть только на него, пока на сцене был этот величественный мудрый старец. Мудрому старцу было тогда двадцать пять лет.
Немало в то время, да и впоследствии, было удивления, как может юноша так художественно воплощать образ старца. Но тут надо принять во внимание: какой юноша, и какого старца? Время показало, что в юном Качалове были заложены те свойства, которые Островский дал своему Берендею. Ведь артистам особенно удаются те роли, те чувства, потенции которых таятся в их собственной индивидуальности. И в этих двух образах – реальном и сказочном – нашлось нечто роднившее их. Те, кто имел счастье знать Качалова в жизни, могли почувствовать в нем то, что он так замечательно передавал в своем Берендее: благородство, человеколюбие, веру в жизнь и красоту, тихий, ласковый юмор, негодование против несправедливости. Все то, что делает образ Берендея таким пленительным, было близко душевной природе Качалова.
В этой роли Качалов сумел совершенно освободиться от той "Декламационной театральщины", которую ему ставил в упрек Станиславский после его закрытого дебюта. Но, не подчеркивая стиха, он вместе с тем необыкновенно музыкально доносил до слушателей великолепный текст Островского. Плавную стихотворную речь разнообразило и не давало ей стать монотонной богатство интонаций: то нравоучение, то тонкий юмор, то легкая грусть, то озабоченность, то светлые воспоминания юности – все просвечивало в его неторопливых, спокойных монологах. Ни на минуту не выходил Качалов из того внутреннего ритма, который он чувствовал в Берендее. Поражало то, как сумел молодой артист овладеть своим темпераментом. Только глаза иногда выдавали его молодость в быстрой смене выражений взгляда: то блеснут лукавым огоньком, то помрачнеют от гнева, то засияют ярким светом. Но это не шло вразрез с образом мудрого старца с молодой душой. В такие минуты можно было поверить его рассказу о том, как, гуляя в саду с женой своего ближнего боярина, Еленой Прекрасной, он был беспечен, "как дитя".
Мы видим из пьесы, что Елена Прекрасная, как жена первого сановника в царстве, играет роль хозяйки в царском дворце. Очень характерно, что царицы и вообще семьи у царя нет, семью ему заменяют его подданные – это ведь сказка! Это отсутствие семейных уз и каких бы то ни было цепей позволяет царю до старости оставаться поклонником красоты, любителем искусства, тонким эпикурейцем!. И хотя для него минули "веселые года горячих чувств и частых увлечений", чего он не скрывает ни от себя, ни от других, даже подчеркивая с некоторым старческим кокетством – "я стар, я сед" и т. п.,– он, не переживая больше "чудесных дел любовного недуга", наслаждается ими эпически в других, и для него зрелище молодой любви прекраснее всего в мире. Он глубоко огорчен тем, что в своей стране видит "остуду чувств любовных", в охолодевших сердцах замечает вместо "чистых чувств любви" тщеславие, зависть к чужой красоте, равнодушие к прекрасному. В этом Берендей видит опасность для своего народа.
Свой разговор с Бермятой Качалов вел в тонах беззлобного юмора: он спрашивал совета у Бермяты не потому, что надеялся на него,– он слишком хорошо знал своего ленивого и сонного министра,– но, скорее, как бы желая получить подтверждение тому, что он прав. Он признавался, что продумал всю ночь вплоть до утра, томимый бессонницей, и теперь знает, как поступить. И как-то скорбно наклонялась голова Качалова, потухали его глаза и устало звучал голос, когда он вспоминал об одной из своих – наверно, частых – бессонных ночей... Но потом, вдруг встрепенувшись, как орел, он твердо и властно объявлял свое решение: в Ярилин день созвать всех берендеев, всех женихов и невест, какие есть в народе, и соединить зараз союзом неразрывным в тот самый миг, как брызнет первый луч солнца. Это будет жертва, угодная Яриле.
Когда же Бермята отвечал ему, что это невозможно осуществить, под его кротостью угадывался владыка, привыкший к безусловному повиновению со стороны окружающих. Голос его звучал совсем иначе, когда он произносил: "Н_е_в_о_з_м_о_ж_н_о – исполнить то, чего желает царь? В уме ли ты?" Грозные нотки звучали в голосе Качалова – Берендея, когда он приказывал Бермяте выполнить его "непеременимое решение".
Еще не справившись с гневом, охватившим его от этого неожиданного противоречия, встречал он отрока, который ему докладывал о приходе обиженной девушки с челобитной. Со следами недовольства в голосе отвечал он вопросом: разве его двери закрыты и входы заказаны для обиженных?
Но с этой минуты все его внимание устремлялось на Купаву, кинувшуюся к его ногам. Он вел сцену с ней в ласковых, отеческих тонах. Бережно поднимал ее с полу. С очаровательным, ласковым юмором спрашивал, в чем дело:
Горе-то слышится,
Правда-то видится,
Толку-то, милая,
Мало-малехонько.
Выслушав ее страстную жалобу, он всецело проникался ее горем. Приказывал бирючам созвать народ для обсуждения этого случая. Пока его облачали в великолепные одежды для предстоящего собрания, он вслушивался в острые, шутливые речи бирючей и временно отвлекался от остального, занятый «любезною» ему «игрой ума и слова». Приведенный в хорошее настроение, он ласково утешал Купаву и обещал наказать обидчика.
Берендей считает вину Мизгиря "ужасной, недопустимой". Он возвещает народу, что для милости "на этот раз закроет сердце".
...Благое чувство,
Великий дар природы, счастье жизни –
так воспринимает он любовь. И вдруг в его прекрасном сказочном царстве такое преступление против любви!
Качалов как бы вырастал в этот момент и являлся уже не благостным Берендеем, а могучим громовержцем. С болью и гневом восклицал он:
...Срам
И стыд моим серебряным сединам!
Его обращение к Мизгирю звучало непреклонно, слова приговора падали, как камни. Мизгирь отвечал царю, что он не скажет ни слова в свое оправдание, но что если бы только царь увидел Снегурочку... Качалов делал отрицательный жест, как бы говоря, что ничто не может изменить его решения. В это время входила Снегурочка. Царь слегка отшатывался, как бы пораженный представившимся ему видением, и уже не отрывал от нее глаз. Когда она по-детски доверчиво подходила к нему, он брал ее за руку, чуть отстранялся, словно желая лучше рассмотреть, и проникновенно, благоговейно произносил: «Полна чудес могучая природа!»
Дальнейшие его слова о ландышах звучали, как музыка.
Любопытно было отметить разницу в его отношении к Купаве и к Снегурочке. В сцене с Купавой это был снисходительный, сочувствующий отец; когда появлялась Снегурочка, мы видели в Берендее _х_у_д_о_ж_н_и_к_а, который встретил совершенное создание искусства и заворожен им. Нельзя было ошибиться: ни единой черточки восхищения старого человека перед юной девичьей красотой здесь не было – один чистый восторг художника. Вот она, жертва, угодная Солнцу! Тот, кто сумеет заронить в сердце Снегурочки искру любви, спасет их всех от гнева Ярилы.
И все же, когда на его вопрос к Елене Прекрасной, кого из юных берендеев она считает наиболее способным заставить Снегурочку полюбить, она отвечает – "Леля",– в его голосе проскальзывает ревнивая нотка: "Какая честь тебе, пастух!" В этой одной фразе столько сожаления об ушедшей безвозвратно молодости... Но тут же он забывает о себе, успокоенный мыслью, что красота Снегурочки должна смягчить гнев Солнца и спасти его народ. И снова благостно и кротко звучит его голос, когда он говорит, что теперь беспечально встретит Ярилин день.
В 4-м действии царь Берендей торжественно выходил со свитой придворных под звуки радостного, жизнеутверждающего напева и благословлял свой народ, соединяя молодые пары брачным союзом.
Однако разгневанный Ярила не хочет показать своего ясного лика, его гнев предвещает недоброе для страны. Царь недоумевает – какая же еще жертва нужна ему? Этой жертвой, как он и думал, оказалась Снегурочка, порождение холода, дочь врага Солнца. Яриле нужна ее гибель. Царь Берендей потрясен чудом таинственной гибели Снегурочки, но он должен склониться перед справедливым судом Солнца. "Солнце знает, кого карать и миловать",– еще как бы с болью говорит он. Но потом овладевает собой и обращается к народу: "Изгоним же последний стужи след из наших душ!" Силой, надеждой и верой звучали эти слова Качалова – Берендея.
Он заканчивал пьесу широким жестом, простирая руки к солнцу и как бы заклиная его явиться:
Пастух и царь зовут тебя – явись!
Он стоял с воздетыми руками, и лучи солнца ярко озаряли серебряные кудри и сияющие золотом одежды Качалова.
Таким остался он в памяти,– счастливым предзнаменованием были эти солнечные лучи, озарившие юного артиста в его первом выступлении. С тех пор солнечным был его артистический путь. Но об этом пути – от Берендея к Чацкому, к Гамлету и дальше – расскажут другие.
Воспоминания о В. И. Качалове
О. Л. КНИППЕР-ЧЕХОВА
Не знаю, придет ли такое время, когда облик Василия Ивановича станет для меня «воспоминанием»... И не знаю, какими словами сказать мне о нем сейчас, в этой книге, посвященной его светлой памяти, когда еще так недавно он был среди нас, такой всем нам близкий, дорогой, красивый своей благородной красотой, значительный своим волшебным обаянием.
Когда я думаю о нем, в памяти моей встают как бы два облика Качалова. Один – это милый, бесконечно дорогой, любимый Василий Иванович, друг, приятель, с которым мы, за полвека почти, много пережили общих радостей я страданий. Другой – это Качалов, наполненный поэтической творческой силой, когда звучал его неповторимый по красоте голос и доносил до слушателя всю глубину его мысли и чувства художника. Слушая его, раскрывалась душа от ощущения какого-то праздника, праздника духа, и возникало чувство радости, света, верилось в красоту жизни, верилось в человека, в его беспредельные творческие возможности.
Вся сущность Василия Ивановича была какая-то красивая, манящая,– и внешность и внутренний мир. Походка, голос, мягкие движения прекрасных рук, взгляд умных, добрых глаз – иногда иронический, насмешливый, иногда задумчивый, отсутствующий, куда-то устремленный, иногда совсем благодушный, со сверкающим юмором – целая гамма была в этих изменчивых серо-голубых глазах... А за взглядом, за улыбкой, за внешним покоем чувствовалась сложная, внутренняя, содержательная жизнь.
У Чехова сказано: "У каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь". И Василий Иванович берег эту жизнь, не растрачивал ее, нелегко раскрывал свой внутренний мир; но уж если он поверит человеку, подойдет близко, то будет другом.
Хоть мы почти полвека прожили рядом, часто жизнь уходила у него в одну сторону, у меня – в другую, и бывало, что мы подолгу не виделись вне театра. Но на сцене вся моя жизнь прошла рядом с ним. Помню, как он поступал в Художественный театр, как впервые пришел "настоящий" актер с пленительным голосом и тонким обаянием в нашу "семью", и с каким любопытством мы разглядывали его. Помню и первый спектакль "Снегурочки", в котором он играл Берендея, а я Леля, и чеховские спектакли: "Три сестры", он – Тузенбах, и "Вишневый сад", он – Петя Трофимов, и "Иванов"; и в это же время – триумф "На дне" Горького, напряженная, грозовая атмосфера "Детей солнца". Помню, как трудно приходилось нам в символических пьесах Ибсена – "Когда мы, мертвые, пробуждаемся" и, позднее, "Росмерсхольм"; потом – мучительное и все же счастливое время работы над "Гамлетом"; снова "Иванов", "Вишневый сад"... И, наконец, последняя наша встреча на сцене – "Враги"...
Последние годы нас как-то особенно сблизили,– то в Барвихе жили мы вместе, то у него на даче, на его любимой Николиной горе. Особенно ярко стоит он у меня перед глазами в санатории "Барвиха", ранним летом 1948 года, за несколько месяцев до нашего 50-летнего юбилея, когда в его самочувствии наступило улучшение и мы все поверили, что он выздоравливает, что прежний страшный диагноз врачей оказался ошибкой. Какой-то окрыленный, бодрый, словно опять распрямился во весь рост, как будто снова вернулись силы. Как он радовался, глядя на окружающую природу, которая в тот год расцветала как-то особенно бурно, мощно, как он любил свои прогулки по чудесному парку,– даже на лодке катался, скрывая это от своих. И массу читал и стихов и прозы, с книгой никогда не расставался. По нескольку раз в день, иногда и вечером, бывало, постучит ко мне в комнату: "Ольга, я на минутку... хочу тебе почитать – ты послушай, как это хорошо... вот еще какой чудный кусок,– можно еще?" Прочтет и скроется: "Ну, прости, покойной ночи!"
И долго еще потом не мирилось сознание с тем, что надвигается неизбежное, страшное.
Николина гора. Прозрачно-ясная осень. Его угасающий облик – все еще прекрасный, мужественный, строгий, но уже молчаливый. Он подолгу сидел в глубоком кресле на террасе, иногда с закрытыми глазами, и чувствовалось, как в этом молчании овладевали им думы...
Как-то вечером, после ужина, сидела я над пасьянсом, рядом сидела наша медсестра; вдруг вошел Василий Иванович, уже удалившийся было к себе в комнату, и громко обратился к нам: "Товарищи, я вас прошу прослушать... хочется попробовать, как голос звучит". И полным звуком, с большим темпераментом прочел из "Воскресения" Толстого весь огромный кусок о Катюше; голос звучал сильно и красиво во всех регистрах; читал он увлекательно, с самыми тонкими нюансами, казалось, никогда он так не читал, с полной отдачей себя. Это было какое-то чудо неповторимое... А за окнами стоял уже поздний темный осенний вечер.
И самый последний раз слышала я его, уже совсем незадолго до конца, в сентябре, в Барвихе, куда мы ездили навещать его – жена его Нина Николаевна, сын и я. После всех разговоров, вопросов и ответов он прочел стихотворение Блока:
Идем по жнивью, не спеша,
С тобою, друг мой скромный,
И изливается душа,
Как в сельской церкви темной.
Осенний день высок и тих...
"Ты чувствуешь, как это замечательно сказано: «высок и тих»,– сказал он и замолчал и задумчиво посмотрел в окно на высокие сосны в осеннем закате... Таким я сейчас вижу его с любовью и болью... И не забыть мне никогда эти два последние чтения.
Счастливыми могут считать себя все, кто хоть раз в жизни видел и слышал Качалова, великого артиста, умевшего волновать и потрясать души людские. Я же, оглядываясь назад, могу сказать, что у меня было особое счастье – долгая совместная жизнь в искусстве, наша дружба и память о его чистой, большой душе.
О. В. ГЗОВСКАЯ
Редко выпадают на долю актрисы огромная радость и счастье быть на сцене в течение долгих лет партнершей великого художника, чудесного, светлого человека, прекрасного, чуткого товарища. Такое счастье послала мне судьба во время моего пребывания в Московском Художественном театре, когда я работала с Василием Ивановичем Качаловым.
Встречалась я и с другими талантами этого театра, работала с ними... Но все это было не то, что Василий Иванович Качалов. Работа с этим выдающимся замечательным актером и человеком не может никогда изгладиться из моей памяти и останется навсегда в моей душе.
Совсем молодой актрисой встретилась я с Качаловым в период его полного расцвета и артистической зрелости на сцене Художественного театра. Московская молодежь обожала Качалова. Каждое его появление в новой роли было для Москвы великим праздником искусства. Этого праздника ждали, к нему готовились, как к событию, и не раз и не два шли в театр на одну и ту же пьесу, запоминали наизусть произнесенные со сцены фразы, монологи Качалова, унося с собой в душе звук его голоса, его интонации, мимику, пластику жеста и движений.
"И вот с этим великим актером я буду работать, буду встречаться, буду его партнершей", – думала я, идя на первую репетицию "Гамлета". Я получила роль Офелии.
Утро. Все участники постановки собираются в светлом, просторном фойе Художественного театра. Взволнованные, сосредоточенные готовятся к началу репетиции. Появляется Василий Иванович...
Внешность Качалова обладает счастливой выразительностью, его лицо открыто перед нами, как и его душа. Что-то светлое, влекущее и располагающее к нему, яркое очарование одухотворенности было во всем его облике. Не часто природа создает человека так гармонично. Из всех пришедших на репетицию Василий Иванович самый скромный; приветливо и ласково здоровается со всеми, начиная от самого Константина Сергеевича Станиславского и кончая безмолвным исполнителем роли стражника во дворце короля Клавдия.
Вот он за столом. Раскрывает тетрадь своей роли. Он весь – внимание, сосредоточен и собран. Глаза его устремлены на Константина Сергеевича, он слушает все, что тот говорит о постановке, о роли Гамлета. Сам Василий Иванович говорит очень скупо и мало. Собравшиеся на репетицию ведут беседу за столом. Начинают обсуждать, разбирать образ Гамлета. Качалов слушает говорящих, он никого не прерывает. Глаза его опущены, и только изредка сквозь пенсне вскинет он взгляд, и сверкнет в нем веселый огонек, и он улыбнется, если кто-нибудь из актеров скажет что-то уж очень наивное или неубедительное,– переведет глаза на Константина Сергеевича, как бы проверяя, как этот режиссер-гений относится к высказываниям о его роли. Своими красивыми руками с длинными пальцами откроет портсигар и закурит папиросу.
А руки у него, особенно кисти, были необыкновенные: они не знали напряжения, мягкие и свободные, очень пластичные, они свободно подчинялись ему. Василий Иванович владел жестом в совершенстве.
Беседа за столом продолжается. Константин Сергеевич обращается к Качалову: "Ну, а вы, Василий Иванович, что вы скажете?" И раздается в ответ качаловский голос: "Пока еще трудно говорить что-нибудь дельное, Константин Сергеевич. Я еще разбираюсь. Говорить легко, то-есть говорить _в_о_о_б_щ_е,– можно много нарассказать, но надо сделать, создать роль Гамлета. Подойти к Шекспиру в декорациях Крэга после Чехова, Горького – это все ново, необычно, волнительно, но не легко. Сразу не сделаешь, сразу и не скажешь".
Отношение Василия Ивановича к Константину Сергеевичу всегда отличалось какой-то особенной любовной почтительностью. Резкое по форме возражение было исключено. Он берег вдохновение этого режиссера и боялся спугнуть, потому что сам был вдохновенным художником-творцом. Я упоминаю об этом потому, что не все актеры облегчали работу Константина Сергеевича. Были и капризные, были и упрямые, были и резкие. Правда, они потом каялись и извинялись, признавая, что ошибались в своих требованиях. А их требования и желания не всегда были запросами художников, но часто желаниями актеров, думавших о своем личном успехе, об актерской выгоде. Такие актеры при неудаче на репетиции обычно стремились свалить вину на плечи партнеров, якобы повинных в их собственных ошибках. Качалов был не таков. Если сцена не получалась, он никогда не обвинял в этом партнера, не говорил, что это не выходит потому, что его партнер или партнерша не дают ему "чего-то", не делают того, что нужно. И если у его партнера тот или иной кусок не получался и приходилось повторять его вновь и вновь, Василий Иванович репетировал с неослабной энергией и в полную силу, помогая, подбадривая и заставляя нас верить, что все получится. Он всегда был чутким, внимательным товарищем, любил общее дело, горел им и отдавал ему себя, не жалея сил. Он был занят во многих спектаклях, играл очень часто. Когда репетиция затягивалась, что случалось у Константина Сергеевича нередко (увлекаясь работой, он забывал о времени), и вдруг кто-нибудь осторожно напоминал Константину Сергеевичу о том, что сегодня Качалов играет и надо его отпустить,– Василий Иванович всегда говорил: "Нет, нет, Константин Сергеевич, не беспокойтесь, я успею, давайте продолжать".
Его актерский "нерв" всегда был напряженным. Никогда из-за Василия Ивановича репетиция не теряла своей интенсивности и увлекательности. Работать с ним было радостно и легко как актерам, так и режиссеру. Он никогда не успокаивался, всегда был к себе требователен, не обращал внимания на похвалы. Ему были чужды самовлюбленность, самомнение или зазнайство премьера. А ведь он по праву, и по таланту своему, и по преклонению перед ним публики был действительно ведущим, первым актером, да еще какого театра! И был признан и любим таким режиссером, как сам Станиславский.
Василий Иванович на репетициях не любил "обговаривать" и объяснять свой замысел. Он в действии показывал, чего он хочет, выслушивал указания Константина Сергеевича, пробовал, повторял вновь и вновь, старался слить свой замысел с замыслом режиссера, закреплял найденное, никогда не откладывая работы на завтра. Бывало, выслушав требования и советы Константина Сергеевича, Василий Иванович не раз попробует выполнить задание режиссера и еще и еще раз повторит сцену, развивая его мысль и прибавляя свое. От этого взаимного творческого обогащения рождались настоящие большие образы, которых забыть нельзя.
Он боялся повторять себя, старался в каждой новой роли по-новому использовать даже свой чудесный голос. Его Гамлет звучал не так, как пушкинский Дон Гуан, или Чацкий, или Горский ("Где тонко, там и рвется" Тургенева). Он не "играл" на своем голосе, не увлекался его красотой, не "показывал" его, как это часто бывает у других актеров, особенно западной школы,– нет, Качалов, как актер русской школы, русской души, блестяще владея голосом, использовал его для выявления полноценных, живых человеческих чувств в тех образах, которые он создавал на сцене.
Он умел работать не только на репетиции, но и дома. Его метод работы над ролью вполне отвечал постоянному требованию, которое Станиславский предъявлял к актерам: не приходить на репетицию пустым, не принося ничего наработанного дома; уже в домашней работе находить то состояние, с которым можно подступать к образу. Константин Сергеевич говорил: "Если актер приходит пустой и ждет от меня помощи, я ничего не могу ему дать. Я не "американский дядюшка" и приданого не раздаю. Если актер пришел наполненный – я могу заниматься творчеством". И Качалов всегда был в творческом состоянии. Найдя дома голос, движения, жесты и внутренние куски роли в намеке, он их раскрывал на репетиции. Он стремился наделить каждый образ особыми характерными красками. Помню, как он искал смех Гамлета при встрече с актерами перед сценой "Мышеловки".
Эти краски помогали ему постепенно вживаться в роль, овладевать ее художественной правдой. Не всегда легко, а иногда и с творческими мучениями рождался тот совершенный образ, который зритель видел на спектаклях.
Помню его проход в сцене "Быть или не быть?", помню, как он искал ритм, шаги идущего в мучительном раздумье Гамлета – не рассудочно-холодного мыслителя-философа, а человека, которого сжигают страшные мысли. Он взволнован... голова его поднята... глаза горят и смотрят пытливо вперед. Но таким он стал не сразу. Первые искания начались с опущенной головы, лирического раздумья, и нелегко удалось этому большому актеру овладеть живым самочувствием Гамлета в этой сцене. От репетиции к репетиции приходило все постепенно, и роль вырастала на наших глазах.
Обладая блестящей памятью, Василий Иванович быстро запоминал текст, и когда другие исполнители еще не знали крепко своих ролей, он всегда первый говорил сидевшему на репетиции суфлеру: "Мне, пожалуйста, не подавайте. Я свои слова знаю".
Качалов отдавал себя на репетиции полностью, как того требовал Станиславский, часто повторявший актерам: "Помните, репетиция – это спектакль. Только вы без грима, нет декорации и зрительного зала". И Качалов на репетиции давал полную силу исполнения, не берег себя, оттого на спектакле он был во всеоружии не только своего таланта, но и высокого мастерства.
А как легко было с ним партнеру! Малейшие, тончайшие душевные переходы он чувствовал и откликался на них, и всегда его взгляд и выражение глаз глубоко проникали в душу. Рождалось настоящее общение, забывалось, что ты на сцене, и можно было чувствовать себя, как в жизни, ощущать перед собой живого человека со всем разнообразием и богатством его внутренней жизни.
Как легко было слушать Офелии монолог Гамлета, как глубоко трагично звучал он для меня, актрисы-партнерши. Я не помню ни одной репетиции, ни одного спектакля, когда бы я без слез возвращала подарки Гамлету. Мучительно, глубоко жаль было этого человека – Гамлета. Так велико было его страдание. Достаточно было только смотреть на Гамлета – Качалова и слушать его, чтобы монолог Офелии, после его ухода от нее, рождался искренно, правдиво, сам собою, от души.
Правда переживания, которую нес в себе Качалов, рождала правду и искренность переживаний у его партнеров.
Я уже сказала выше, что Василий Иванович на своих достижениях не успокаивался, и чем больше был его успех, тем требовательнее он становился к себе и тем больше работал. Он верил во все, к чему призывал Станиславский. Иногда превращался в покорного ученика, желавшего все больше и глубже познавать то, что заново открывал в искусстве этот великий учитель.
Как раз в период подготовки к "Гамлету" Константин Сергеевич начал особенно усиленно работать над созданием своей "системы". Находясь на Кавказе (он был болен и к началу сезона не приехал в Москву), он написал мне письмо, которое я привожу в отрывках. До этого я получила от К. С. Станиславского две тетради его записок, отпечатанных на машинке. Они были только у меня, и в Москве никто их не знал. Вот что писал Константин Сергеевич:
"Я вернусь к концу февраля и со всей энергией примусь за "Гамлета". Чтобы выиграть время, было бы полезно познакомить некоторых артистов с тем, что я нашел нового в нашем искусстве и что я записал в своих записках. Из присутствующих в Москве я больше всего говорил об этом с Вами. Возьмите же на себя труд познакомить с моими записками перечисленных актеров..."
Среди четырнадцати перечисленных фамилий – Качалов. Василий Иванович всегда раньше всех приходил на чтение этих записок, задавал вопросы, очень увлекался этой работой. Иногда, прослушав ту или иную главу, он пробовал применять к себе ее содержание и тут же, вспоминая монолог или диалог какой-нибудь из своих ролей, проверял на себе "систему" Станиславского.
К приезду Константина Сергеевича в Москву его записки были проработаны, и желание Константина Сергеевича было выполнено.
Я очень волновалась, получив это ответственное задание. Я всего второй год была в Художественном театре, робела перед Качаловым – страшно было молоденькой актрисе вдруг читать и пояснять Качалову, который столько лет на сцене и намного старше меня годами, опытом и стажем, записки Константина Сергеевича. Но Василий Иванович, с его чуткостью и деликатностью, так хорошо отнесся к этому, что я перестала чувствовать робость и страх.
Приведу еще выдержку из письма К. С. Станиславского к М. П. Лилиной из Москвы в Бретань. Это письмо Мария Петровна Лилина переслала мне 9 апреля 1941 года, когда я вела занятия по "системе" с молодыми актерами театра имени Ленинского комсомола в Ленинграде. М. П. Лилина пишет при этом: "Первая постановка, в которой Константин Сергеевич хотел применить свою "систему", была постановка "Гамлета". И тут она приводит отрывки из письма Станиславского к ней: "Все с большой охотой и добросовестностью изучают "систему" и искренно хотят играть по ней. Работа интересна. Сейчас В. И. Качалов сидит в игоревой комнате (Игорь – это сын Станиславского.– О. Г.) и ищет «желания» для второй сцены Гамлета. Он уже понял главное и, кажется, начинает любить эту работу".
Из другого его письма:
"Гамлетовцы, кажется, убедились в "системе" и, начиная с Василия Ивановича, все делают упражнения".
Это было в то время, когда целый ряд крупных актеров Художественного театра не признавал "систему", считая, что они все знают, что учиться им незачем. Смеялись над этими упражнениями, комиковали их. Василий Иванович, окруженный нами, молодежью, внимательно и всей душой отдавался тому новому, что открыл Константин Сергеевич для творчества актера. Василий Иванович увлеченно делал с нами все упражнения, приходя рано утром, до начала репетиции, так как во время репетиции упражнениям, о которых Константин Сергеевич писал в своих записках, уже не оставалось места.
Ярко запечатлелась в моей памяти беседа Василия Ивановича с Константином Сергеевичем на одной из репетиций. Репетировали сцену встречи Гамлета с тенью отца.
Василий Иванович в этой сцене изгонял всякую мистику. Он говорил: "Я не могу себе представить разговора с привидением. Я не могу почувствовать, что такое привидение. Я в них не верю".
Вот точные его фразы:
"Я, Константин Сергеевич, не верю в привидения, я должен конкретно и реально зажить живыми чувствами, и потому для меня слова тени отца Гамлета являются словами самого Гамлета, который отвечает своим собственным мыслям, своим собственным чувствам,– тогда я могу зажить этой сценой. Эта сцена для меня не диалог, а это мой внутренний монолог".
Этот замысел так и не был воплощен в спектакле. Но, обсудив с К. С. Станиславским подробно эту сцену, Василий Иванович нашел в ней живое и настоящее, и сцена с привидением, до этой репетиции звучавшая как-то холодно и отвлеченно, ожила, в ней была найдена стремительность действия.
Часто на репетициях Василий Иванович, не ожидая остановки со стороны режиссера, сам останавливал себя, будучи не удовлетворен сделанным, и начинал снова, высказав, чем он недоволен и чего он хочет добиться; при этом всегда не забудет того, с кем он репетирует, и ласково, как бы извиняясь, скажет:








