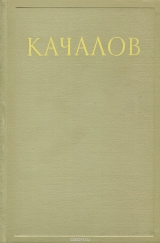
Текст книги "Сборник статей, воспоминаний, писем"
Автор книги: Василий Качалов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 48 страниц)
Враги! Давно ли друг от друга
Нас жажда крови отвела...
Не засмеяться ль нам, пока
Не обагрилася рука,
Не разойтись ли полюбовно?
Нет! Нет! –
поют знаменитый дуэт Константин Сергеевич и Владимир Иванович. Выстрел – и С. А. Мозалевский – Зарецкий кончает сцену: «И – убит!»
У Василия Васильевича не было, конечно, ни шаляпинского баса, ни собиновского тенора, ни хохловского баритона, вообще настоящего певческого голоса не было. Но с каким волнением мы слушали этих певцов из уст Лужского, в его передаче. Как он необыкновенно и чудесно умел передавать и шаляпинскую мощь, и собиновскую нежность, и хохловскую красоту тембра. И тут мы уже не смеялись, тут мы только взволнованными улыбками и одобрительными кивками головы благодарили Василия Васильевича. Мы не смеялись, потому что тут и сам Лужский не хотел и не мог смеяться: не на юмор, а на лирику – на красоту, музыку, поэзию настраивали его эти певцы, потому что даже и в "штампах" своих – обаятельных и благородных – Шаляпин и Собинов волновали и покоряли, а если и вызывали улыбку, то улыбку умиления.
Бывало, начнет по нашим просьбам, по нашим "заказам" Василий Васильевич "давать" Шаляпина – в "Борисе Годунове" или "Мефистофеле", или Собинова – в "Лоэнгрине" или Ленском. Начнет, шутя и посмеиваясь, чуть утрируя сладость собиновского пианиссимо; вдруг "зацепит" живого Собинова, даст намек на звучание его неповторимого тембра – и сразу все кругом затаят дыхание, и Василий Васильевич уже продолжает серьезно и взволнованно петь "Собинова под сурдинку". Также шутя и озорничая, начнет пародировать Шаляпина – "А вы, цветы, своим-м душистым-м тонким-м ядом-м-м", пародийно подчеркивая эти двойные и тройные "м" на концах слов – этот знаменитый шаляпинский "штампик", – но когда Василий Васильевич, дойдя до "и влиться Маргарите в сердце", начинал по-шаляпински раздувать: "в се-е-еэрдце", его вдруг действительно захватывал шаляпинский темперамент, накатывала волна стихийной шаляпинской мощи.
Я не рассказал, не поделился впечатлениями и воспоминаниями о Лужском-режиссере, хотя хорошо помню режиссерскую деятельности Василия Васильевича – кипучую по темпераменту и доброкачественную по вкусу, по художественной честности и правдивости, по ясности и серьезности задач, которые он перед собой ставил. Вот такое осталось у меня общее впечатление от Лужского-режиссера, но не уцелели в памяти отдельные конкретные подробности и особенности его режиссерского образа. Объясняю это тем, что непосредственно, вплотную я не включался в его режиссерскую работу, ни в одном спектакле, который ставил Василий Васильевич, я не участвовал, ни одной роли с ним как с режиссером не проходил. Зато сравнительно мало было постановок Художественного театра, в которых мы с Василием Васильевичем не делили бы актерской работы. И огромное большинство лучших его ролей, которые я навсегда сохраню в благодарной памяти, создавалось на моих глазах...
«Ежегодник МХТ» за 1943 г.
ВСТРЕЧИ С В. А. СЕРОВЫМ
С Валентином Александровичем Серовым у меня было много встреч, много «профессиональных» и более или менее интимных разговоров. Он часто говорил, что ему ужасно хочется дать облик Качалова как бы «защищающего себя от вторжения», нашедшего для этого какую-то не обижающую людей форму, мягкую, но категорическую: «Вы меня не узнаете до-конца, вот за эту дверь вы не проникнете, всего себя я вам не покажу».
На карандашный рисунок Серов потратил три сеанса, каждый часа по два, по три. Рисуя меня, он сам все время подсказывал мне жест рук, толкал на ощущение: "Оставьте меня в покое, у меня есть нечто более интересное и приятное, чем позировать художнику, даже такому, как Серов", – почти суфлировал он мне такое ощущение.
После первого сеанса Серов посмотрел на меня, на рисунок, потом спросил: "Вам нравится?", а когда я ответил: "Да, очень", он вдруг разорвал его на мелкие кусочки. Я ахнул. Мне было жалко рисунка, потому что он показался мне очень верным. Но Серов сказал: "Ничего, будет лучше. Завтра". – "Даете слово?" – "Даю".
На следующий день мы опять встретились, и опять он долго мучился со мной, подсказывая жест очень деликатного, но решительного отказа: "Оставьте меня в покое, мне неинтересно, неприятно позировать, что-то раскрывать; единственное, что я могу раскрыть, – это что мне не хочется раскрываться, все равно из этого ничего не выйдет", – продолжал "суфлировать" В. А. Второй сеанс тоже продолжался часа три. Серов сделал рисунок до колен, en trois quarts; этот рисунок у меня и сохранился. Помню, я только просил его больше не рвать. "Не разорву в том случае, если вы завтра опять будете позировать", – сказал Серов, и подписи своей "В. С." не захотел поставить на наброске. Я дал слово позировать еще раз. Так возник третий рисунок (голова и руки), по-моему, самый удачный. Он попал в собрание Гиршмана, а оттуда в Третьяковскую" галлерею.
ГОРЖУСЬ ЭТОЙ ДРУЖБОЙ
(К 50-летию сценической деятельности
M. M. Блюменталь-Тамариной)
Марию Михайловну впервые увидел я на сцене в 1901 году в коршевском театре в ролях: матери («Дети Ванюшина»), Домны Пантелевны («Таланты и поклонники»), Анфусы («Волки и овцы»), тетки Карандышева («Бесприданница»), в одной из пьес Юшкевича в роли старухи-еврейки и др. И сразу пленился целой галлереей ее живых образов.
Вскоре мы познакомились, сблизились и подружились. Дружбе нашей, стало быть, 35 лет. Горжусь и дорожу этой дружбой. В почетном углу моей души заняла место "Марьюшка" – Блюменталь-Тамарина, прочное и совсем особое место. Много дружб и привязанностей прошло через мою долгую жизнь – личную, интимную – и в театральной жизни моей многим талантам, многим ярким индивидуальностям поклонялся я, и продолжаю поклоняться, и продолжаю радоваться свету и теплу, излучающимся от них. Но ни от кого не излучается такого тепла и света, какими богата Мария Михайловна и на сцене и в жизни.
И тут дело не в одном таланте, пленительном по простоте и ясности, по четкости рисунка, по искрометности юмора. Тут покоряет и на сцене и в жизни необычайная жизнерадостность, бьющая чистым ключом любовь к жизни и к искусству, в самом широком смысле этих слов. И в этой трепетной, неостывающей, а даже как будто разгорающейся с годами любви к искусству – в целом, и к своему делу, к своей работе, в частности, таится секрет ее неувядаемости и вечной молодости, которой она заражает и "омолаживает" всех вокруг себя.
Живи долго и счастливо, мой чудесный товарищ "Марьюшка", живи долго и счастливо, дорогая Мария Михайловна, общая любимица нашей прекрасной страны!
Газета «Малый театр», No 5, 1937 г.
А. А. ЯБЛОЧКИНА
Мне вспоминается начало девятисотых годов: 1901–1902. Я впервые в Москве, впервые в Малом театре. Моим «университетом» до того была Александринка. Я воспитывался на искусстве таких крупнейших актеров Александрийского театра, как Давыдов, Варламов, Дальский, Далматов, Сазонов, Савина, Комиссаржевская, Мичурина-Самойлова, Потоцкая, Стрельская. Уже был заражен театральным спором между Москвой и старым Петербургом и в этом споре был вроде как патриотом Александринки. И вот попадаю в Москву и сразу оказываюсь в плену изумительной плеяды титанов Малого театра, его «семьи богатырей». Малый театр взял меня полностью, несмотря на то, что это было время уже последних величайших созданий Ленского, время, когда Ермолова была уже на склоне лет, Федотова почти не выступала. Причина очарования крылась в настоящем классическом «ансамбле первачей», среди которых самой молодой была Александра Александровна Яблочкина.
Необычайно красивая, изящная, простая, она поразила меня своим сценическим благородством, тонкостью, громадным чувством меры, великолепной дикцией, голосом – самым счастливым соединением прекрасных внешних и внутренних данных. Я помню, какой успех, какой прием у публики имели комедийные роли Яблочкиной, как сейчас вижу ее в пьесах А. И. Сумбатова: "Закат", "Джентльмен". Помню ее и в классике, например Елизаветой в "Марии Стюарт", – тонкую, умную, пластичную. Никогда не забуду замечательной пары в "Бешеных деньгах": Лидия – Яблочкина и Телятев – Южин. С каким огромным успехом! они играли эти сцены в концертах! Мне приходилось бывать в провинциальных городах после гастролей Яблочкиной,– всегда я заставал весь город буквально плененным ею.
Вместе с артистическим ростом Александры Александровны проходило и ее общественное развитие. В те годы она уже была любимицей молодежи, студенчества, помогала революционным кружкам, была инициатором множества концертов в пользу подпольных революционных организаций. Как организатор и руководитель Российского Театрального Общества, она поистине может назвать его своим детищем.
Благороднейшая носительница лучших традиций Малого театра, Александра Александровна в то же время всегда проявляла необычайно живой интерес, сочувствие и симпатию к МХТ. Ни одна генеральная репетиция, ни одна премьера не проходила у нас без Яблочкиной. Когда она, уже знаменитая артистка, бывало, приходила к нам за кулисы, всегда пленял ее какой-то очень хороший тон, полное отсутствие "премьерства", зазнайства.
Такой мы знаем и любим Александру Александровну Яблочкину, дорогого нашего друга, замечательную актрису и общественницу.
Сборник «А. А. Яблочкина», М.–Л., 1937.
ЧУТКИЙ ХУДОЖНИК
(Памяти Я. А. Протазанова)
Мне всегда хотелось играть в кинематографе.
Среди руководителей и актеров Московского Художественного театра кинематограф на всех стадиях его истории вызывал большой интерес и предчувствие, что рождается новый вид искусства. Большинство из нас долго воздерживалось от участия в кинематографе не потому, что это казалось нам зазорным, но почти исключительно из-за неудовлетворительности репертуара кинематографа. Когда предлагались экранизации пьес, сыгранных нами в театре, или специальные переделки классических романов, удерживало отсутствие слова, что неизбежно должно было снизить сюжетную и образную трактовку произведения. Общеизвестно, какие трудности преодолевал МХТ, инсценируя романы Достоевского и Толстого; поэтому понятны были наши опасения насчет экранизации классиков. Нужен был гений Константина Сергеевича и Владимира Ивановича, чтобы сохранить на сцене всю глубину мысли и изобразительную силу гениального русского классического эпоса.
И по этим соображениям и потому, что актеру всегда хочется играть роль современного ему персонажа, настроения которого, естественно, вызывают у актера наибольший отзвук, всякий раз, когда меня спрашивали, в чем я хотел бы сниматься, я отвечал: в современной вещи, которая отразила бы настроения, мысли и надежды современных передовых людей. Впервые с этим вопросом ко мне обратились еще до войны 1914 года и затем обращались много раз в течение 30 лет. Ответ давал я каждый раз один и тот же, и результат получался всегда один и тот же.
Однажды, – это было вскоре после Великой Октябрьской революции, – у меня появилась было надежда, что долгие поиски соответствующего сценария должны привести к положительному результату. Мне позвонил по телефону Николай Ефимович Эфрос и с нескрываемым волнением сказал: "Мы с Александром Акимовичем Саниным начинаем работать в кинематографе. Страшно интересно. С нами работает Симов. Очень заинтересовались Москвин и Леонидов. Буду искать сценарий для вас. При встрече расскажу подробнее. Очень интересно!"
С дорогим мне именем Николая Ефимовича связаны мои воспоминания о лучших моментах творческого пути Московского Художественного, театра и моей артистической жизни.
Одно деятельное участие Николая Ефимовича в начинании, перекидывающем мостик между Художественным театром и кинематографом, вызывало доверие и к самому делу и к людям, которые за него взялись. Я охотно и с большим интересом согласился сниматься в студии художественного коллектива "Русь" (позднее "Межрабпомфильм"). Николай Ефимович привлек В. Я. Брюсова, который обещал написать сценарий в расчете на то, что я буду исполнять главную роль.
Мы очень рассчитывали на этот сценарий, но нас ожидало разочарование. Внезапно Брюсов принес произведение на материале итальянского ренессанса. Ни у меня, ни у коллектива не было никакого желания работать на этом материале, и знакомство с кино на этот раз опять не состоялось.
Вскоре скончался Николай Ефимович, с таким энтузиазмом начавший собирать около студии литературные силы Москвы.
Я стал было думать, что так никогда и не стану сниматься в кино. Но прошло несколько лет, и мне снова предложили сниматься, на этот раз в роли губернатора – главного персонажа рассказа Леонида Андреева в переделке для экрана О. Л. Леонидова.
Как и раньше, когда предлагались мне сценарии, так и теперь возник целый ряд сомнений: актуальная ли тема, правдиво ли раскрываются все внутренние и внешние конфликты у действующих лиц, и хватит ли кинематографических средств, чтобы донести до зрителя тонкую психологическую ткань андреевского повествования.
Но, в отличие от прежних встреч с режиссерами в киностудии, первая беседа с Яковом Александровичем Протазановым о "Белом орле" сразу приняла настолько конкретные и ясные формы, режиссер рассказывал о своих намерениях в таком решительном и уверенном тоне, что я сразу почувствовал какую-то ответственность за срыв творческого и производственного плана целого коллектива, за нарушение ритма их кипучей деятельности.
Энтузиазм и творческое кипение, с которыми принимались за постановку "Белого орла", заразили и меня если не уверенностью, то смелостью. Я уже не раздумывал. Я искал образ своей роли...
Остались в памяти рассуждения Якова Александровича Протазанова в первую же встречу по поводу режиссерского замысла.
"Белый орел", – сказал он, – это как бы развитие замысла фильма "Мать". Пудовкин противопоставил назревающим силам пролетарской революции крепкий, казавшийся монументальным образ царского режима. В этих первых схватках победило царское самодержавие. В "Белом орле" я хочу показать, что при всей видимости своей незыблемости под этим царским монументом и тогда была зыбкая почва. Устами представителя этой власти ей произносится приговор: "Наше дело кончено, господа!" – говорит губернатор, обращаясь к портретам царей".
Четкость, убедительность художественных намерений Я. А. Протазанова вызывали у актера доверие к режиссерскому замыслу, но автор этого замысла никогда не лишал актера самостоятельности в создании образа роли и всегда заботился о хорошем творческом самочувствии актера.
Хочется отметить исключительные трудности, которые возникают перед театральными актерами, когда им приходится сниматься в фильме, совмещая съемки с работой в театре. Работа в кинематографе требует от актера не только огромного творческого напряжения, постоянного напряжения воображения и памяти (из-за съемки по кускам), но и огромного физического усилия. Необходимо поэтому освобождать актеров на время съемок от спектаклей. Что до моей работы в "Белом орле", то я должен отметить, что и театр и Я. А. Протазанов очень заботливо помогали мне преодолеть эти трудности.
Яков Александрович очень подробно рассказывал мне каждый раз перед съемкой весь монтажный ход фильма, последовательность, в какой пойдут отдельные кадры моих кусков и какими "чужими" кусками они будут перебиваться.
В построении образа губернатора я останавливался не столько на переживаниях его как человека, сколько на психологических переживаниях представителя власти. Я пытался в образе губернатора показать такого представителя правящего класса, который сам убеждается в невозможности дальнейшего существования этого класса в роли гегемона. Всю реакцию губернатора на расстрел рабочих я старался раскрыть не в плане реакции человека, а в плане реакции государственного деятеля, физически расстрелявшего рабочих, но сознающего, что он расстреливал не их, а самого себя, свой класс, свой режим.
Мне кажется, что в какой-то степени нам удалось донести основной замысел фильма до зрительного зала.
Сложный рисунок роли и моя неопытность требовали от режиссера напряженной бдительности, и я с горячей признательностью вспоминаю Якова Александровича Протазанова, чуткого художника, учителя и товарища.
«Яков Протазанов». Сборник статей и материалов, М., 1948.
Качалов Василий Иванович
Из писем
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Из писем
.
А. П. ЧЕХОВУ
{Письмо публикуется впервые. Хранится в Центральном Государственном литературном архиве (ф. No 293).}
8 марта 1904 г.
Москва
Дорогой Антон Павлович,
Вы, конечно, знали, что Вашим подарком доставите мне громадную радость {А. П. Чехов подарил В. И. Качалову собрание своих сочинений в десяти томах с надписью: "Дорогому Василию Ивановичу Качалову на добрую память от глубоко уважающего, любящего и признательного автора. Антон Чехов. 26 февраля 1904 г. Ялта".}. И все-таки представить себе не можете, какое это на меня произвело впечатление. Я так обрадовался, я так счастлив, так тронут, так горд. Я уж не говорю о том, что, конечно, это самый дорогой, самый заветный подарок, какой я получал когда-либо в жизни. Для меня это целое событие. Я готов заважничать, почувствовать себя необыкновенным человеком и т. д. Ужасно Вы меня тронули, Антон Павлович,– не могу передать. Спасибо!
В ножки Вам кланяюсь.
У нас все по-старому. Загребаем деньги лопатой. Ни война, ни пост на делах не отразились. Сборы превосходные. Готовимся к Питеру и начинаем понемножку волноваться и вспоминать разных Кугелей. На 4-й неделе отдыхали. Почти все вечера сидели в партере и смотрели с надеждой на молодые всходы – были школьные экзаменационные отрывки. Все прошли молодцами, но чего-нибудь такого, чтобы все ахнули, – не было. Мило, талантливо, но... далеко до меня,– думал каждый из нас.
Новостей у нас мало.
Горький закончил новую пьесу, – это Вы, вероятно, уже знаете. У Москвина родился сын. Назвали Владимиром (стало быть, Владимиром Ивановичем). Продали за 5000 р. "Цезаря". Сбухали его, кормильца, – со всеми декорациями, костюмами, бутафорией, так что и запаха римского не останется. И все рады, все улыбаются. Да и правда, это тяжелая марка – Шекспир.
Бог с ним совсем.
Погода у нас отвратительнейшая.
Начали было делать весну, но не вышло, пошел снег, грязь подмерзла, дует холодный ветер. Небо зимнее. Скверно. Не жалейте, что Вы не в Москве. Будьте здоровы, дорогой Антон Павлович, дай Вам бог всего самого лучшего. Еще раз от всей души благодарю, низко, низко Вам кланяюсь и люблю Вас всем существом.
Ваш Качалов
К. С. СТАНИСЛАВСКОМУ
[Почтовый штамп на открытке:
28 июня 1918 г.]
Дорогой Константин Сергеевич!
Сегодня 14-е июня – день рождения Художественного театра {14/27 июня 1898 г. начались репетиции первых спектаклей Художественного театра в селе Пушкино под Москвой.}. Душой с Вами в этот день. Хочется обнять Вас крепко, без слов, чтобы Вы почувствовали, как дороги мне Вы, давший жизнь театру, который так наполнил мою жизнь. Пишу с парохода – едем в Казань. Имеем огромный успех, и без хвастовства могу сказать – работаем во славу театра. Везде чувствуем большую ответственность за театр, видим, как велика его популярность и, по-моему, везде оправдываем ее... Пока усталости не чувствуем, даже как будто отдохнули, освежились.
Будьте здоровы, дорогой Константин Сергеевич.
Ваш Качалов
К. С. СТАНИСЛАВСКОМУ
25 июля 1923 г.
Ширке, Гарц.
Дорогой Константин Сергеевич!
Мне переслали Ваше письмо ко мне – по поводу Штокмана {Письмо К. С. Станиславского см. на стр. 452.}. Спасибо за него, за добрые чувства и пожелания, за доброе отношение ко мне, которое я в нем почувствовал. Конечно, с благодарностью принимаю и самое "наследство" – т. е. роль Штокмана. Но вступить во владение этим наследством, вступить теперь же, немедленно, никак не могу решиться, и вот об этом и хочу с Вами посоветоваться.
После Вашего письма я получил телеграмму от [Л. Д.] Леонидова, где он убеждает меня взять роль и сообщает, что этой пьесой не только должен быть открыт сезон в Америке, но что она включается в репертуар Берлина и Лондона. Я сейчас же ответил телеграммой, что прошу выслать мне пьесу и что ответ могу дать только перечитавши пьесу. Пьесу мне прислали, я ее внимательно прочел, думал о ней в течение двух дней, почти беспрерывно, можно сказать, днем и ночью, и очень ясно почувствовал, даже ощутил, какой это громадной трудности роль – не в смысле даже физической затраты сил, а в смысле _н_е_о_б_х_о_д_и_м_о_с_т_и_ _п_е_р_е_ж_и_т_ь _е_е_ _в_с_ю, согреть и оживить ее необычайной искренностью, найдя какой-то свой, непременно свой образ Штокмана. Между прочим, когда я думал о Штокмане, до того, как я перечитал пьесу, и когда вспоминал Ваше исполнение, мне казалось, что Вы даете замечательный, но совсем не ибсеновский образ Штокмана, и что, может быть, мне удастся, ближе держась автора, больше на него опираясь, нащупать какой-то образ более ибсеновского Штокмана, пускай не идущий ни в какое сравнение – по увлекательности и трогательности – с Вашим Штокманом, но имеющий хоть тот смысл и оправдание, что он по крайней мере будет более верным и близким автору и уже этим одним представляющий для меня интересную и даже волнительную задачу. Когда же теперь я перечитал пьесу, эта иллюзия исчезла, потому что я увидел ясно и понял, до какой степени Ваш Штокман – самый верный, самый подлинный ибсеновский Штокман. Ибсен написал всё то, что Вы сыграли. Вы дали плоть и кровь _в_с_е_м_у_ тому, что было у автора в душе.
Можно найти какую-нибудь другую внешнюю характерность (думается, все-таки какую-то родственную Вашей), но по существу, по душевным элементам, никакого иного Штокмана, кроме Вашего, нет и быть не может. И не должно быть, потому что всякий другой (по существу другой) будет или совсем мертвый, или полуживой, кривой, однобокий и, стало быть, не ибсеновский. Даже переставить как-нибудь эти элементы Вашего Штокмана, иначе их перекомбинировать, в другой пропорции их распределить, по-моему, невозможно. Тем-то особенно и велик Ваш Штокман, что все его элементы взяты в авторской пропорции, оттого он и такой живой и гармоничный, архитектурно-прочный, вечный.
Итак, перечтя пьесу, я уже не могу мечтать и хотеть дать какого-нибудь другого – по существу, по элементам – Штокмана, не похожего и не родственного Вашему. Но тем не менее, он должен быть "моим", а не Вашим. Скопировать его внешне возможно, скопировать внутренний Ваш образ, то есть "сыграть" его, сыграть все "Ваше", то, что у Вас – подлинное, живое и настоящее,– это будет безобразие и профанация. Я должен дать "своего" Штокмана, составленного из тех же элементов, взятых даже, вероятно, в той же пропорции, как и Ваш, но "своего", то есть элементы, нужные для Штокмана, должны родиться и окрепнуть в _м_о_е_й_ _д_у_ш_е. Иначе ничего, совсем ничего не выйдет.
И вот в сентябре, чуть ли не в начале сентября это должно быть готово. В сентябре в Берлине я должен играть. Будь я даже в 10 раз талантливее, я в такой срок ничего, кроме самого безнадежного и постыдного выкидыша, дать не могу.
Может быть, к Америке, к декабрю, что-нибудь живое и необходимое для роли я бы и нащупал в себе, но сейчас это дело безнадежное.
Не знаю, что мне делать.
Сейчас мне сообщили, что 30-го Вы уже будете в Берлине. Обрываю письмо, так как оно Вас в Фрейбурге уже не застанет. Стало быть, отложу продолжение разговора до личного свидания,– 1 августа и я буду в Варене. Буду искренно рад увидеть Вас, в добром здоровье и душевной бодрости.
Всегда Ваш Качалов
ДРАМАТИЧЕСКОЙ СТУДИИ
при клубе работников полиграфического производства
и прессы в Киеве
{В 1923 г. при клубе работников полиграфического производства и прессы в Киеве была организована драматическая студия. Студийцы на одном из своих первых занятий выбрали почетным членом студии В. И. Качалова и послали ему письмо, в котором рассказали о своих творческих планах. Через несколько дней дирекция клуба получила ответ Качалова.}.
[1923 г.]
Дорогие мои друзья!
Меня чрезвычайно обрадовало ваше теплое, проникнутое настоящей сердечностью письмо.
Сердечность – такой же редкий дар, как ум и красота.
Я очень ценю ваше уважение и горячо благодарю вас за избрание меня почетным членом вашей студии. Мне это особенно приятно, потому что у вас, людей "свинцовой армии труда", и у нас, актеров, много общего в области культуры.
Вы правильно сделали, выбрав для первой постановки пьесу Горького "На дне".
Горький, человек большой сердечности и тепла, с величайшей художественной правдой изобразил в своем творчестве пороки старой России и, с высоты своего литературного гения, в темную глухую ночь царской реакции, осветил, словно прожектором, путь к счастью человечества.
Мы с вами живем в великую эпоху ломки человеческих отношений, острой социальной борьбы. Стиль искусства нашей эпохи должен отличаться тем, что работники литературы, искусства должны уметь слушать сердце народа, корнями своего творчества быть связанными с народом, с неисчерпаемым богатством народного творчества. Только то искусство жизнеспособно, которое связано своими корнями с народом, живет для народа и во имя народа.
По вашему письму я вижу, что вы с чрезвычайной серьезностью подошли к своей работе.
Работайте упорно, с огоньком, сейчас у вас только первые молодые попытки, а перед вами необозримый светлый и солнечный путь.
Я глубоко убежден, что самодеятельному искусству в рабочей стране предстоит великое будущее.
Тешу себя надеждой, что в недалеком будущем приеду в Киев, который я так люблю, встречусь с вами и вместе с вами порадуюсь вашим успехам.
Всегда ваш В. Качалов
В. В. МАЯКОВСКОМУ
[1927 г.]
Дорогой Владимир Владимирович!
Тщетно пытался позвонить Вам по телефону, очень хотелось сказать Вам спасибо за Ваше "Хорошо!" На Кузнецком с Вами встретился нос к носу, дернулся было к Вам, чтобы с благодарностью Вашу руку пожать, но застенчив я, не решился. А молчать не могу. Хочется сказать спасибо. Пусть это Вам все равно и даже наплевать,– а я хочу как-нибудь свою радость и благодарность Вам выразить.
Может быть, Вы уже не живете, где жили, но, авось, Вас разыщут.
Буду учить – уже начал работать,– и буду читать хотя бы отрывки, если ничего не имеете против.
C приветом и глубоким уважением
Василий Качалов
Л. В. СОБИНОВУ
[Без даты.
Предположительно – ноябрь 1928 г.]
Дорогой Леонид Витальевич.
Не знаю твоего телефона, да и не хочу тебя ночью беспокоить,– но очень захотелось сказать тебе спасибо за ту большую радость, какую я испытал сегодня, слушая тебя в концерте. Мне не хотелось итти в публику, и я залез за орган и оттуда слушал тебя, все твои вещи, слушал с огромным наслаждением. Хотелось пожать твою руку, поблагодарить тебя за эту радость, но пока я счищал с себя, со своих рукавов и штанов, пыль страшную, ты уже успел, как и подобает соловью, вспорхнуть и улететь.
Спасибо тебе за твой чистый "душевный" звук – легкий и светлый, за твое "бельканто" ( – нарочно пишу это слово по-русски, – его надо расшифровать, потому что именно его, бельканто, чистого, совершенного, прекрасного "пения" у нас так не хватает) – тебе спасибо!
Жму крепко руку твою.
Твой Качалов
В. А. СИМОВУ
[20 февраля 1933 г.]
Дорогой наш "старик", Виктор Андреевич!
Вот что мы, мхатовские старики, хотим Тебе сегодня сказать. 50 лет жизни Ты отдал искусству. 35 лет из них целиком отдал нашему Театру. Ты оказался даже на год старше старшего из нас. Это потому, что когда Константин Сергеевич и Владимир Иванович еще сговаривались друг с другом о колыбели МХАТа, о том, каких птенцов высиживать в гнезде, как их растить и воспитывать, и какое и где должно быть гнездо,– Ты уже в ту пору вылупился, определился, наметился, как будущий "наш" художник, и весело и творчески уже хлопотал около гнезда,– в своей "симовской" поддевке, белой – летом, в Любимовке и Пушкине, синей – зимой, в Охотничьем клубе и Эрмитаже,– со своими "симовскими" красками и макетными картонами.
Когда мы, теперешние "старики", еще не умели говорить на сцене ни "папа", ни "мама",– Ты говорил уже на одном языке с нашими "родителями" (кто из них "папа", кто – "мама" – это ведь так и осталось невыясненным для истории), Ты тогда уже понимал их с полуслова и работал молодо и весело, расписывая, украшая и сколачивая прочность, долговечность и непревзойденность нашего мхатовского гнезда. Ты 35 лет проработал с нами, не отходя от гнезда, а если отходил, то только на один шаг, чтобы дать и другому мастеру поработать в МХАТе, чтобы росла и воспитывалась смена в театре,– и по первому же зову нашему возвращался и принимался снова за работу, шагая в ногу с нами. Ты 35 лет разделял с нами одну общую и дорогую нам правду нашего искусства. Ты 35 лет дышишь одним с нами воздухом искания большой правды в искусстве.
Честь и слава пусть будут Тебе – в будущих бесчисленных птенцах того славного гнезда, которое стало МХАТом, для создания, роста и укрепления которого Ты так много и талантливо поработал. А в наших "стариковских" сердцах почувствуй,– сегодня особенно почувствуй – нашу дружескую, горячую любовь, ту старую любовь, которая от времени не слабеет, не выдыхается, а, как доброе вино, делается гуще и крепче.
Василий Качалов
Н. П. ХМЕЛЕВУ
(Надпись на портрете)
12 декабря 1934 г.
Я Хмелеву Николаю
Всяких радостей желаю.
Я люблю и чту Хмелева –
Честное даю в том слово.
Не могу я не признать,
Что Хмелев актер "на ять".
Как хорош твой Пеклеванов!
Даже, помню, сам Ливанов
Не нашел в тебе изъянов.
А уж Всеволод Иванов
Над тобою слезы лил,
Так ему ты угодил.
Ну, а Мишка Костылев!
Разве плох в "На дне" Хмелев?
Ну, а в "Дядюшкином сне" –
Ты еще сильней, чем в "Дне".
А в Алеше Турбине
Ты прекраснее вдвойне.
Ты прекрасным стал актером.
Стань таким же режиссером.
Пишут даже, что уж стал –
Я не знаю,– "е видал.
В. Качалов
Вл. И. НЕМИРОВИЧУ-ДАНЧЕНКО
12 мая 1935 г.
Приветствую Вас, дорогой Владимир Иванович, в сегодняшний юбилейный спектакль "Воскресения", как единственного автора этого многоавторского спектакля. Вы дали идею – большую, интереснейшую, плодотворную, этапную в жизни Театра – идею гармонического слияния чудесного толстовского эпоса с живым действием драмы, и Вы же ее осуществили.








