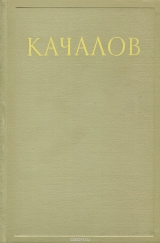
Текст книги "Сборник статей, воспоминаний, писем"
Автор книги: Василий Качалов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 48 страниц)
Качалов-чтец находится в своеобразном соотношении со всеми другими действующими лицами. Он не играет ни Нехлюдова, ни председателя суда, ни Мариэтт, но лишь несколькими штрихами, двумя-тремя интонациями дает почувствовать самое значительное, самое острое в этих образах, их сущность. Резко высвечивая одну какую-либо подробность, Качалов выбирает именно ту деталь, присутствие которой исключает иное, не качаловское восприятие образа. Так поступает он, знакомя зрителя с Нехлюдовым: что ни произойдет впоследствии с князем Дмитрием Ивановичем, мы не поверим искренности и глубине его переживаний,– слишком памятными останутся бархатные, замедленные и закругленные интонации Качалова, впервые представлявшего его нам.
Критика отмечала "особую интеллектуальную иронию", присущую Качалову – исполнителю роли "От автора". С предельной остротой использовал артист свое ироническое оружие в сценах суда, почти целиком заполняющих собою первый акт. Здесь "Качалов конферирует. Он представляет зрителю действующих лиц. Ирония и язвительность его саркастических комментариев полна скрытого гнева... Его конферанс убедительно тенденциозен, он требует немедленной реакции и не оставляет места неопределенности или вялости симпатий" {"Ежегодник МХТ" за 1945 г., т. I, стр. 511.}.
Качалов вел зрителей не сразу в зал суда, а сначала в кабинет председателя, которого заставал "несколько неглиже". Председатель, без сюртука, в жилетке с цепочкой, при галстуке и с орденком на шее, делает гимнастические упражнения с гантелями: руки вверх, руки вниз, руки в стороны. Сохраняя очень серьезное, сосредоточенное, даже суровое выражение лица, председатель суда, приседая, осторожно сгибает коленки. Качалов через плечо поглядывает на него с иронической улыбкой; гимнастика продолжается. Качалов, отойдя в сторону, поясняющим тоном замечает: "Председатель пришел в суд рано. Он любил перед заседанием заняться легкой гимнастикой, которая придавала ему чувство бодрости, а сегодня это чувство бодрости было ему особенно необходимо. Нынче утром он получил записку от немки-гувернантки, жившей у них в доме летом..."
Тем же конфиденциальным тоном сообщает чтец интимные подробности жизни всех членов суда, о появлении которых на сцене сам он только что с торжественной официальной краткостью доложил публике. О всех этих людях в хорошо вычищенных мундирах, людях респектабельных и солидных, уважаемых по должности, чтецу известно что-то очень не солидное и не респектабельное, а впрочем, столь же для них привычное, как вист или посещение судебных заседаний. Качалов очень ровно, очень легким и естественным тоном, как о чем-то само собой разумеющемся, рассказывает о том, что председатель торопится окончить дело к четырем часам, чтобы успеть заехать в гостиницу к своей рыженькой Кларе; и о том, что первый член суда, человек очень аккуратный и нравственный, "нынче утром имел неприятное столкновение с женой" из-за потраченных ею денег; и о том, что Бреве, товарищ прокурора, не успел прочесть дела об отравлении, по которому ему сейчас нужно выступать обвинителем, а не успел он прочесть этого дела потому, что ночью с товарищами провожал сослуживца, много пили и играли в карты, а потом поехали к женщинам, в публичный дом; и о том, что второй член суда, Матвей Никитич, страдающий катаром желудка, потому опоздал, что с нынешнего дня начал, по совету доктора, новый режим, который и задержал его дома дольше обыкновенного,– а так как он пришел наконец-то, хоть и с опозданием,– можно начинать.
Поворот круга – из кабинета председателя в зал суда. Казенный классицизм. Огромный, в рост, портрет "государя императора". Александр III стоит на портрете в точно таком же зале, разительно похожем на тот, куда мы попали: серый, затоптанный паркет и колонны, массивные, как сам император. Театр углублял свое раскрытие "комедии суда", подчеркивая противоречие между казенной, помпезной внушительностью царского судопроизводства и внутренней пустотой, полнейшим ничтожеством людей, которым поручено вершить человеческие судьбы.
Чтец остается на сцене. Стоя у края портала, он молча следит за всем происходящим. Только изредка, словно призывая зрителя к вниманию, он произносит несколько слов и тут же обрывает себя, слушает дальше. Он замечает, как ежится в своем кресле узнавший Катюшу Нехлюдов, замечает, как остановился на нем взгляд подсудимой,– "неужели узнала... Нет, отвернулась..."
От его иронического и гневного внимания не ускользает ни одна подробность. Председатель, вежливо наклонившись, слушает, что доверительно шепчет ему второй член суда. Товарищ прокурора, опершись руками о край стола и подавшись вперед, замер в стойке над какой-то уликой. Качалов бросает на них короткий взгляд. И поясняет зрительному залу: "Совещание между председателем и членом суда было о том, что член этот опять почувствовал легкое расстройство желудка и желал сделать себе массаж и выпить капель. Об этом он и сообщил председателю".
Но то, что замечает чтец, слишком волнует его и нас, чтобы он мог оставаться только язвительным. Когда белый занавес отделяет от зрительного зала зал суда, Качалов сходит в партер и останавливается у рампы, против центрального прохода. "Да, да, это была она",– убежденно и задумчиво произносит он, как будто вспоминая и сравнивая нынешнюю арестантку с той прелестной и невинной девочкой, которую десять лет назад знал Нехлюдов.
"Катюше Масловой минуло всего 16 лет, когда к ее старым барышням помещицам, у которых она жила в качестве воспитанницы-горничной, приехал погостить их племянник – студент, молодой, красивый князь Нехлюдов. И Катюша, не смея ни ему, ни даже самой себе признаться в этом, влюбилась в него",– точно сам прислушиваясь к своим словам, бережно и негромко говорит Качалов. Не затягивая паузы, чтец продолжает: "Потом, через два года, опять этот племянник заехал к своим тетушкам уже офицером, по дороге в армию, в турецкую кампанию, пробыл у них четыре дня и накануне своего отъезда соблазнил влюбившуюся в него Катюшу. Уехал. Через пять месяцев после этого Катюша узнала наверное, что она беременна, и старые барышни помещицы, очень недовольные ею, отпустили ее".
Качалов рассказывает все это, не позволяя себе торопиться, как бы заставляя себя и других вглядываться в каждое слово, настаивая на оценке всего происшедшего, хотя бы теперь, когда "эта удивительная встреча на суде" напомнила Нехлюдову "обо всем и уже требовала от него признания своей бессердечности, жестокости и (Качалов подыскивает слово, наиболее честное и точное) – даже подлости".
Белый занавес поднимается, и чтец снова занимает место на ступенях правого схода в зал; на сцене снова весь состав суда и присяжные в своих креслах. Слово предоставляется обвинителю. Бреве медленно встает, грациозно надевая золотое пенсне и наливая себе воды из графина. Опираясь рукой на стол и слегка склонив голову на бочок, он победоносно оглядывает присяжных.
"Товарищ прокурора был от природы глуп и, сверх того, имел несчастье окончить гимназию с золотой медалью,– кротко и безнадежно замечает чтец,– и потому был в высшей степени самоуверен, доволен собой, чему еще способствовал его успех у дам, ну и вследствие всего этого был уж глуп _ч_р_е_з_в_ы_ч_а_й_н_о".
Качалов, наклонив голову, минуту слушает, как товарищ прокурора, искусно модулируя голос, говорит то нежно и вкрадчиво, то настойчиво-деловито, то, взлетев на октаву выше, с визгом низвергается оттуда на обвиняемых, – и неслышно уходит в правую кулису. Прокурор глуп настолько, что не нуждается в комментаторе. Поворачивающийся круг увозит болтливого обвинителя; последние слова его едва долетают, слышны отдельные выкрики.
Качалову принадлежат в спектакле сложные и многообразные обязанности. Критика готова была признать роль "От автора" – "наиболее трудной из всех ролей Качалова, если только это роль", наиболее сложным "из созданных им образов, если только это образ" {С. Дурылин. В. И. Качалов. "Искусство", 1944, стр. 50.}. Что, собственно, могло породить сомнение, заслуживает ли создание Качалова наименования роли и образа? Где тот критерий, на основании которого мы отличаем понятие "сценический образ" от всех иных смежных понятий? Качалов в "Воскресении" – не абстрагированный обличительный мотив романа, не олицетворенный социальный анализ,– это человек и характер.
"Необычайно удачно было то,– писал А. В. Луначарский,– что он придал своему комментарию характер интимности и импровизации. Это – человек, который очень мягко и непринужденно, без нажима, без педалей, беседует с публикой, зрительным залом о том, что происходит на сцене, в то же время, однако, постоянно давая понять, что эти происходящие там события крайне для нас важны, включая сюда и его самого" {А. В. Луначарский. "Воскресение" в Художественном театре. "Красная газета", 3 февраля 1930 г.}.
Эта качаловская "личная заинтересованность" делала предельно эмоциональным и доходчивым его комментарий ко всем событиям спектакля. И эта же личная, человеческая заинтересованность в событиях, в судьбе героев давала безусловное оправдание присутствию Качалова на подмостках. Качалов на сцене не только потому, что это нужно нам, что зрительному залу нужны его язвительные комментарии и страстные обличения, но и потому, что это человечески нужно ему самому, что он не может предоставить делу итти своим чередом; он сможет уйти лишь в конце, когда в спектакле возникнут люди, которым он передаст свои права и обязанности.
Качалов – "Лицо от автора" – это образ, человеческий характер, обладающий своей логикой поведения, своим меняющимся и крепнущим отношением к другим действующим лицам; отсюда богатство интонаций чтеца – от язвительной сухости иронического докладчика до сдержанного, глубокого лиризма.
Зритель верит Качалову безусловно. И Качалов верит зрителю, ищет встречи и единения с ним. Неслучайно так часто на протяжении спектакля он остается наедине со зрительным залом, с глазу на глаз.
Чтец привлекает к суду и ответу конкретных виновников несчастия Масловой. Но он требует в присяжные весь зрительный зал, делает нас свидетелями обвинения, настаивает на безусловной четкости решения. Начав со всех этих Бреве, членов суда и прочих, чтец переключает свет своего обличения (почти неуловим момент этого переключения) – и пред его судом и следствием встает вся царская Россия. В устах Качалова звучит "беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления" {В. И. Ленин. Лев Толстой, как зеркало русской революции. Соч., т. 15, стр. 180.},– та содержащаяся в творчестве Толстого мощная критика царизма, которая восхищала Ленина. Качалов действительно выступает _о_т_ _а_в_т_о_р_а, – от лица того могучего художника, который "обрушился с страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь" {В. И. Ленин. Лев Толстой и современное рабочее движение. Соч., т. 16, стр. 301.}.
Качалову – "Лицу от автора" было постоянно присуще умение находить мостки от частного к общему, от случившегося на глазах несправедливого дела – к большой социальной несправедливости; и здесь качаловский комментарий отличался огромной силой чувства и убедительностью.
Тусклые, высокие стены женской камеры. Красноватое небо за тяжелым решетчатым переплетом окна. Перебранка. Угрожая кулаками и надвигаясь друг на друга, взвизгивают арестантки. Скверная бабья драка; женщины хватают друг друга за грудь, за волосы, кричат, задыхаясь от гнева. Отворяются двери. Начальственно рявкает надзиратель. Дерущиеся отскочили друг от друга. Рыжая женщина, хлюпая и жалуясь, запахивает разорванную на груди кофту. Плачет, прижавшись к матери, девочка корчемницы.
Чтец – Качалов вошел слева, никем не замеченный. Камера успокаивается понемногу. Арестантки укладываются на ночь. Горбатая старушка, став на колени, начинает истово молиться на сон грядущий. Громко всхлипывая и причитая, улеглась слева на нарах Рыжая. Перебранка постепенно затихает. И наступает тишина.
"Катюша лежала и все думала о том, что она каторжная,– отчетливо и медленно, оценивая последнее слово, произносит чтец.– Ее уже два раза сегодня назвали так, она не могла привыкнуть к этой мысли".
Маслова повернулась на нарах. Остальные все уже спят, только продолжает молиться горбатая старушка, кладя поклоны и долго и ласково усовещевая бога.
Качалов молча слушает, прислонившись спиною к тюремной стене и глядя прямо перед собой.
Слышны всхлипывания. "Это были сдержанные рыдания рыжей женщины",– прерывая молчание, произносит Качалов. Он думал сейчас не о ней, не о Рыжей; но ее плач, ее обида перекликаются с его мыслями. "Рыжая плакала оттого, что ее сейчас обругали, прибили и не дали ей вина, которого ей так хотелось",– говорит Качалов. И так же строго и просто добавляет: "Плакала она и о том, что она во всей своей жизни ничего не видела, кроме ругательств, насмешек, оскорблений и побоев". Он с горечью рассказывает о том, чем кончилась ее давнишняя любовь к вору Федьке Молоденкову.
Качалов говорит далее о конце еще одной любви – чистой и поэтической любви Катюши к князю Нехлюдову. Одно звено цепляется за другое,– звенья в цепи большого, непрощенного социального преступления.
Белый занавес закрывает уснувшую женскую камеру. Качалов по левому сходу спускается в зрительный зал. Стоя в партере, у середины рампы, он продолжает рассказ.
Качалов рядом. Он в своей темносиней тужурке с выглядывающим белым краешком воротника. Предельно лаконичны его мимика и жестикуляция. Прекрасное, умное, знакомое лицо не изменено гримом. Вслушиваясь в качаловские интонации, зритель как бы сам с поразительной, физической остротой начинал вспоминать все, что случилось "той ужасной темной ночью", когда Нехлюдов, проезжая мимо имения, не заехал к тетушкам. И крупные, теплые капли осеннего дождя в темноте, и лес, в котором было черно, как в печи, и мокрая дощатая платформа маленькой станции, и особенно яркий свет в окнах вагона первого класса,– все, что с мучительной четкостью запомнилось Катюше, возникает и в нашей памяти. Когда Качалов говорит, как Катюша, узнав сидящего в купе Нехлюдова, стукнула в окно зазябшей рукой, как она прижалась к стеклу лицом, как дернулся, сдвинутый первым толчком, вагон,– чтец сам как будто не только видит описываемое, но и живет в том физическом самочувствии, о котором он рассказывает. Отсюда – исключительная эмоциональная доходчивость его рассказа. Сохраняя строгую внешнюю сдержанность, чтец какую-то долю минуты внутренне действует в образе Катюши, торопящейся догнать уходящий поезд.
"Поезд прибавлял ходу, и Катюша уже бежала по мокрым доскам платформы и насилу удержалась, чтобы не упасть, когда платформа вдруг кончилась и она сбегала по ступеням на землю. Вагон первого класса – с Нехлюдовым – был уже далеко впереди, мимо нее бежали вагоны второго класса, потом еще быстрее побежали вагоны третьего класса, но и Катюша бежала из последних сил".
Нарастание ритма передает не только убыстренное движение набирающего скорость поезда; ритм показывает, как сгущается и доходит до предела нарастающее, захватывающее чувство отчаяния, от которого бессознательно пытается убежать Катюша. И только когда все уже кончено, поезд промчался и вдали тускло мелькают красные фонари последнего вагона, – слушателя охватывает острое чувство безысходности катюшиного горя.
Глубокая, страстная заинтересованность Качалова-чтеца в судьбе героини превращает его сочувствие в сопереживание. "Вот он рассказывает о Катюше, лежащей на черной земле под дождем и ветром, только что подумавшей о самоубийстве... "Но тут ребенок, его ребенок, который был в ней, вдруг вздрогнул, стукнулся, потом плавно потянулся и опять застучал чем-то тонким, острым и нежным". Он играет Катюшу, когда прислушивается к этим движениям ребенка. Или когда почти кричит за нее: "У-е-е-ехал!" вслед уносящемуся поезду. Играет – и не играет: он внутренне действует в образе Катюши, но внешне довольствуется намеком на физическое проявление владеющих ею чувств. Проходит секунда слияния с образом, и Качалов вновь отходит от него... И кажется, что в силе и полноте этих слияний Качалов находит свое право на возмущенное и жестокое разоблачение Нехлюдова и на сочувствие Катюше, свое право доводить и то и другое до пределов патетики, до страстности приговора, обрушенного на мир, в котором они живут" {"Ежегодник МХТ" за 1945 г., т. I, стр. 512 и 514.}.
После куска "На станции" с особенной силой звучит у Качалова сцена в кабинете у Нехлюдова. Эта сцена, пожалуй, может быть названа центральной сценой спектакля. Ее значение определяется не только великолепием качаловского мастерства, именно здесь достигающего наивысшего художественного подъема. Огромно идейное значение сцены, идейный смысл противопоставления Качалова – лица "от автора" – Нехлюдову. Непримиримость их внутренней полемики составляет пафос спектакля "Воскресение" в Художественном театре. Глубоко ошибались те рецензенты, которые, не разобравшись в сущности сцены в кабинете Нехлюдова, поспешили счесть неверным ее режиссерское решение. Им казалось, что роль Качалова здесь заключается в том, чтобы раскрыть психологические ходы раскаяния Нехлюдова, и этим исчерпана. В статьях, естественно, появлялись недоуменные вопросы, почему же не исполнителю роли Нехлюдову, не Ершову, а лицу "от автора" поручено сделать это, почему вся глубина мыслей, вся поэзия воспоминаний принадлежит Качалову, а не Нехлюдову – Ершову. Критикам можно было только посоветовать глубже разобраться в замысле Художественного театра, в его существе. Качалов вовсе не присваивал себе права передать душевное состояние Нехлюдова,– в его задачи входило иное: не раскрытие, но разоблачение, не объективная передача мыслей, но полемика и опровержение этих мыслей. Так понимали свою задачу артист и театр. Поэтому Качалову, а не Нехлюдову принадлежала ведущая роль в центральной сцене спектакля.
Полемика с Нехлюдовым была полемикой с толстовством. Нехлюдов – образ, органически возникший в творчестве Толстого, образ в известной мере автобиографический для Толстого-философа. Недаром именно Нехлюдову приписывает писатель авторство "Люцерна" – собственных биографических записок. Нетрудно установить внутренние связи между фигурой Нехлюдова из "Воскресения" и его однофамильцем из "Юности"; Нехлюдов в "Воскресении" как будто записывает свои переживания в тот же дневник, который он завел, будучи еще героем "Юности". Толстой-моралист радуется, что герой его снова начинает "держать в порядке свою душевную бухгалтерию и подводить различные итоги в приходо-расходной книге грехов и добродетелей" {Д. И. Писарев. Промахи незрелой мысли (цит. по сб. "Л. Н. Толстой в русской критике", издание второе, дополненное, Гослитиздат, 1952, стр. 173).}, – как иронизировал Писарев. Толстой рассматривает "выражение души" кающегося соблазнителя Катюши с чувством удовлетворения, с определенным сочувствием следит за его переживаниями.
И Качалов – уже не только от лица автора, но и от лица своего искусства, от лица своей эпохи, от своего лица – вступает в спор с Нехлюдовым.
Раздвоение Толстого, его противоречивость, гениально раскрытые Лениным, получали на сцене МХАТ конкретное, реальное воплощение. Нехлюдов – Ершов оказывался в роли высмеянного Лениным толстовца, "хлюпика", который ест вместо мяса рисовые котлетки во имя нравственного самоусовершенствования. Качалов закреплял за собою все права Толстого – обличителя безобразной действительности, трезвого реалиста и критика, того Толстого, который, по ленинским словам, принадлежит будущему. Но Качалов обладал еще более широкими правами, воплощая не только Толстого, но и ленинское, партийное понимание творчества Толстого. Он был беспощадно последователен, ведя полемику с Нехлюдовым, со слабостью, безжизненностью и порочностью философской концепции Толстого.
Качалов превращает князя Нехлюдова в "пустое место", как писал один из рецензентов. Качалов намеренно лишает Нехлюдова доверия, он не верит в его боль, в его раскаяние, в его искренность, не верит в его воскресение. Качалов знает, что Нехлюдов по сути дела испытывает не муки, а неудобства совести; нарушен его душевный комфорт. Голос совести Нехлюдова слишком неглубок по тембру, слишком узок по диапазону. Голос Качалова всей своей глубиной и мощью перекрывает его; и понимание чувств и мыслей героя превращается с неизбежностью в развенчание, разоблачение этих мыслей и чувств.
Своеобразной "заготовкой" для качаловского подхода к Нехлюдову было исполнение Качаловым роли Каренина в "Живом трупе". Нехлюдов, подобно Каренину, воплощенная порядочность, воплощенная чистоплотность, человек с прекрасно вычищенными и выполосканными этическими принципами. В самом начале спектакля, впервые знакомя зрителей с Нехлюдовым, Качалов с саркастической обстоятельностью рассказывает о подробностях его тщательного, просмакованного утреннего туалета. Во втором акте чтец снова становится свидетелем туалета Нехлюдова, на этот раз туалета нравственного. И к этому нравственному охорашиванию, к этой "нравственной гимнастике", по определению Писарева, Качалов относится с беспощадной язвительностью.
Рассказ об игре в горелки, рассказ о заутрене – не воспоминание Нехлюдова, но воспоминание Качалова. Так воспринимает слушатель. Нехлюдову не дано этой чудесной свежести ощущений, этой удивительной точности интонаций – не он, а Качалов, заметил черные и блестящие, как мокрая смородина, глаза Катюши, не он, а Качалов заметил неглубокую, заросшую крапивой, канавку за кустами сирени и сохранил в памяти белое с голубым пояском катюшино платье, красный бантик в черных волосах, праздничное золото иконостаса и высокие голоса певчих.
И уж совсем не воспоминание Нехлюдова и даже не воспоминание Качалова – рассказ обо "всем этом ужасном деле", о ночи ледохода. Это уже не свидетельские показания. Это обвинительная речь. Меняются ритмы. Теперь речь Качалова приобретает тревожное и напряженное звучание. Ритм все точнее и суше; постепенно и напряженно нарастает убыстрение темпа. Качалов сейчас на сцене, рядом с Нехлюдовым, у него за спиной. Но такая мизансцена нужна режиссеру лишь для того, чтобы, сблизив, сопоставив эти фигуры, еще резче дать почувствовать их контрастность. Сопоставление ведет к противопоставлению.
Если для Толстого Нехлюдов автобиографичен, то отношение к нему Качалова складывается иначе. Качалов относится к нему гораздо жеатче и непримиримее, чем Толстой. Он не снимает с Нехлюдова его вины. Широкое социальное обвинение совпадает с обвинением, предъявленным лично герою.
После того, как чтец напоминает ему и нам о конверте со сторублевой ассигнацией, о том, как князь торопливо сунул его Катюше на прощанье, Нехлюдов – Ершов, болезненно и брезгливо морщится: "Ах, ах, какая гадость! Только мерзавец, негодяй мог так сделать. И я, я – тот негодяй и тот мерзавец... Да неужели, в самом деле, неужели я тот негодяй?!" – "А то кто же? – тихо и резко, стоя у самого портала, через всю сцену бросает ему Качалов. – Да разве это одно?.."
Слезы раскаяния Нехлюдова не умиротворят, не умилят Качалова – "От автора", "потому что это – слезы умиления над самим собой, над своей добродетелью". У Толстого эта, вторая, половина фразы уравновешена первою – "хорошие слезы, потому что это слезы радости пробуждения в нем чего-то хорошего". Но для Качалова бесспорна только весомость обвинения, и вторая часть фразы перевешивает безусловно. Ею он подводит итоги.
"Как хорошо, как хорошо!" – распахнув окно и полной грудью вдыхая свежий утренний воздух, говорит Нехлюдов. Но, как опровержение,– поворот сценического круга. Картины "Ворота тюрьмы", "Посетительская", "Контора", "Камера" сменяют одна другую. Одна за другой возникают картины несправедливости, горя, социальной лжи.
Сценическая композиция материала романа неслучайна. Режиссер именно такой группировкой сцен подтверждает качалов-ское суждение о герое и еще более усиливает качаловскую полемику с Нехлюдовым. Там, где для Нехлюдова уже финал, уже более или менее счастливая концовка, поскольку его душа обретает вновь желанное равновесие, перейдя на диету психологических рисовых котлеток, там ни Качалов, ни театр не поставят точки. Качалов и театр знали: "Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества,– и поэтому совсем мизерны заграничные и русские "толстовцы", пожелавшие превратить в догму как раз самую слабую сторону его учения" {В. И. Ленин. Лев Толстой, как зеркало русской революции. Соч., т. 15, стр. 183.},– поэтому мизерен и жалок Нехлюдов. "Воскресение" Нехлюдова столь же лживо и мертвенно, как мертвенно и лживо богослужение в тюремной церкви, о котором с такой жестокой иронической обстоятельностью рассказывает Качалов. Показывая в сменяющихся эпизодах горе и обиды народа, всю глубину социальной несправедливости, режиссер снова подчеркивает то, что уже отметил суровый и язвительный взгляд Качалова: немощность и эгоистичность решений Нехлюдова, бесплодность и безжизненность толстовства.
Единство принципов исполнения Качалова и режиссерского решения спектакля почему-то до сих пор упускается из виду. В критических отзывах, современных выпуску "Воскресения", этот вопрос или не был освещен вовсе, или получил освещение неверное. Читая иную рецензию, можно было бы притти к ошибочному выводу об изолированном, подчеркнуто обособленном положении Качалова в общем строе постановки. По-видимому, причиной этих неверных суждений было своего рода смещение впечатлений. Качалов в качестве "лица от автора" был намеренно противопоставлен группе действующих лиц. Качалов, действительно, был обособлен и от Нехлюдова и от всего образа мыслей и действий людей нехлюдовского круга. Но нельзя на этом основании делать вывод о принципиальном расхождении замысла Качалова с общим замыслом постановки. Органичность участия Качалова в "Воскресении" едва ли нуждается в особых доказательствах: она очевидна. Качалов – "От автора" и режиссер объединены и общей социально-философской задачей и общими художественными принципами ее решения.
Подобно Качалову, Немирович-Данченко экономен в мизансценах. Сценический рисунок несуетлив и сдержан. Так же лаконично и конкретно говорит о самом главном и оформление спектакля, великолепно выполненное художником В. В. Дмитриевым. Декорации не вдаются в подробности. Официальная сухость линий в зале суда, тяжеловесные колонны и тяжеловесный император на парадном портрете; как логическое продолжение залы суда – тюрьма, с ее высокими, тусклыми стенами и тусклым, красноватым небом за решетками. В картине "Деревня" из-за убогого дощатого забора видна весенняя березовая рощица, такая зеленая и нежная, что о ней невозможно было бы и подумать в сценах суда, тюрьмы, конторы; декорации подчеркивают контраст, о котором в самом начале спектакля говорит Качалов, контраст казенного цинизма с "умилением и радостью" весны.
И декорации Дмитриева и вся режиссерская интерпретация были свободны от натуралистической мелочности и давали резкие и точные обобщения изображаемого, согласные с обобщающей и резкой точностью определений Качалова. Так же совпадают иронические интонации Качалова с острыми режиссерскими акцентами во многих сценах, например, в сцене суда.
Качаловский комментарий к поведению Нехлюдова по сути дела заканчивается сценой у графини Чарской.
Чтец отсутствовал долгое время. Эпизоды в конторе, в тюрьме, в деревне шли без его участия. Но функции Качалова в спектакле заключались не только в его личном комментарии; не только самому истолковать, но и настоять на своем толковании, заставить нас думать в указанном им направлении,– так может быть сформулирована одна из основных задач "Лица от автора". Качалов обязывает зрителя оценивать и судить сценические события, он устанавливает свою, качаловскую, точку зрения на все происходящее. "Мне нужно было заразить зрителя своим отношением к происходящему",– писал Качалов о своей роли в "Воскресении". Это удавалось ему в полной мере. Даже молчание Качалова, одно присутствие его заставляло зрителей более настороженно смотреть на сцену, напоминало о необходимости выводов и решений. Так, в сцене у Матрены Качалов, впервые после длительного перерыва снова приходящий в зал, не произносит ни слова.
Старуха ловко и певуче, подбирая слова покруглее, рассказывает, как "зачиврел ребеночек" Катерины. Чтец молча слушает ее ласковые и благополучные интонации, присев на ступеньку левого схода в зал. И то, как молчаливо и внимательно слушает Качалов расспросы Нехлюдова и рассказ Матрены, пристально следя одновременно за залом и за сценой, обязывает и зрителя глубже разобраться в значении происходящего.
Характерна последовательность сцен у Матрены и у графини. Сунув Матрене десятирублевую бумажку, Нехлюдов как бы откупается – дешево! – от прошлого, от чуждого, что по неприятному стечению обстоятельств оказалось связанным с его жизнью,– и идет к "своим". Сцена у графини Чарской – сцена у своих. Нехлюдов именно здесь, в серо-голубой гостиной графини, чувствует себя наиболее естественно и "по-родственному". Здесь все хорошо знакомо, хорошо устоялось и вообще хорошо для Нехлюдова.
Сцены "У Матрены" и "У графини" в инсценировке связаны довольно значительным куском толстовского текста: "Люди, как реки..." Но этот соединительный текстовой кусок в спектакле МХАТ казался излишним – настолько тесно были "пригнаны" друг к другу не нуждающиеся в дополнительных креплениях сцены, настолько последователен был уход Нехлюдова из деревенской избы, куда завела его нечистая совесть, в петербургскую гостиную.
Отрывок "Люди, как реки..." был сохранен в спектакле, но это место оказывалось наиболее слабым. Неудача имела весомые причины, не только чисто композиционного, но идейного порядка. Качалов, читая этот отрывок, не находил здесь внутренней глубины, которая чувствовалась во всех других моментах его исполнения,– не находил и найти не мог. Мораль, заключенная в данном текстовом куске, звучала не по-качаловски, шла вразрез с истолкованием романа, выдвинутым театром. Не мог и не должен был Качалов от своего лица убежденно проповедовать толстовские положения: "Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие... У некоторых людей эти перемены бывают особенно резки. К таким людям принадлежал и Нехлюдов". Если бы эти слова были акцентированы как основная философская "посылка" произведения, они могли бы снять социально-обличительный пафос, конкретность социального обвинения. Перипетии душевного состояния Нехлюдова попали бы в центр внимания театра; был бы искажен весь замысел, согласно которому не сложности "воскресения" князя Нехлюдова составляли основной интерес, но социальный анализ и обличение.








