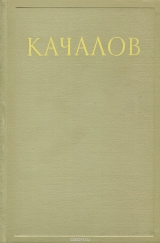
Текст книги "Сборник статей, воспоминаний, писем"
Автор книги: Василий Качалов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 48 страниц)
К этим опасностям в монологе "Достиг я высшей власти..." присоединялась еще одна, не менее серьезная. В своих упорных поисках жизненно правдивого самочувствия Качалов иногда становился чрезмерно угнетенным и подавленным, почти растерянным, неисцелимо тоскующим. Тогда исчезали те краски "холодной элегии", которые на многих репетициях он так настойчиво изгонял из своего исполнения, но при этом исчезала и действенная сила владеющей Борисом большой мысли и воля к преодолению всех препятствий, которую Качалов считал такой важной для основного "зерна" своего образа. Заключительные строки монолога:
И всё тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
становились тогда смыслом всей сцены, они как бы заранее окрашивали весь монолог в болезненно-мрачные тона, и трагедия нечистой совести Бориса неожиданно приобретала самодовлеющее значение.
С этим необходимо было бороться, в особенности потому, что Качалов считал, что в монологе "Достиг я высшей власти..." должна быть прежде всего раскрыта вся глубина той социальной трагедии, которая составляет сущность пьесы. Для воплощения его замысла роли этот монолог был ключевым, определяющим: именно здесь Борис – Качалов _в_п_е_р_в_ы_е_ _о_с_о_з_н_а_в_а_л_ пропасть, отделяющую его от народа, бессмысленную тщетность своих "милостей" и "щедрот", подавленный протест народных масс против любой царской власти. В своем понимании трагедии Бориса Качалов шел от строк:
Живая власть для черни ненавистна.
Они любить умеют только мертвых.
В преодолении этого отравляющего сознания и состояла для него вся действенная линия монолога. Вот почему он так напряженно, буквально сотни раз репетировал эту сцену и был неутомим в своих пробах и поисках. «Он – _п_р_е_о_д_о_л_е_в_а_ю_щ_и_й,– говорил Василий Иванович на репетиции 27 мая 1937 года, определяя для себя самое главное в развитии роли Бориса. – Он сознается себе, что „совесть не чиста“, и все же дальше мы видим, что он преодолел это. Он все время преодолевает – и в сцене с Юродивым и в Думе. В „Смерти“, в сцене с Басмановым, несмотря на банкротство всей своей системы правления, он все же _п_р_е_о_д_о_л_е_в_а_е_т. В нем все время – утверждение себя».
"Преодолевающий и одновременно разрушающийся, – отвечал ему присутствовавший на этой репетиции Вл. И. Немирович-Данченко.– Зацепите эту основную трагическую ноту, и тогда все станет на верный путь" {Дневник репетиций. Запись В. В. Глебова.}.
И бывали замечательные, незабываемые репетиции, когда Качалову удавалось, начиная монолог, как будто ощутить гнетущий груз прожитых пяти лет, надежд, разочарований, тщетных усилий и тяжелых ударов, когда он весь отдавался самочувствию бессонной ночи в пустынном кремлевском дворне, когда из желания осмыслить, найти причину невыносимой тоски вырастал, как огромный вздох, его приговор самому себе: "Мне счастья нет".
Сами собой исчезали тогда парадно красивые мизансцены и жесты "величавого, романтического" Бориса. Качалов стоял неподвижно, словно вглядываясь через воображаемое дворцовое окно бутафорской репетиционной "выгородки" в темноту московских улиц. И в строгой музыке ничем не украшенного пушкинского стиха разворачивалась тревожная, ищущая мысль Бориса – Качалова, как будто стремясь преодолеть это предельное одиночество.
Репетиции в фойе, за столом и в приблизительной "выгородке", обозначающей простыми холщевыми ширмами контуры будущих декораций, были необходимы в особенности для первых двух монологов, для сцены в царских палатах с детьми Годунова и с Шуйским и для последней – предсмертной сцены Бориса с Басмановым и Феодором. Картины "Царская дума" и "Площадь перед собором в Москве" (с Юродивым) вообще репетировались гораздо реже, с расчетом доработать их уже после перенесения спектакля на сцену. В процессе репетиций в фойе они включались в работу от времени до времени; Качалову они были важны, как необходимые звенья в развитии основной трагической коллизии роли.
Но чувствовалось, что не эти картины находятся в центре его творческого внимания, что они его пока особенно не волнуют, что основные внутренние задачи он стремится разрешить в сценах интимных и в основных монологах. Среди этих сцен, занимавших главное место в репетиционной работе Качалова, две были наиболее законченны и почти всегда производили потрясающее впечатление на всех, кому выпадало на долю счастье их видеть: это – сцена с Шуйским и в особенности предсмертная – прощание с сыном.
Вот где могучим взлетом трагедийного темперамента Качалова разрушалось предвзятое мнение о "нетеатральности" или о непреодолимой трудности драматургии Пушкина. Подлинный, театр Пушкина открывался перед нами в напряженности и силе живых страстей, в совершенной поэтической гармонии их воплощения, когда Качалов подходил к этим вершинам своей роли, отбрасывая свободно и смело мишуру театрального "представления" и эффекты поверхностной патетики, отметая, как ненужный сор, все маленькие бытовые "правды" и "оправдания" бессильного прозаического натурализма.
Диалогу с Шуйским предшествует сцена Бориса с детьми. Качалов строил ее на резком контрасте с монологом "Достиг я высшей власти...", в конце которого так ярко запоминался его подавленный усилием воли заглушённый стон: "Да, жалок тот, в ком совесть не чиста".
Здесь, в общении с Ксенией и Феодором, он казался просветленным и успокоенным, как будто сбросившим тяжелый груз со своих плеч.
Что, Ксения? что, милая моя?
В невестах уж печальная вдовица!..
Ксения – как бы часть его несчастья. К ней – нежность, смешанная с острой жалостью, и с ощущением своей невольной вины («я, может быть, прогневал небеса...»). Качалов – Борис, подходя к ней, обнимает ее, нежно целует в лоб, гладит по волосам, положив ее голову к себе на грудь, и тут же с легким вздохом отпускает, как будто с облегчением, словно бессознательно торопясь обратиться к сыну, к своей гордости и надежде. Стоя, посадив царевича снова за стол " опершись на его плечо, Борис внимательно рассматривает карту. Наставление Феодору («Как хорошо! вот сладкий плод ученья!.. Учись, мой сын...») звучит с необыкновенной теплотой, сдержанно-ласково, но вместе с тем и настойчиво-требовательно, со страстным желанием внушить ему всю важность, всю огромность ожидающего его государственного дела. В тоне Качалова – Бориса нет и тени покровительственного или любовно-несерьезного отношения к бойким ответам сына: он так и впился в учебную карту Феодора («наше царство из края в край») и, кажется, не оторвался бы от нее, если бы не вошел Семен Годунов.
Борис сидит у стола, на котором разложена карта. Не изменяя мизансцены, как будто желая продлить эти минуты покоя, счастья и в то же время уже зная, что сейчас все это кончится, уже внутренне приготовившись для дальнейшей борьбы, встречает Борис доклад Семена Годунова о гонце из Кракова и тайной беседе Шуйского с Пушкиным. Короткие реплики царя, который слушает Семена, не отрываясь от карты, звучат устало и раздраженно: "Ну?", "Гонца схватить", "О Шуйском что?", "Сейчас послать за Шуйским".
Годунов уходит, и Борис уже не скрывает своей тревоги:
Сношения с Литвою! это что?..
Противен мне род Пушкиных мятежный,
А Шуйскому не должно доверять:
Уклончивый, но смелый и лукавый...
Качалов произносит первые два стиха этого короткого монолога, глядя прямо перед собой тяжелыми, остановившимися глазами; потом обращается к сыну, как бы привлекая его к государственным делам. При входе Шуйского он снова углубляется в разглядывание карты, обняв правой рукой стоящего рядом сына. Но теперь это уже тактический прием, выгодная позиция для предстоящей борьбы с хитрым и сильным противником. Тон его подчеркнуто спокоен, уравновешен, в нем нет и следа тревоги, он полон достоинства; порой в нем вдруг сверкнет злым блеском отточенная ирония. Борис словно на лету подхватывает реплики Шуйского:
Шуйский
Царь, из Литвы пришла нам весть...
Царь
Не та ли,
Что Пушкину привез вечор гонец.
Шуйский
Всё знает он! – Я думал, государь,
Что ты еще не ведаешь сей тайны.
Царь
Нет нужды, князь: хочу сообразить
Известия; иначе не узнаем
Мы истины.
Шуйский (M. M. Тарханов) начинает издали, говорит медленно и осторожно, словно нащупывает дорогу в темноте. Он избегает встречаться глазами с царем, но изредка бросает на него короткий, острый, испытующий взгляд. Когда в конце своего рассуждения о «бессмысленной черни» он, вдруг оставив елейный тон и прямо глядя на царя, тихо и серьезно произносит: «Димитрия воскреснувшее имя», Борис вскакивает, как ужаленный. Секунда полной растерянности. Искаженное страхом лицо. И первое движение – к сыну: сохранить его неведение, оберечь его чистоту. Он берет его за плечо и хочет проводить к двери, ласково, но настойчиво почти выталкивает из палаты.
Следующий монолог Бориса написан Пушкиным в особом ритме: сильные синтаксические паузы внутри стиха разрушают его плавность. Эти внутренние толчки подчеркивают волнение Бориса в ритмическом рисунке его речи:
Царь
Послушай, князь: взять меры сей же час;
Чтоб от Литвы Россия оградилась
Заставами; чтоб ни одна душа
Не перешла за эту грань; чтоб заяц
Не прибежал из Польши к нам; чтоб ворон
Не прилетел из Кракова. Ступай.
Шуйский
Иду.
Царь
Постой. Не правда ль, эта весть
Затейлива?..
Качалов с необыкновенной чуткостью подхватывал и включал в свое самочувствие беспокойный, скачущий ритм стиха в этом нагромождении гневных и вместе с тем растерянных приказов Бориса.
Но приказов для него сейчас мало. Яд сообщения Шуйского слишком глубоко проник в душу. Качалов – Борис заставляет Шуйского снова сесть – грубо хватает его за плечи и почти бросает в кресло перед собой: надо узнать всю правду, преодолевая и свой ужас и хитрость "лукавого царедворца". Он пронизывает его глазами, как будто желая узнать, что скрывается за этой непроницаемой маской, он ищет его глаз неотступно и яростно, хриплым, прерывистым голосом умоляет его сказать правду, он не грозит, а со сдержанным бешенством внушает Шуйскому ужас грозящей ему казни, снова хватает его за плечи, совсем близко привлекая к себе, чтобы из глаз в глаза дошла вся сила, вся страстность его мольбы и угрозы.
Выдержав этот исступленный напор и как будто убедившись во внутренней слабости царя, Шуйский – Тарханов успокоился. Он с явным наслаждением мучает Бориса рассказом об убитом царевиче, он смакует подробности, выпячивая самые мучительные из них с оттяжками и замедлениями, с наигранным и наглым простодушием верного слуги. В страшном напряжении, впиваясь в него безумным, затравленным, страдальческим взглядом, слушает царь. Хриплым шопотом с трудом выдавливает из себя: "Довольно; удались".
Последний монолог этой сцены "Ух, тяжело!.. дай дух переведу..." снова наполнен у Качалова преодолением страха. Он начинает его медлительно, почти растягивая слова, и очень тихо. Но, начиная со слов: "Но кто же он, мой грозный супостат?", кажется, что его смятенные мысли несутся в таком бешеном ритме, которого не вместить в стройный ряд риторических вопросов Бориса. Измученные глаза и судорожно сжатые на груди руки выражают тяжесть его внутренней борьбы. Он хочет говорить с самим собой уверенно, мужественно, твердо. Но уже не усталый вздох, а скорбный стон, вырвавшийся из глубины души, звучит в его словах:
Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!
Две следующие сцены Бориса, «Царская дума» и «Площадь перед собором в Москве», имели большое значение для Качалова по линии внутреннего развития образа. В первом случае ему было особенно важно найти и точно определить для себя взаимоотношения царя и боярства, во втором – воспринять через Юродивого, на этот раз уже непосредственно, «мнение народное», народный приговор. Обе сцены репетировались обычно в точной выгородке и непременно с участниками народной сцены, каждый из которых, даже если он не произносил ни одного слова, становился для Качалова необходимым и внутренне связанным с ним партнером.
Образ Бориса в "Царской думе" снова давал ему возможность найти яркий контраст с финалом предшествующего монолога (после ухода Шуйского). В обстановке вражеского вторжения, в борьбе с Самозванцем его Борис вновь становится мужественным, властным, грозным. Для самочувствия Качалова была важна парадно-неподвижная исходная мизансцена "Царской думы": в центре на троне сидит царь, по правую его руку – Феодор, по левую – патриарх, на скамьях, расположенных под углом к трону, – бояре. Борис только что получил известие об успехах Самозванца, он комкает в руках грамоту, полную дерзких угроз. Саркастически-гневно звучат его слова об "усердных воеводах". Его жесткая интонация как будто диктует боярам обязательный для них ход мысли, когда он говорит о своих решениях. Спокойным и грозным предостережением всем – в том числе и боярам – наполняет Качалов заключительные стихи монолога:
Умы кипят... их нужно остудить;
Предупредить желал бы казни я...
Вторая половина этой сцены, как и короткая, но чрезвычайно важная следующая сцена выхода царя из собора, предъявляет к актеру самые большие требования. Без слов, с помощью одной только мимики и глаз он должен передать внутреннее состояние Бориса во время пространного рассказа патриарха о чудотворной силе «святых мощей» царевича Димитрия, которые он наивно советует царю перенести в Кремль в надежде, что «народ увидит ясно тогда обман безбожного злодея». Этот рассказ патриарха наносит Борису новую рану. Весь драматический смысл сцены – в том впечатлении, которое он производит на Царя. Поэтом не дано здесь Борису ни одного слова. Есть только ремарка в самом конце монолога: «В продолжение сей речи Борис несколько раз отирает лицо платком».
Труднейшая задача для актера – в самом молчании донести до зрителя и мысль и чувство через непрерывное напряженное внутреннее действие. Здесь многое зависит от партнера, от того, насколько он способен возбудить это внутреннее действие своей творческой активностью, жизненной правдой своего сценического поведения. В этом смысле А. Н. Грибов, замечательно репетировавший роль патриарха, оказывал Качалову большую помощь. Он произносил свой монолог так просто и взволнованно, с такой простодушной, искренней верой в спасительную силу своего совета, что это не могло не возбуждать у Качалова глубокого ответного переживания. Он не прибегал ни к подчеркнутой жестикуляции, ни к усиленной мимике, он ничего не "играл". Он только напряженно слушал патриарха, слегка отвернув от него лицо. И не было растерянности в выражении его застывших глаз, а скорее сопротивление, мучительная внутренняя борьба и тяжкое раздумье, но не страдальческая подавленность.
Такой же, если не еще более сложный, подтекст таит в себе сцена перед собором, где у Бориса всего две реплики и где актеру так много нужно выразить без слов в заключительной паузе, после убийственного для царя ответа Юродивого: "Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода – богородица не велит". Исполнителю роли Бориса здесь легче всего впасть в ложную театральную "сверхзначительность", в пассивное и пустое изображение своего состояния.
Качалов искал во время репетиций внутреннего права на эту паузу, которая имела для него не столько психологический, сколько социальный, акцентирующий смысл. Его мало интересовал в этой сцене пышный царский выход, воспроизведенный в исторической точности, в правдивых бытовых красках эпохи. Для него это был необыкновенно значительный, единственный на протяжении всей пьесы момент непосредственного общения царя с народом. Ему _в_а_ж_н_о_ было узнать, о чем плачет Юродивый, важна была интимность мизансцены с ним, когда он к нему склонялся, сходя по ступеням паперти.
Знаменитая финальная пауза этой сцены возникала из неожиданного для царя контрдействия Юродивого, из неотразимой силы тех страшных ударов, которые он ему наносит.
"Николку маленькие дети обижают... Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича". "...Нельзя молиться за царя Ирода..." Эти реплики насыщали паузу Качалова – Бориса огромным трагическим содержанием. По линии же развития роли они органически подводили Качалова к следующей сцене (с Басмановым), в которой "смятение народа" уже осознается Борисом как реальный факт, еще более грозный, чем военные успехи Самозванца.
Наивысшим достижением Качалова в "Борисе Годунове" была предсмертная сцена Бориса. К ней он подходил с особенным волнением, ею особенно дорожил. Другие картины он обычно готов был проходить во время репетиции по нескольку раз, эту же повторял редко. И не потому, что это было для него физически трудно (последний монолог Бориса огромный, он состоит из 81 стиха), но потому, что каждый раз он уже играл эту сцену во всю силу наполняющих ее трагических переживаний,– как на спектакле, а не как на репетиции. В сущности, мы не видели процесса ее создания, казалось, что она возникла сразу, что Качалов принес в театр уже не замысел, а изумительное воплощение, которое он только проверял и совершенствовал в дальнейшей репетиционной работе.
Это была последняя, самая напряженная схватка в той внутренней борьбе, которой Качалов наполнял роль Бориса. На протяжении всей сцены он жил единым трагическим ощущением надвигающегося конца, которому в последний раз противопоставлял всю силу своей воли и мысли. Он играл умирающего Бориса, не допуская ни одного привычного актерского приема изображения смерти, ни одной натуралистической краски; ни хрипа, ни стона, ни слабеющего голоса, ни многочисленных пауз не было в его исполнении. Не было и привычных мизансцен "умирающего". Ощущение близкого конца, казалось, наоборот, возбуждало в Качалове – Борисе все его душевные силы, вызывало предельную напряженность мысли. Его завещание сыну было страстным, в иные секунды лихорадочно-страстным. Оно воспринималось как последняя попытка самоутверждения Бориса, как порыв осуществить, хотя бы в будущем, через сына, свою политическую волю.
Но в то же время затаенным жизненным вторым планом звучали в этом завещании растерянность и тоска отвергнутого народом правителя. С какой-то отчаянной нежностью сжимал он в своих объятиях голову сына, впивался в него глазами, внушая ему уже не мысль, а заклинание:
...Ты муж и царь...
Беспокойный, прерывистый ритм монолога сливался в захватывающей передаче Качалова с порывом преодолеть отчаяние, не поддаться слабости, успеть высказать самое заветное. Властным и грозным окриком раздавались слова, которыми он останавливал обряд предсмертного пострижения:
Повремени, владыко патриарх,
Я царь еще...
Но в обращении к боярам («Целуйте крест Феодору»), во взгляде, устремленном последним усилием воли на Басманова, была мольба, и тоской беспредельного одиночества звучали последние усталые слова Бориса:
Святый отец, приближься, я готов...
В 1937 году Художественный театр не довел до конца работу над «Борисом Годуновым», остановившись на черновых генеральных репетициях. Но в жизни Качалова этот образ, не завершенный и не воплощенный на сцене, занял тем не менее огромное место, как никогда сблизив, сроднив его с Пушкиным.
Его работа над трагедией Пушкина, полная смелых исканий и творческой страстности, должна навсегда остаться для новых поколений советских актеров маяком, освещающим путь к пушкинскому театру, как к одному из величайших сокровищ русского национального драматургического гения.
Б. И. Ростоцкий, Н. Н. Чушкин
Образы Шекспира в творчестве В. И. Качалова
«Вы счастливец! Вам дан природой высший артистический дар... Высший дар природы для артиста – сценическое обаяние, которое Вам отпущено сверх меры», – писал К. С. Станиславский В. И. Качалову в 1935 году.
В признании огромной силы воздействия сценических образов Качалова сходились все критики. О неповторимом обаянии его артистического дарования много и восторженно писали друзья Художественного театра, его не могли отрицать даже наиболее рьяные и ожесточенные противники МХТ. Оно было для всех непреложным и очевидным. Его можно было по-разному истолковывать, но нельзя было отрицать. Секрет этого исключительного обаяния Качалова нередко, особенно в дореволюционное время, сводили к чему-то таинственно-необъяснимому, таящемуся в чем-то "неразложимом".
Всем, кто хотя бы однажды видел Качалова на сцене, становились очевидными замечательные, редкие по своей гармоничности артистические данные Качалова и среди них, конечно, в первую очередь, знаменитый, несравненный качаловский голос, о котором сказано и написано так много проникновенных слов.
Но не только в этих артистических данных заключалась "тайна" обаяния Качалова. Огромный художник сцены, Качалов безупречно владел своими выразительными средствами, используя их для создания образов, выраставших в глубокие и значительные типические обобщения, которые отвечали на самые важные запросы современности.
И не коренились ли в конечном счете причины этого обаяния, этой покоряющей власти Качалова над умами и чувствами зрителей прежде всего в том, чем всегда определяется власть актера над современниками,– в отражении самых животрепещущих, самых существенных и острых проблем, их волнующих? Если ко всем великим артистам, бывшим "властителями дум" современников, применимы известные слова Шекспира, устами Гамлета сказавшего об актерах: "Они зеркало и краткая летопись своего времени", – то, быть может, именно творчество Качалова является наиболее блистательным подтверждением этих слов.
Еще в дореволюционную пору, с первых же своих шагов в Московском Художественном театре, Качалов стал не только любимцем театральной Москвы, но и любимейшим актером русской демократической интеллигенции. Так случилось именно потому, что Качалов был глубоко _с_о_в_р_е_м_е_н_н_ы_м_ актером, который "не умел и не мог говорить не о том, что касается самого живого, самого острого его дней".
Вступив в Художественный театр после своих первых успехов в провинции, суливших ему блестящую карьеру "премьера" – любимца публики, отказавшись от ее соблазнов, Качалов стал актером Чехова и Горького, и это прямо и непосредственно вело его к воплощению самых важных, самых глубоких передовых идей современности. Определившись и сложившись как художник в работе над произведениями Чехова и Горького, органически и неразрывно связанный с передовыми традициями русского реализма XIX века, Качалов и во всех других своих ролях продолжал оставаться в подлинном смысле слова актером-с_о_в_р_е_м_е_н_н_и_к_о_м, чутко откликавшимся на наиболее важные явления жизни.
Эта особенность творчества Качалова сказалась и в тех образах, которые были созданы на материале зарубежных авторов. Эти роли, разумеется, сами по себе не были отражением русской действительности в ее настоящем или в ее прошлом. Но в той сценической жизни, какую они получали в исполнении Качалова, они оказывались созвучными современности, наполненными таким духовным богатством, которое делало их подлинно близкими, захватывающими, нужными зрителю, отвечающими на те или иные актуальные вопросы.
Среди ролей этого круга на первый план, естественно, выдвигаются создания Качалова в шекспировском репертуаре – его Юлий Цезарь и его Гамлет, а также его работа над Ибсеном, наиболее значительным и совершенным результатом которой стал Бранд в одноименной пьесе норвежского драматурга, – образ, получивший благодаря исполнению Качалова не только художественный, но и широкий общественный резонанс.
Эти образы, несмотря на все их различие, вели Качалова к воплощению на сцене _т_р_а_г_е_д_и_и_ и были раскрытием трагического начала в творчестве актера.
Качалов по-новому и глубоко своеобразно решал эту проблему, опираясь на опыт русского реалистического искусства. Он был вернейшим и одареннейшим выразителем в актерском искусстве тех истинно новаторских идейно-эстетических заветов, которые были положены в основу творческого развития Художественного театра его создателями и руководителями – К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко.
Недаром в критических отзывах, исходивших из лагеря, враждебного Художественному театру, враждебного реализму вообще, качаловского Гамлета, как и качаловского Бранда, упрекали в том, что артист "русифицировал" эти роли. Несомненно, Качалов дал _р_у_с_с_к_о_г_о_ Гамлета и _р_у_с_с_к_о_г_о_ Бранда, но это вовсе не означало какого-то искажения, сужения и вульгаризации образов, как пытались представить критики, зараженные в той или иной степени духом космополитического эстетства. Напротив, это означало наиболее глубокое, последовательное и целостное раскрытие самого значительного, что было заключено в этих образах.
Юлий Цезарь Качалова – явление выдающееся, явление мирового масштаба.
Такого Цезаря, каким показал его Качалов, не было на протяжении всей сценической истории этой трагедии Шекспира, включая и постановку Мейнингенского театра, в репертуаре которого "Юлий Цезарь" считался одним из "коронных" спектаклей. Большая философская мысль, облеченная в предельно законченную пластическую форму, освещала этот образ Качалова, оставляя далеко позади бездушную натуралистическую имитацию мейнингенцев.
Такого Гамлета, какого увидел зритель на сцене Художественного театра, было бы напрасно искать в сценической истории Шекспира за рубежом. Это был Гамлет, задумавшийся над судьбами человечества, над сложнейшими вопросами общественного бытия, кардинальными проблемами жизни, – образ, полный глубокого идейно-философского значения. Нет сомнения, что в качаловском Гамлете, каким он был создан в спектакле 1911 года, были и временные, преходящие черты, которые были впоследствии изжиты, преодолены самим артистом. Но бесспорно одно,– и это верно определил П. А. Марков,– "качаловский Гамлет таил в себе такую глубину сомнений и такое недовольство хаосом мира и его несправедливостью, что становился обвинителем современного общества" {П. А. Марков. Театральные портреты. "Искусство", М.–Л., 1939, стр. 114.}.
Это решающее обстоятельство определило глубокое своеобразие облика качаловского Гамлета, его особое место в сценической истории знаменитей шекспировской трагедии.
Первым опытом утверждения реалистической трагедии, борьбы с ложной, оторванной от жизни, напыщенной романтикой явился уже Юлий Цезарь Качалова. Гамлет Качалова был также вызовом обветшавшей театральной романтике, которая к концу прошлого века у эпигонов романтизма утратила свой идейный и общественный смысл и выродилась в пустой театральный штамп.
Работа над созданием монументальных трагических образов была продолжена Качаловым в советскую эпоху. Прометей Эсхила, Манфред Байрона, Эгмонт Гёте были воплощены им в его концертных выступлениях.
Но самым убедительным и самым ярким подтверждением всей ценности многолетних творческих исканий Качалова в зарубежном трагедийном репертуаре явилась его работа над образами Шекспира. Качалов, показавший на концертной эстраде образы Антония и Брута, Гамлета, Ричарда III, – это новая, важная глава деятельности Качалова – _с_о_в_е_т_с_к_о_г_о_ актера.
1
Тем, что Качалов стал выдающимся создателем роли Юлия Цезаря, он обязан Вл. И. Немировичу-Данченко. Именно Немирович-Данченко смело угадал в 28-летнем Качалове великолепные возможности для воплощения этого образа. И именно понимание важности роли Цезаря, ее значительности и масштабности привело Немировича-Данченко к мысли поручить ее исполнение Качалову в осуществленной им в 1903 году постановке шекспировской трагедии на сцене Художественного театра. Это был смелый и неожиданный выбор. Он говорил об удивительной зоркости и мудрости режиссера, сумевшего угадать в молодом артисте, только три сезона пробывшем в МХТ, создавшем образы Берендея в «Снегурочке», Тузенбаха в «Трех сестрах» и Барона в «На дне», возможности для воплощения шекспировского Цезаря.
В период подготовки режиссерского плана постановки "Юлия Цезаря" Вл. И. Немирович-Данченко писал В. В. Лужскому: "Я только что окончил все – до Сената и нахожу множество превосходных моментов – у Брута, Порции, Лигария, Децима, Кассия и в особенности у Цезаря. Какая это удивительная роль! Я еще не подошел к Антонию вплотную, но до его сцен, если бы я был актером на все руки,– я бы взял Цезаря" {Письмо Вл. И. Немировича-Данченко к В. В. Лужскому от 23 июля 1903 г. Музей МХАТ.}. И с замечательной прозорливостью предсказывая успех молодому исполнителю роли Цезаря, Немирович-Данченко добавлял: "Больше всего я доволен у себя картиной у Цезаря – может быть, потому, что влюблен в эту фигуру. Если Качалов верит мне хоть сколько-нибудь, то он сделает себе репутацию на этой роли..." {Письмо Вл. И. Немировича-Данченко к В. В. Лужскому от 23 июля 1903 г.}.
Начиная работу над этим спектаклем, Немирович-Данченко, конечно, вполне сознательно вступал в соревнование с прославленной постановкой той же пьесы в немецком Мейнингенском театре, хорошо известной русскому и, в частности, московскому зрителю по гастролям мейнингенской труппы еще в 1885 году. Это соревнование, закончившееся, как известно, несомненной и общепризнанной победой Художественного театра, одновременно было и полемикой с мейнингенцами. И одним из серьезнейших аргументов в этой полемике должно было стать истолкование роли Цезаря.
В 1885 году Вл. И. Немирович-Данченко выступил на страницах журнала "Театр и жизнь" с открытым письмом, в котором он подверг обстоятельному критическому разбору постановку "Юлия Цезаря" в Мейнингенском театре. Отдавая должное высокой постановочной технике немецкой труппы, Немирович-Данченко в то же время отказывался признать за мейнингенцами право на своего рода "монополию" в сценическом осуществлении исторической трагедии Шекспира. Он усматривал в их спектакле очевидное и подчас грубое нарушение правды характеров и логики в развитии действия. Упрекая исполнителей всех центральных ролей в односторонней и тенденциозной идеализации, а режиссуру – в произвольном сокращении ряда существенных эпизодов и монологов, Немирович-Данченко писал в заключение: "Картины, группы, громы и молнии – все это бесподобно, а ни один характер не выдержан..." {Вл. И. Немирович-Данченко. По поводу "Юлия Цезаря" У мейнингенцев. (Письмо в редакцию.) "Театр и жизнь", 25 марта 1885 г.}.
В качестве существенного минуса мейнингенского спектакля Немирович-Данченко отмечал ограниченное, узкое, обедняющее Шекспира исполнение роли самого Цезаря артистом Рихардом: "...мне остается добавить, что все газеты признали в Цезаре отличную голову (опять ведь внешность) и всякое отсутствие того властного, энергичного тона, который так порабощал всех окружающих Цезаря..." {Там же.}. Исполнение роли Цезаря Рихардом вызвало суровую критическую оценку не только автора "открытого письма". Вспомним, что в данном случае (как, впрочем, и в оценке мейнингенской труппы в целом) Немирович-Данченко оказывался полностью солидарным с А. Н. Островским, который в своих заметках по поводу гастролей мейнингенцев писал, что Цезарь в их изображении напоминал сухого и черствого школьного учителя. Самый выбор на роль Цезаря посредственного актера Рихарда, способного лишь "говорить замогильным голосом в тени отца Гамлета – и не более", определялся лишь тем соображением, что чисто внешние данные артиста соответствовали иконографии Цезаря, отвечали требованиям портретного сходства. В исполнении Рихарда Цезарь порою удивительно напоминал известные скульптурные изображения римского диктатора. Но эта эффектная "документальность" в сочетании с напыщенной декламационностью монологов исчерпывала, по существу, содержание образа.








