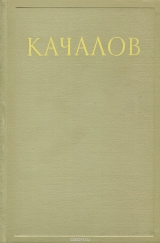
Текст книги "Сборник статей, воспоминаний, писем"
Автор книги: Василий Качалов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 48 страниц)
Для Качалова поэтому основным и важным становился не этот отрывок, с его расплывчатой общечеловечностью, но другой, кратко и точно разоблачающий "нехлюдовщину" как философское и социальное явление: "Петербург, весь Петербург, вся сила привычек прошлого, вся власть родственных и дружеских отношений влекли его в ту привычную и благоустроенную среду, где люди так старательно отгораживали себя от страданий, которые несли на себе миллионы людей другой среды". Эти слова произносились Качаловым как итог, как заключение по делу Нехлюдова, как расшифровка качаловского резкого и нетерпеливого жеста, с которым он уходил из гостиной графини Чарской.
Чтец зашел сюда как бы случайно; застал князя и Мариэтт за беседой и остановился у левой стороны портала. Нехлюдов пододвигает маленький чайный столик на высоких ножках. Мариэтт, разливая чай и помешивая ложечкой в чашке, слушает, как Нехлюдов рассказывает о страданиях народа, о жестокой нищете. Она кокетничает и сокрушается. Оба – Нехлюдов и Мариэтт – говорят одним тоном, одинаково прочувствованно лгут. И когда Мариэтт, обволакивая собеседника взором, вторит ему ласковым и лживым голосом: "Какая в этом большая правда! Как я вас понимаю", – Качалов, который действительно все понимает, как бы говорит: какая в этом большая ложь! – во всем том, что говорит, делает, чувствует Нехлюдов.
Мариэтт и Нехлюдов прощаются. Она смотрит на него долгим, значительным взглядом, он жадно вновь и вновь целует ее пальцы. Качалов с досадой, безнадежно махнув рукой, уходит отсюда.
Занавес опустился. И до Нехлюдова, который уже окончательно оценен качаловским нетерпеливым жестом, нет нам больше дела. Задача Качалова – сокрушительная полемика с героем, носителем толстовской философии,– эта задача решена исчерпывающе.
В четвертом акте участие Качалова меньше чувствуется, чем в актах предыдущих. В спектакль вступила новая действующая сила – "политические". Материал инсценируемого романа не давал театру полной возможности показать людей революции; "Воскресение" изображает революционеров в освещении очень специфическом, с тех позиций общечеловеческой, "абсолютной" морали, с каких Толстой безуспешно стремился разобраться в сложной общественной ситуации девяностых годов. Как указывал Ленин, "Толстой не мог абсолютно понять ни рабочего движения и его роли в борьбе за социализм, ни русской революции..." {В. И. Ленин. Лев Толстой, как зеркало русской революции. Соч., т. 15, стр. 183.}. В "Воскресении" эта слабая сторона творчества писателя сказалась в полной мере. Не позволяя себе искажать Толстого, механически изменять текст и композицию его романа, Художественный театр находился, работая над финальным актом спектакля, в затруднительном положении. Нельзя сказать, что трудности оказались преодоленными полностью. Но принципиальное решение было найдено верное, и осуществление его снова было поручено Качалову.
Качаловские функции обличителя и истолкователя передавались "политическим". Если Катюша до сих пор находилась под своеобразной защитой чтеца, взволнованного и кровно заинтересованного ее судьбой, то теперь ее, окрепшую и духовно выпрямившуюся, он мог смело поручить дружбе и опеке "политических". В самом спектакле возникала сила, появлялись герои, знавшие и судившие то, что до сих пор в спектакле знал и судил один Качалов. Уже намечалось и большее: за "политическими" утверждалось право на непосредственное вмешательство в судьбу Катюши – право, которого был лишен чтец.
Четвертый акт в "Воскресении" был, пожалуй, наиболее "подвижным" и меняющимся; именно он наиболее заметно варьировался от представления к представлению, от сезона к сезону. Если по Толстому и по первым спектаклям революционер Крыльцов после рассказа о смертной казни в болезненном исступлении, задыхаясь от ненависти и разрывающего грудь кашля, выкрикивал: "Нет, это не люди, те, которые могут делать то, что они делают", то позднее, хотя бы в радиоспектакле 1935 года, у Хмелева – Крыльцова послышались другие ноты. Слова: "Нет, это не люди" уже не были воплем измученного, издерганного человека,– они прозвучали тихо и резко, как твердый, бесповоротный вывод, убежденное утверждение необходимости прямой борьбы с врагом, убежденное опровержение толстовского непротивления злу. Качаловская полемика с Нехлюдовым-толстовцем была, в иной уже плоскости, продолжена и завершена Хмелевым – Крыльцовым. Уступая свое место "политическим", Качалов тем самым доводил до конца свою роль в спектакле.
– Партия, марш! – по окрику конвойного офицера приходит в движение группа заключенных.
Скрипят телеги, негромко начинается песня.
Снег идет все гуще; постепенно темнеет, и сквозь сгущающуюся тьму видны только смутные очертания уходящих вдаль телеграфных столбов.
Чтец долгим взглядом провожал отправляемых по этапу каторжан, провожал постепенно стихающую песню. И когда зрители напряженно вслушивались в заключительные слова Качалова, в их воображении вставали не только те люди, с которыми свел их спектакль, но и "сотни и тысячи других замученных в тюрьмах людей, наиболее горячих, возбудимых и сильных, которых тупые и равнодушные или сумасшедшие, исступленные в своей злобе генералы, прокуроры, смотрители, жандармы гнали по этапам и запирали в тюрьмы за то, что те пытались мешать всей этой своре грабить и обманывать народ".
"Все чаще и чаще вспоминались Нехлюдову простые слова Катюши: "Обижен народ". "Уж очень обижен простой народ",– эти последние слова, заканчивающие спектакль, Качалов произносил после мгновенного раздумья, произносил от себя.
Обида народная,– вот о чем был спектакль Художественного театра, вот о чем рассказывал Качалов, все расширяя свои комментарии, идя от повествования о конкретной, личной катюшиной боли и обиде ко все более обобщающему и жесткому обличению социальной несправедливости. Спектакль перерастал первоначально намеченную тему. Победив Толстого-моралиста, Качалов и театр по-новому раскрывали гениального художника Толстого, который, по словам Ленина, "отразил накипевшую ненависть, созревшее стремление к лучшему, желание избавиться от прошлого..." {В. И. Ленин. Лев Толстой, как зеркало русской революции. Соч., т. 15, стр. 185.}.
Огромно значение спектакля "Воскресение" в истории Художественного театра и в артистической биографии Качалова. Роль "От автора" соединяла страстный и мужественный качаловский гуманизм, его поэтическое жизнелюбие – с острой сатирической силой, с беспощадностью разоблачения лицемерного и преступного буржуазного мира; роль "От автора" утверждала в искусстве Качалова принципы партийной пристрастности и непримиримости. В великолепном творческом наследии Качалова среди созданных им бессмертных образов роль "От автора" остается одним из самых сильных, самых глубоких в близких народу созданий великого артиста.
В. Я. Виленкин
В. И. Качалов на концертной эстраде
1
Выступления на концертной эстраде нередко занимают значительное место в жизни драматических актеров. Зритель всегда радуется возможности увидеть артиста, которого он любит и ценит, как бы еще ближе, чем со сцены, без декораций, костюма и грима, в ярком парадном освещении концертного зала. Способность актера перевоплотиться в драматургический образ буквально на глазах у зрителя, жить и действовать в этом образе на эстраде, часто даже без партнеров и без каких-либо внешних вспомогательных средств, – особенно волнует зрителя, раскрывая перед ним самое существо театра, его могущество. Для актера же эти выступления важны и дороги и потому, что значительно расширяют пределы его обычной аудитории, и потому, что создают благоприятную обстановку для особенно интимного творческого общения со зрителем. Однако, за редкими исключениями, эстрада все еще остается для драматического актера лишь дополнением к его основной деятельности – на сцене театра. Даже если он участвует в концертах постоянно, а не эпизодически, даже если он выступает в самостоятельных «творческих вечерах», он чаще всего ограничивается тем, что выносит на эстраду фрагменты своего привычного сценического репертуара. Неожиданное, необычное, по-новому раскрывающее творческую индивидуальность, редко появляется в концертных программах драматического актера.
Для Качалова концертная эстрада была не только ценной, но и совершенно равноценной театру частью его творческой жизни. Можно даже утверждать, что в последние годы именно здесь, на эстраде, были сосредоточены его основные интересы, поиски и мечты.
Почти через всю жизнь Качалова проходит это его увлечение концертной эстрадой, ее широкими, разнообразными возможностями. Современному театроведению еще предстоит подробно описать и оценить этот неустанный, непрерывный труд Качалова, обогащавший русское сценическое искусство на протяжении десятилетий, а в советскую эпоху превратившийся в могучий творческий взлет художника-новатора. Этот путь значителен от начала до конца.
Качалов на эстраде не знал обычной робости первых творческих попыток. Даже в дореволюционные годы он редко уходил в сторону от проблем общественной жизни своей родины. Недаром концерты Качалова, устраиваемые им для молодежи, для студенчества, приобрели в свое время такую широкую популярность.
В начале своего пути Качалов был вдохновенным исполнителем горьковской "Песни о Буревестнике", он приносил на концертную эстраду лирику Пушкина, свободолюбивые строфы Мицкевича, тревожные и горестные раздумья некрасовского "Рыцаря на час" и только что написанные стихи о России Александра Блока. Он окончил свой путь знаменитыми "качаловскими вечерами", которые были широко доступны миллионам советских людей в зрительном зале Художественного театра и в колхозном клубе, в Колонном зале Дома Союзов и в подшефных театру частях Советской Армии, в заводских цехах и в аудитории Московского университета. Радио доносило голос Качалова из столичного концертного зала или со сцены Художественного театра в самые отдаленные уголки нашей страны. Эти "качаловские вечера" поражали не только необыкновенным богатством и диапазоном репертуара, специально приготовленного для эстрады; здесь создавались новые жанры и новые формы актерского творчества, и Качалов утверждал их с такой же страстностью, с какой он пропагандировал с эстрады идеи и образы молодой советской поэзии.
Часто спорят о том, кем был преимущественно Качалов, выступая в концертах: актером или чтецом? Вряд ли следует решать этот вопрос схоластически, путем отвлеченного анализа технических приемов Качалова на эстраде. Для наших молодых актеров и мастеров художественного чтения гораздо важнее творчески воспринять Качалова на концертной эстраде в неразделимом слиянии его любви к русскому выразительному поэтическому слову с его темпераментом и глубиной актера-мыслителя, с его всесторонней артистической культурой. Этот синтез был сущностью Качалова в его концертных выступлениях. Он выходил на эстраду не ради мастерского "художественного чтения" и не ради виртуозной актерской игры. Он выходил на эстраду и брал на себя еще не изведанные ни актером, ни чтецом задачи только тогда, когда он чувствовал, что сценические образы не исчерпывают до конца его отношения к жизни и к людям. Он искал на эстраде новые выразительные средства для нового утверждения своей творческой воли, как подлинный художник-гуманист советской эпохи.
Он имел право провести наедине со зрителем целый ряд вечеров, не нуждаясь ни в декорациях, ни в костюмах, ни в гриме. Вот почему так долго не расходились после "качаловских вечеров" толпы возбужденной, взволнованной молодежи, а на другой день летели к нему десятки писем, в которых он так часто находил живой отклик на те же социальные и философские вопросы, которые волновали его самого.
Концертный репертуар Качалова создавался на протяжении многих лет. По своему идеологическому содержанию, по широте охвата классической и современной литературы и по разнообразию затронутых в нем жанров он представляет собой, без всяких преувеличений, единственное, неповторимое явление в истории мирового театра. Репертуара Качалова хватило бы по крайней мере на 14–15 вечеров с программой либо объединенной тематически, либо целиком посвященной творчеству того или иного писателя, поэта, драматурга. Одна пушкинская программа Качалова могла бы занять в своем полном объеме три вечера, включая все монологи Бориса Годунова, "Келью в Чудовом монастыре", сцены из "Каменного гостя", отрывки из "Скупого рыцаря", "Моцарта и Сальери", "Пира во время чумы", а также свыше двадцати лирических стихотворений, несколько эпиграмм и большие фрагменты из "Полтавы" и "Руслана и Людмилы". В программу из произведений Шекспира входили: весь второй акт и отдельные монологи "Гамлета", речи Брута и Антония из трагедии "Юлий Цезарь", сцена и монолог из "Ричарда III", стихотворение "Зима" и сонеты. Обширные и композиционно стройные программы были посвящены Качаловым творчеству Льва Толстого, Островского, Чехова, Грибоедова, Лермонтова, Тургенева, Некрасова, А. К. Толстого, Блока, Маяковского, Багрицкого, Есенина. Современная советская поэзия, особенно увлекавшая Качалова в последние годы, была представлена в его репертуаре целым рядом стихотворений Тихонова, Симонова, Щипачева, Светлова, Гусева, Дементьева, Сельвинского, Пастернака, Рыльского, Маршака и других поэтов. Качаловская программа из произведений М. Горького первоначально состояла из "Песни о Буревестнике", "Песни о Соколе" и рассказа "Ярмарка в Голтве", а после революции обогатилась концертным исполнением сцен из "На дне", небольшими рассказами "Знахарка", "Могильщик" и "Садовник", поэмой "Девушка и Смерть" и отрывками из "Воспоминаний".
Из зарубежной классики Качалов исполнял на эстраде, помимо фрагментов трагедий Шекспира, монологи из "Эгмонта" Гёте, "Прометея" Эсхила и "Манфреда" Байрона в сочетании с музыкой Бетховена, Скрябина и Шумана. Классический монолог в сопровождении оркестра ("Эгмонт", "Манфред") или рояля ("Прометей"), никогда не имевший в исполнении Качалова ничего общего с мелодекламацией, представлял особую область его творчества на концертной эстраде. В этих монологах героико-романтического стиля он использовал все необыкновенные музыкальные возможности своего замечательного голоса и давал полный простор своему артистическому темпераменту. В своем художественном построении монолога он всегда шел от волновавшей его мысли поэта, страстная напряженность которой делала пафос монолога насыщенным и убедительным. Он особенно любил "Эгмонта" с музыкой Бетховена, сам переработал текст перевода, резко подчеркивая в нем освободительную, демократическую идею. В монолог готовящегося к казни Эгмонта Качалов вкладывал страстность своей любви к народу, свою веру в его победу, и в этом была внутренняя сила его исполнения. Не случайно «Эгмонт» много раз с огромным успехом исполнялся Качаловым в дни всенародных революционных праздников.
Но далеко не одним только искусством монолога владел Качалов на эстраде в таком совершенстве. Его концертные программы охватывали в одинаковой мере и драматургию, и лирику, и эпос. Он умел с предельной, почти музыкальной точностью интонаций, в тончайших оттенках ритмического рисунка донести до слушателя гармонию пушкинского лирического стихотворения. Он находил внутреннее единство и единый музыкальный ключ для своего лирического цикла стихотворений Блока. И он мог буквально зажигать зрительный зал, наслаждаясь сам и увлекая других свежестью, смелостью, глубиной небывалых ритмов и рифм Маяковского.
Когда он читал знаменитую "Тройку" из "Мертвых душ", казалось, что патетические гиперболы Гоголя, разворачивающиеся в вихре стремительно летящих периодов поэмы, впервые рождаются тут же, на этой эстраде. А в небольшом рассказе Чехова "Студент" с его тоскливым пейзажем и внешне незначительным сюжетом в передаче Качалова с необыкновенной трепетностью звучало то, что, в сущности, составляет лейтмотив всего чеховского творчества: способность ощутить сквозь тоску и мертвящий холод безвременья "невыразимо сладкое ожидание счастья", пронести нерастраченной свою веру в иную, новую жизнь, "полную высокого смысла". И если эпос Гоголя сверкал у Качалова всей палитрой своих ярчайших буйных красок, звучал всею силой кованой патетической речи, то маленькая новелла Чехова в его исполнении раскрывала до конца поэтическую глубину строгого и трепетного чеховского лаконизма.
В последнее время он все больше увлекался концертным исполнением нескольких ролей в пределах выбранного им отрывка из пьесы или даже целого акта. Это были знаменитые качаловские "монтажи", в которых он выступал одновременно в качестве единственного актера, режиссера и составителя текста. Так он задумал, поставил и сыграл свои композиции из трагедий Шекспира, сцены из "Смерти Иоанна Грозного" и "Царя Федора" А. К. Толстого, "Келью в Чудовом монастыре" из "Бориса Годунова" Пушкина, фрагменты комедий Островского "На всякого мудреца довольно простоты" и "Лес", диалог Сатина и Барона из пьесы Горького "На дне". Эти монтажи не случайно были всегда особенно дороги сердцу Качалова. Они не только позволяли ему раскрыть перед зрителем многое из того, что оставалось не воплощенным в его сценических образах, – он выступал в них как новатор, создатель нового жанра актерского творчества и ставил себе такие задачи, которых до него никто из актеров на себя не брал.
В одной из своих бесед с труппой МХАТ Вл. И. Немирович-Данченко вспоминал слова, сказанные им как-то Качалову по поводу его концертных выступлений: "Как можно крепче этим займитесь, – потому что вы на эстраде не меньше, чем Шаляпин поющий". Сравнение с Шаляпиным охватывает и качество и самое существо, целеустремленность творчества Качалова на концертной эстраде.
Подобно тому, как Шаляпин никогда не мог просто "исполнять" оперные партии, романсы и песни и неизменно становился, когда пел их, великим самостоятельным творцом музыкально-поэтических образов, так и Качалов приходил на эстраду не для того, чтобы "выступать с декламацией", а для того, чтобы проложить и утвердить новые пути для творческого воздействия на умы и сердца своих зрителей.
Поэтому в его огромном концертном репертуаре почти никогда не было ничего случайного, ничего такого, что внутренне так или иначе не совпадало бы с его личностью, с его мировоззрением.
Когда он изредка в наши дни читал с эстрады монолог Анатэмы из пьесы Леонида Андреева, это казалось только гениальным экзерсисом, замечательной демонстрацией всех возможностей его голоса и совершенной дикции, или своеобразной иллюстрацией к истории Художественного театра, и Качалов предназначал ее преимущественно для учащейся театральной молодежи и для своих товарищей актеров. Богоборческий пафос монолога Анатэмы давным-давно перестал волновать его по существу. Когда он выносил на эстраду свой знаменитый "Кошмар Ивана Карамазова" – одно из высших достижений его артистического мастерства, – это было глубочайшим переосмыслением Достоевского, в котором на первое место выступало качаловское утверждение могущества свободного человеческого разума, и волей современного советского художника отметалась "карамазовщина". Но подлинный Качалов наших дней, нашей эпохи вырастал на концертной эстраде во весь рост и звучал во весь голос тогда, когда его слияние с писателем было безраздельным, когда он приходил к своим новым постижениям Пушкина, Горького, Маяковского, Блока, Шекспира и когда из этих творческих постижений каждый раз возникал по-новому пленительный, молодой и сильный облик самого Качалова.
2
Качалов не мог бы ограничиться только концертным воспроизведением, только «исполнением» на эстраде даже самого близкого ему поэта. Он обладал для этого слишком властной и слишком пытливой индивидуальностью.
Качалову принадлежит мысль о том, что истинный актер Художественного театра не только создает на сцене ту или другую роль, но каждый раз как бы заново рождается в новой роли. Он мог бы с полным правом сказать о себе, что таким новым рождением бывала для него и встреча с большим поэтом, радость сближения с его творческим внутренним миром. Качалов никогда не подлаживал свою личность "под стиль" поэта, но и не навязывал ему произвольно своих личных качеств и своих пристрастий. Он с величайшей честностью выбирал в творчестве поэта такие грани, которые в то же время были гранями его собственной души и пробуждали в нем стимул к самостоятельному творческому действию. Это был очень сложный и часто противоречивый процесс отбора, распознавания, иногда лишь постепенного сближения актера с поэтом. Сотни произведений, мимолетно увлекавших Качалова, нравившихся ему или дразнивших и привлекавших его по какому-то контрасту с самим собой, так и остались в конце концов вне его репертуара. В его концертных программах почти не было вещей, которые давали бы ему только выигрышный материал для голоса, для демонстрации виртуозной техники, как не было в них никогда и слепого следования моде или чуждым ему вкусам публики. Зато уж однажды выбранное им обычно сохранялось в его репертуаре на долгие годы. Качалов выносил на эстраду только то, что казалось ему идейно значительным, общедоступным и волнующе-прекрасным, чем ему хотелось заразить, напитать свою аудиторию.
Характерно, что, близко соприкасаясь в 1910–1917 годах с кругом известных поэтов Москвы и Петербурга, Качалов проходит мимо таких течений и группировок, как декадентство, символизм, эго– и кубофутуризм. В его репертуаре тех лет нет ни Сологуба, ни Андрея Белого, ни Северянина. В это время он еще только начинает с интересом и любопытством вглядываться в бунтарский, дразнящий облик молодого Маяковского. Читает же он с эстрады чаще всего Пушкина, Горького, Мицкевича и, может быть, с особенным увлечением – Блока.
По свидетельству многих близко знавших Качалова людей, его любовь к поэзии Блока всегда была особенно нежной, трепетной и глубокой. Он с волнением воспринимает каждое его новое стихотворение, пользуется каждым случаем получить его еще в рукописи, жадно расспрашивает общих знакомых "о Блоке в жизни" и наконец знакомится с ним лично.
По количеству произведений блоковский репертуар Качалова едва ли не самый обширный; он включает более сорока лирических стихотворений, две большие поэмы, монологи из пьесы "Роза и Крест". И тем не менее далеко не вся поэзия Блока по-настоящему входит в жизнь Качалова. Символизм Блока почти полностью остался за пределами его интересов. В этом смысле характерно отсутствие в его репертуаре "Стихов о Прекрасной Даме", да и вообще всей "соловьевской", мистической линии творчества Блока.
Зато широким и сильным потоком вливаются в творчество Качалова стихи Блока о родине. Тема России, дремлющей и скованной, обездоленной и нищей, но таящей в себе могучие творческие силы, тема безграничной любви к своей родине и веры в ее великое будущее звучат у Качалова в его предреволюционных выступлениях с такой же остротой, как у Блока. Такие стихотворения, как "На поле Куликовом", "Опять, как в годы золотые", "Коршун", потому и сохраняли так долго силу воздействия в передаче Качалова, что всегда были наполнены у него чистым и искренним патриотическим чувством. Эти стихи, так же как и "На железной дороге" или "Рожденные в года глухие", с их тревожной, тоскующей нотой, до революции были наиболее близки Качалову. Вместе с поэтом он проходил его путь в "страшном мире", порой разделяя его пессимизм и отчаянье ("Я пригвожден к трактирной стойке", "Похоронят, зароют глубоко"). Вместе с Блоком он гневно отвергал буржуазный Уродливый "страшный мир", предвидел неизбежное крушение старого строя и страстно мечтал о грядущем освобождении родины, пусть еще не видя, не осознавая его реальных путей.
Цикл блоковских стихов, в котором любовная лирика казалась только одной из многих линий его сближения с поэтом и в котором преобладали гражданские, социальные мотивы, был особенно характерен для концертных выступлений Качалова в годы первой мировой войны. В этих стихах он заставлял явственно расслышать свое предчувствие и приятие близких великих перемен.
Но подлинный "качаловский" Блок прозвучал с эстрады позже, уже в советскую эпоху. Летом 1918 года Качалов усиленно работал над поэмой "Соловьиный сад". По воспоминаниям его сына, он с увлечением устанавливал для себя в символике этой поэмы глубокий и точный социальный смысл. Ему было важно донести в стихах "Соловьиного сада" прежде всего мысль о неправомочности и невозможности счастья за "утонувшею в розах стеной" романтического индивидуализма. Кульминацией поэмы была для него строфа:
Но, вперяясь во мглу сиротливо,
Надышаться блаженством спеша,
Отдаленного шума прилива
Уж не может не слышать душа.
Бегство от жизни, уход от «знакомого» «каменистого» пути ежедневной тяжелой борьбы в область блаженной мечты мстят за себя одиночеством, опустошенностью и тоской:
Где же дом? – И скользящей ногою
Спотыкаюсь о брошенный лом,
Тяжкий, ржавый, под черной скалою
Затянувшийся мокрым песком...
Эти мысли казались Качалову особенно значительными на пороге новой жизни, которую открыла перед всей русской интеллигенцией социалистическая революция. Не случайно отрывки из «Соловьиного сада» были среди первых стихов Блока, прозвучавших в его исполнении уже на советской концертной эстраде.
Качалов одним из первых начал читать в концертах "Двенадцать" и "Скифы". Одновременно с самим автором он впервые принес широкой народной аудитории революционно-романтический пафос этих лучших созданий Блока. В его творческой биографии это было большим событием. Это – его первое слово о победе великой революции, тем более значительное для него, что Художественный театр в то время еще только начинал осознавать необходимость нового, революционного репертуара, а новая, советская драматургия еще не родилась. Обе поэмы с тех пор навсегда сохранились в его репертуаре, и работа над ними не прекращалась до последних его дней.
Читая "Двенадцать" и "Скифы", Качалов впервые открыл глубочайшее созвучие своего внутреннего мира с революцией. Особенно смело и страстно он воспринял "Двенадцать".
"Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте Революцию", – этим призывом закончил Блок 9 января 1918 года свою статью "Интеллигенция и Революция". "Музыкой революции", которую он радостно приветствовал, несмотря на яростный вой и проклятия своих бывших друзей из лагеря буржуазной интеллигенции, была пронизана его поэма. Когда Качалов читал "Двенадцать", казалось, что эта "музыка революции" звучит с особенной мощью. Она ему слышалась, и он воплощал ее не как стройную торжественную мелодию, которая была бы чуждой блоковскому восприятию революции, но и не как дисгармонический хаос "рушащихся миров", близкий душе поэта. У Качалова это была музыка грозная и радостная, беспощадно жестокая и героическая, взволнованная и чеканная. Она возникала в образах ветра и метели, пронизывающих все главы "Двенадцати", и вихрь революции, сметающий все остатки старого мира с лица обновленной земли, становился основным романтическим пафосом поэмы.
Качаловская внутренняя "музыка" рождала резкие контрасты сатирических мгновенных зарисовок обличий проклятого прошлого ("И старый мир, как пес безродный...") с образом отряда красногвардейцев, которые "вдаль идут державным шагом". Из этих контрастов, естественно, вырастали и резкая смена ритмов – от озорной, отчеканенной частушки до патетического марша – и напряженность видений, и четкость акцентов. Меньше всего Качалов был склонен подчеркивать в поэме мотив "жертвенности" или мотив стихийного разгула "голытьбы". Читая "Двенадцать", он жил прежде всего убежденным и страстным приятием революции, из которого возникал, как основной мотив всей поэмы в его исполнении, призыв к защите революции до конца:
Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!
Тема двух миров – обреченного, дряхлого и жадного капиталистического Запада и новой России, вставшей на защиту человечества и человечности, – была для Качалова главной в «Скифах». Он читал это произведение обычно с купюрами, отбрасывая, как ненужную ветошь, остатки соловьевского реакционного «панмонголизма», проникшие в поэму Блока. Он читал «Скифы» как героический монолог, как вдохновенный призыв к братству народов, утверждающий творческую мощь обновленной родины, ее право быть наследницей всей мировой культуры, ее гуманизм. Незабываемо звучали в устах Качалова бессмертные слова Блока, обращенные к буржуазному Западу:
Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Эти два произведения навсегда остались в репертуаре Качалова. К его лирическому циклу стихов Блока в тридцатых годах прибавились: «О, весна без конца и без краю», «Гармоника», а в сороковых – «Пушкинскому Дому», отрывок из «Возмездия» и др. Из ранних своих работ он возобновил «Демона». По-новому зазвучали стихи о родине, особенно – «Река раскинулась», «Опять, как в годы золотые» и «Коршун».
В стихотворениях Блока, как и в лирике Пушкина, он достиг в последнее время того, к чему всегда так стремился, – необыкновенной простоты и музыкальности. Ритм стиха, рождаясь из темы, направлял его темперамент, делая его каким-то особенно свободным и легким. Работая над стихами Блока, он был предельно чуток к малейшему разрыву музыкальной кантилены, ко всякой лишней паузе. Он упорно боролся с излишней отяжеленностью и прозаично-"логическим" выпиранием отдельных образов. Никогда не читал ни Пушкина, ни Блока, будучи усталым (например, в конце большой концертной программы), потому что считал, что для передачи тончайшей музыкальной ткани их лирики необходимо идеально владеть своим дыханием. На одном из тех листков из блокнота, на которых Василий Иванович обычно записывал для себя программу вечера, сохранилась характерная формулировка задачи, поставленной им себе при чтении стихов Блока: "В общем – хорошее пенье хороших слов, на серьезе и простоте".
Свою необыкновенную, нежную любовь к поэзии Блока Качалов сохранил буквально до конца дней. Стихи "Идем по жнивью, не спеша" и "К Музе" были последними, которые он читал своим близким, уже зная, что жизнь уходит...
Если с Блоком Качалов прошел значительную часть своего жизненно-творческого пути, созвучно с ним восприняв революцию и потом постоянно возвращаясь к его поэзии уже на новых этапах своей жизни в искусстве, то его соприкосновение с поэзией Есенина шло скорее по касательной. Он всегда его любил; стихи Есенина не исчезали надолго из его репертуара, но их было не много. Основная трагедия поэта, горячо любившего свою родину, но так и не сумевшего увидеть, понять и отразить ее новый облик, весь грандиозный смысл социалистического переустройства родной земли,– эта трагедия Есенина задела Качалова только косвенно, в сущности, осталась ему чуждой. Только краем затронул он тему трагического разрыва поэта с уже не похожей на прежнюю, далеко обогнавшей его родной деревней. И без глубокого внутреннего отклика прошел мимо "Исповеди хулигана" и "Москвы кабацкой".








