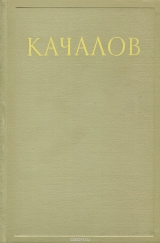
Текст книги "Сборник статей, воспоминаний, писем"
Автор книги: Василий Качалов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 48 страниц)
Подлинный барон-босяк не разбудил фантазии Качалова. Поэтому он наблюдал за другими босяками, которых "встречал на московских улицах около "питейных заведений", церквей и кладбищ". Это были, по выражению Качалова, "живые модели". Но поскольку он хотел играть не только итог жизни Барона, поскольку его интересовала кривая падения, ему, по его собственному признанию, больше всего помогли "живые модели из подлинных "аристократов", с которыми он специально знакомился для Барона и "мысленно переодевал их в босяцкие отрепья".
Идя в своей работе от изучения камер-юнкеров, графов и князей, он не видел ничего необычайного в том, что эти пустые, внутренне ничтожные титулованные люди могут оказаться на дне жизни. С первого же появления Качалова на сцене в его игре чувствовалась особая ироничность. Перевоплощаясь в Барона, он в то же время как бы глядел на него со стороны. Он добивался того, чтобы лохмотья и отрепья воспринимались зрителем как остатки того элегантного фрака, в котором когда-то появлялся Барон на светских приемах и вечерах. На всем был тонкий налет угасшего "аристократизма".
В общение Барона с товарищами по несчастью Качалов вносил разнообразнейшие оттенки. То это была неудержимая наглость, то озлобленность, то издевательство, то гаденькая трусость, то вспышки безнадежности и отчаяния. В изображении Качалова Барон не был человеком большого ума или настоящего сердца. Как в дни своего благополучия, так и теперь, в пору своего падения, его Барон скользил по самой поверхности жизни и только временами понимал, какое несчастье разразилось над ним. Проходило мгновенье – и снова текла привычная жизнь паразита, сутенера, шулера, пьянчуги, который может ради стакана водки стать на четвереньки и лаять по-собачьи.
К Барону Качалов относился без малейшей жалости, и от этого все более и более острой становилась его сатирическая характеристика, еще более оттенялись полная никчемность и ничтожество Барона. Сохраняя все индивидуальное своеобразие изображаемого персонажа, Качалов в Бароне достигал яркой типичности. Он сумел вскрыть все то крупное и важное, что было вложено Горьким в скупую и сжатую роль Барона. Этот сатирический образ качаловского Барона в его позднейшей сценической редакции незадолго до смерти великого артиста запечатлело звуковое кино.
– – -
После Тузенбаха и Барона Качалов стал подлинным чеховским и горьковским актером. Он до конца овладел своеобразием драматургического стиля обоих драматургов, их лирикой, юмором, сатирой и пафосом.
В конце 1903 года, после того как Качалов имел такой выдающийся успех в роли Юлия Цезаря, в которой он показал свое необыкновенное искусство исторического портрета, он начал работу над ролью Пети Трофимова в новой, оказавшейся последней, пьесе Чехова "Вишневый сад". По его собственному выражению, роль эта родилась у него "без всяких мук". Н. Е. Эфрос в своей книге поясняет эту легкость следующим образом: "Качалов уже испытал себя в более сложной характеристике, и был у него, наверное, запас непосредственных наблюдений, хранила их его память. Лежали готовыми в его душе чувства Пети Трофимова, его настроения оптимизма и наивного эгоизма. Наконец, так легко было ему облечь все это в тонкую внешность, близки были чеховские думы, чеховская лирика, весь чеховский строй". Все это до известной степени верно. Но, думается, что дело обстояло гораздо сложнее и интереснее.
Впоследствии в связи с ролью Карено в пьесе "У врат царства" Качалов так охарактеризовал зерно образа Пети: "Бунт Пети Трофимова или Карено – это подлинно человеческий, благородный бунт. Я любил за внешней мягкостью и лиризмом образов ощутить и раскрыть большое и упорное человеческое негодование и возмущение. Это был протест против несправедливости реального мира, против ограниченности, жестокости, никчемности тогдашнего нашего общества". Конечно, в рассуждениях Трофимова много противоречивого, нелогичного, но Качалов в общие слова, в общие формулировки Трофимова, казалось, вносил огонь тех политических споров и интересов, которыми жила революционная молодежь на рубеже XX века и в которых он сам участвовал. В биографии Качалова читаем о ранней, петербургской поре его студенчества (90-е годы): "Часто, отбыв долгую репетицию, он бежал на Петербургскую сторону, на политическую вечеринку виленцев, где жарко воевали марксисты и народники, азартно разбирались "Наши разногласия" и разносились вдребезги "субъективный метод" и Михайловский. А в театр на репетицию Качалов не раз приносил вместе с тетрадкой роли том Бельтова (Плеханова. – Н. В.). И платил дань увлечению марксизмом".
По всему своему облику Качалов – Петя Трофимов был и "вечным студентом" и "облезлым барином", он был неказист на вид, у него "смешно", как говорит Раневская, росла бородка, его серая студенческая тужурка поистерлась и обтрепалась за годы "вечного" студенчества, он был, конечно, чудаковат, но в то же время необыкновенно привлекателен. В основе всего душевного строя Пети лежала та заразительная и звонкая тема бунтарства, которую так ценил Качалов. Трофимов, как и Тузенбах, любил рассуждать вслух, но у Качалова на этот раз философствование чеховского героя имело новое, энергичное звучание: он произносил слова Трофимова с необыкновенной силой и убедительностью. Вот почему так ликующе звучал призыв Трофимова: "Вперед! Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там вдали! Вперед! Не отставай, друзья!" И было понятно, что восторженная Аня могла любить такого Трофимова, и было понятно, что у Трофимова и Ани в их чувстве было так много весенней радости, и так весело произносились ими заключительные слова: "Прощай, дом! Прощай, старая жизнь! Здравствуй, новая жизнь!.."
Те, кто имел счастье видеть Качалова в Тузенбахе и Трофимове, всегда будут помнить эти образы, сохранявшие свое очарование на протяжении всей их сценической жизни. И впоследствии, когда Качалов возвращался к Тузенбаху и Трофимову на своем творческом вечере или концерте, он сохранял в этих выступлениях всю свежесть своей молодой игры. Перед зрителем, даже без всякого грима, происходило перевоплощение Качалова в Трофимова, Тузенбаха, по-прежнему вдохновенно звучали слова Тузенбаха о надвигающейся буре, по-прежнему Петя Трофимов со всей восторженной верой приветствовал новую жизнь. И это была не только молодость чеховских героев, но и духовная молодость самого Качалова.
– – -
«Вишневый сад» был сыгран в январе 1904 года, и в том же году, но уже в следующем сезоне, Художественный театр поставил «Иванова». Этой постановкой театр почтил память Чехова, скончавшегося летом 1904 года.
Написанный в конце 1880-х годов, "Иванов" по своей драматургической манере отличался от последующих пьес Чехова, в нем еще не проявилось новаторство Чехова в области драматургической формы. Тем не менее первый акт пьесы Немирович-Данченко считал "одним из лучших чеховских ноктюрнов".
Вл. И. Немирович-Данченко, ставивший "Иванова", в своем режиссерском экземпляре подробно характеризует и время действия пьесы и образ самого Иванова. Немирович-Данченко пишет: "Действие "Иванова" относится к концу 70-х и началу 80-х годов. Эта полоса русской общественной жизни носит название "эпохи безвременья". Николай Алексеевич Иванов, непременный член по крестьянским делам присутствия, – может быть, один из самых ярких, если не самый яркий литературный тип этой эпохи". Он принадлежит к тем, кто "надорвались в борьбе и обратились в "безвременных инвалидов". По выражению Немировича-Данченко, "Иванов – тип такого надломленного борьбой человека. Неудовлетворенный и неудовлетворимый. Изживший благороднейшие порывы молодости и охваченный унынием и безволием".
Когда театр поручил Качалову роль Иванова, он сначала не мог найти к ней своего актерского ключа. Ему хотелось играть Боркина – родственника Иванова, управляющего имением, человека наглого и пронырливого. По своей жанровой сочности роль Боркина давала Качалову возможность вылепить интереснейшую характерную фигуру, а он всегда любил играть характерные роли. Но Вл. И. Немировичу-Данченко и К. С. Станиславскому удалось в конце концов расшевелить актерскую фантазию Качалова, и он создал крупный и типичный образ.
Играя Иванова, актеру легко итти от неврастеничности героя, от его душевной надорванности, от всевозможных черт, рисующих болезненную психику. Но для Качалова самой важной была тема "падения орла", мотив крушения значительного человека. Недаром Станиславский в одной из своих черновых записей назвал Иванова "раненым львом". Такая трактовка Иванова возбудила интерес Качалова к этой трудной роли, которую, кстати сказать, он играл еще в 1896 году в одном из дачных спектаклей. Но вряд ли этот ранний Иванов в исполнении Качалова шел дальше чисто внешних приемов игры. Иванов 1904 года был для него человеком, которого один из критиков того времени правильно назвал "явлением русской жизни". Качалов давал в Иванове социальную характеристику.
Внешне Качалов был очень прост, изящен, смягчал, а не усиливал проявления ивановской неврастении. Он тонко выделял в Иванове и его самолюбование, стремление к позе, "рисовку человека, привыкшего к тому, чтобы на него смотрели и слушали". Возвращаясь к Иванову в разные годы своей творческой жизни, Качалов каждый раз вносил в свое исполнение новые и новые оттенки. Порой казалось, что он смотрит на Иванова со стороны, играя не только характер действующего лица, но и свое отношение к нему. Но самым главным в этой эволюции образа Иванова было укрупнение типических черт. Чеховский образ "лишнего человека" 80-х годов получал свое подлинное и яркое воплощение.
– – -
Вслед за Ивановым; Качалов сыграл роль еще одного интеллигента, уже не 1880-х, а начала 1900-х годов. Это был ученый-химик Павел Федорович Протасов в пьесе Горького «Дети солнца». Свою новую пьесу Горький написал во время заключения в Петропавловской крепости после 9 января, Художественный театр показал «Дети солнца» в октябре 1905 года, когда страна была охвачена вихрем революционных событий.
Репетиции шли в исключительно нервной и возбужденной атмосфере. Не ладилось с режиссурой. Вначале "Дети солнца" ставил Станиславский по своему плану, потом этот план был радикально переработан Немировичем-Данченко.
Быть может, все это вместе взятое не дало возможности Качалову довести исполнение роли Протасова до окончательной отделки. В одной из своих статей он признается: "Вообще смутно помню мою работу над этой ролью". И все же Качалов своими высказываниями дает возможность представить себе, как он трактовал образ Протасова.
Качалов пишет: "...моделью для молодого ученого Протасова ("Дети солнца") был для меня молодой профессор Московского университета, талантливейший ученый-физик П. Н. Лебедев, пользовавшийся огромной любовью студенчества, обаятельный в кругу своей семьи и друзей, весь сосредоточенный на своей науке, глухой к шуму "улицы", к гулу надвигавшейся первой революции".
В этих словах Качалов отлично охарактеризовал все противоречия не только Лебедева, но и Протасова. Да, конечно, Горький в "Детях солнца" ставил резко и гневно вопрос об отрыве интеллигенции от народа, язвительно употреблял выражение "дети солнца" по отношению к людям так называемого "чистого искусства" и "чистой науки". И тем не менее его Протасов был образом истинного ученого. Иначе Горький не вложил бы в уста Протасова таких восторженных слов о науке, о химии, которые звучат как настоящий гимн человеческому знанию. "Но прежде всего и внимательнее всего изучайте химию, химию! – говорит Протасов. – Это изумительная наука, знаете! Она еще мало развита, сравнительно с другими, но уже и теперь она представляется мне каким-то всевидящим оком. Ее зоркий, смелый взгляд проникает и в огненную массу солнца, и во тьму земной коры, в невидимые частицы вашего сердца, в тайны строения камня и в безмолвную жизнь дерева. Она смотрит всюду и, везде открывая гармонию, упорно ищет начало жизни... И она найдет его, она найдет!"
То, что автор видел в Протасове настоящего ученого, подтверждает один из вариантов пьесы, опубликованный уже в наши дни. В этом варианте Протасов является автором научной книги, видимо, представляющей значительную ценность.
Разумеется, одной из самых главных тем "Детей солнца" является грозное предостережение людям науки и искусства, замыкающимся в "башни из слоновой кости", потерявшим связь с народом. Но есть в пьесе и другое: есть настоящий и обнаженный конфликт ученого Протасова с хищной буржуазией в лице Назара Авдеевича и его сына Миши. Назар Авдеевич – ростовщик, приобретший у Протасова его дом. Он вместе со своим сынком только и думает, как всеми правдами и неправдами увеличить свой капиталец. Зная, что Протасов занимается химией, Миша и его папенька замышляют завести химический завод. Назар Авдеевич говорит Протасову: "А ви-дите-с... сын мой кончил коммерческое училище и вышел очень образованный человек. Насчет промышленности очень он сообразителен... вот и я возымел охоту к расширению русской промышленности... для чего думаю заводик поставить, чтобы пивные бутылки выдувать..."
В другой сцене Миша говорит Протасову: "А видите ли, есть у нас идея: выстроить химический завод, а вас взять управляющим..." Изумленный Протасов отвечает: "Позвольте... как это – взять? Что я – мешок? Вы несколько странно выражаетесь..." Но Мишу не смущает это, и хотя Протасов категорически заявляет, что "техническая химия" его "не интересует", Миша убежден, что Протасов должен будет передумать ("средства ваши нам известны", – говорит Миша ученому).
Такой Протасов, подлинный ученый, враг хищника Назара, был, несомненно, близок Качалову. Качалова привлекала мечта Протасова принести своими открытиями счастье человечеству. Вот во имя этой мечты Протасов и не желает быть взятым, как мешок, Назарами Авдеевичами и их наследниками.
С. Н. Дурылин сохранил интереснейшую запись своего разговора с В. И. Качаловым по поводу того, как надо играть Протасова. Эта запись относится уже к годам советской власти. "Несколько лет тому назад,– рассказывает Дурылин,– на просмотре спектакля "Дети солнца" в одном из московских театров, он мне сказал:
– Не понимаю, зачем все они (он разумел исполнителей роли Протасова) берут на себя обязательство "разоблачать" и "обличать" Протасова. Ведь Горький любит его, как большого ребенка с великой мечтой о человеке, который вырвет у природы ее глубокие чудесные тайны.
Качалов наизусть прочитал при этом отрывок из монолога Протасова: "Наступит время, из нас, людей, из всех людей, возникнет к жизни величественный, стройный организм – человечество!.. Настоящее – свободный, дружный труд для наслаждения трудом, и будущее – я его чувствую, я его вижу – оно прекрасно. Человечество растет и зреет. Вот жизнь, вот смысл ее!"
– Разве это достойно осмеяния? – спросил Василий Иванович, прочитав этот отрывок".
Так у Качалова положительное, в Протасове преобладало над тем отрицательным, что разоблачил Горький в интеллигентах, которых он назвал "детьми солнца". Но и это положительное принадлежало Горькому.
Вот почему, хотя образ Протасова и остался для Качалова артистическим эскизом, – даже в этом эскизе он с исключительной тонкостью обнаружил тот "второй план" роли, который подсказал ему драматург.
Иванов и Протасов были последними ролями В. И. Качалова в пьесах Чехова и Горького, сыгранных им в период 1900–1905 годов.
О том, какое значение имел Чехов для творчества Качалова, он сам прекрасно сказал в статье, напечатанной в 1938 году в "Правде". "С Чеховым мы простились в годы юности МХАТ, – писал Василий Иванович. – Он давно уже стал нашей историей и в то же время неиссякающим живительным источником правды на сцене, в каждой репетиции, в любом спектакле до сих пор. Это он первый заставил нас отдаться искреннему переживанию в его "будничных" пьесах, в которых ничего нельзя было играть нарочно, – с радостью отказаться от всего внешне выигрышного, привычно актерского, ради большой, горячей и волнующей правды жизни, возникавшей в его образах, в почти неуловимых порою оттенках чувств и настроений. С чеховскими ролями мы сживались, как с родными людьми. И самого Чехова полюбили, как родного" {"Правда", 19 октября 1938 г.}.
Чехов научил Качалова в эти годы мечтать о прекрасном будущем, Горький – бороться за это будущее. Горький закалил творческую волю Качалова, вложил в его душу ненависть ко всяким "каретам прошлого", вручил бич сатиры. Горький для Качалова, как для всех передовых слоев русского общества, был буревестником. Недаром, выступая на горьковском вечере в Берлине в 1906 году, Качалов выбрал для своего чтения "Песню о Буревестнике", которую он и впоследствии читал с необыкновенным подъемом.
II
Великая Октябрьская социалистическая революция открыла перед Художественным театром новые, величественные горизонты. Только в условиях советского общества Художественный театр стал тем подлинно народным театром, о создании которого Станиславский и Немирович-Данченко мечтали еще в конце 90-х годов прошлого столетия. Вл. И. Немирович-Данченко с присущей ему четкостью мысли говорил, что «искусство не может быть аполитичным, даже по своей природе», и естественно, что «то „горьковское“, что во время всеобщей реакции начало в театре таять, ворвалось с силой покоряющей и утверждающей новую эпоху Художественного театра». Когда же в 1932 году Художественному театру было присвоено имя Горького, В. И. Качалов написал следующие знаменательные строки: «Высоко ценя Алексея Максимовича не только как драматурга, автора „На дне“ (пьесы, которая не сходит с репертуара нашего театра в течение 30 лет), чувствуя его огромную силу не только как писателя-художника, но и как писателя-трибуна, бойца, публициста и мыслителя, глубоко уважая и любя его как человека, я выражаю живейшую радость по поводу того, что нашему театру дано прекрасное, светлое, всему нашему Союзу дорогое имя Горького».
Прежде чем сыграть новую горьковскую роль Захара Бардина в пьесе "Враги", Качалов сумел выразить горьковское отношение к жизни, когда он стал играть в очередь со Станиславским Гаева в "Вишневом саде". На этот раз это не было только дублерством. Качалов внес в трактовку Гаева решительные изменения.
Станиславский окружал Гаева юмором и лирикой. Для него этот старый барин являлся как бы большим ребенком, за которым, как нянька, ухаживает старый Фирс. Гаева–Станиславского нельзя было не пожалеть, когда в третьем действии, после продажи с торгов вишневого сада, он возвращался домой с коробочкой неизвестно зачем купленных анчоусов. И зрители невольно сочувствовали этой драме старого, никому не нужного, лишнего человека.
Качалов посмотрел на Гаева глазами сатирика. Как художник он не испытывал к Гаеву никакой любви. Для него этот владелец вишневого сада, брат легкомысленной Раневской, по существу, являлся трутнем и паразитом. Качалов, как судья, произносил своей игрой обвинительный приговор этому последнему отпрыску угасающего дворянского рода.
Но сатира Качалова не становилась нарочито тенденциозной. В его Гаеве было много милых и смешных мелочей, какая-то старческая суетливость, детская наивность, житейская неприспособленность. И все же, глядя на качаловского Гаева, можно было видеть, что Качалов не забыл, во имя чего и против кого бунтовал его Петя Трофимов. И смотря на Гаева глазами Трофимова, Качалов давал в Гаеве замечательный образ лишнего человека без всяких кавычек.
До конца своих дней Качалов не переставал любить Чехова и как драматурга и как беллетриста. Кроме Гаева, он играл в очередь со Станиславским Астрова. А с какой нежностью читал Качалов в радиопостановке чеховскую "Каштанку" и с какой проникновенной мудростью – "В овраге"! Как он волновался, когда в новом спектакле "Три сестры" должен был играть Вершинина в новом своем понимании этой роли. Это выступление не состоялось, и, несомненно, мы потеряли возможность увидеть еще одно большое создание Качалова как чеховского актера. Участники последней постановки "Дяди Вани" с благодарностью вспоминают, как Василий Иванович приходил на репетиции и, вместо советов, с увлечением читал актерам целые акты. Он никогда не был режиссером, но умел заражать товарищей-артистов своим отношением к искусству. Eго толкование образов через непосредственное чтение сценического текста имело громадное воспитательное значение.
– – -
Если уже в Гаеве Качалов проявлял горьковское отношение к жизни, то истинно горьковским актером он вновь предстал 10 октября 1935 года, когда в первый раз был показан спектакль «Враги», в котором Качалов играл Захара Бардина.
В истории Художественного театра эта премьера – громадное событие его творческой жизни, новое слово в русском сценическом искусстве.
Е. И. Немирович-Данченко, который вместе с M. H. Кедровым работал над постановкой "Врагов", обратился к Алексею Максимовичу Горькому с письмом, в котором мы находим следующие замечательные строки: "Должен признаться Вам, что с работой над "Врагами" я по-новому увидал Вас как драматурга. Вы берете кусок эпохи в крепчайшей политической установке и раскрываете это не цепью внешних событий, а через характерную группу художественных портретов, расставленных как в умной шахматной композиции. Сказал бы даже – мудрой композиции. Мудрость заключается в том, что самая острая политическая тенденция в изображаемых столкновениях характеров становится не только художественно убедительной, но и жизненно объективной, непреоборимой. Вместе с тем Ваша пьеса дает материал и ставит требования особого стиля – если можно так выразиться – стиля высокого реализма. Реализма яркой простоты, большей правды, крупных характерных черт, великолепного, строгого языка и идеи, насыщенной пафосом... И вот "Враги" я считаю лучшим современным драматическим спектаклем и одним из лучших в истории Художественного театра" {Вл. И. Немирович-Данченко. Статьи, речи, беседы, письма. «Искусство» М., 1952, стр. 140.}.
В статье "Зерно спектакля" Вл. И. Немирович-Данченко характеризует идейную сущность ("зерно") "Врагов": "Зерно крепко, четко уже в самом названии пьесы. С одной стороны,– рабочий класс; с другой стороны, – помещики, фабриканты, эксплуататоры. Направо – злейшие из них, Михаил Скроботов, его компаньон Бардин с женой, генерал, ротмистр, офицер и т. д. Налево – рабочие, среди которых Синцов. Каждая фигура очерчена жизненно, оригинально и сценично. Каждая фигура дает актерам материал для мастерства, для фантазии, для создания интересных образов. Но все участвующие в спектакле должны быть охвачены сильнейшим чувством враждебности двух лагерей" {Вл. И. Немирович-Данченко. Статьи, речи, беседы, письма, стр. 159.}.
Если ко всему этому добавить высказывания Вл. И. Немировича-Данченко о новом, синтетическом восприятии образа, в котором ярко сливаются чувствования классовые, жизненные и театральные,– то перед нами будет целая программа работы Художественного театра на новом этапе его жизни. "Враги" оказались той постановкой, в которой с исключительной полнотой был осуществлен принцип партийности в искусстве.
В спектакле "Враги" были заняты лучшие артисты среднего и старшего поколений Художественного театра, и первыми в списке действующих лиц стояли В. И. Качалов и О. Л. Книппер-Чехова, игравшие чету Бардиных – Захара и Полину. Вл. И. Немирович-Данченко так характеризовал Захара Бардина: "Тип расхлябанного интеллигента из помещиков-фабрикантов, воображающий из самовлюбленности, что он может найти мир с рабочим классом путем каких-то индивидуальных бесед и рассуждений. Но за всеми его попытками уговорить, найти мир путем соглашения непрерывно светится в самой основе его отношения к рабочим – та же враждебность" {Там же, стр. 160.}.
С таким толкованием образа Бардина совпадало и понимание этой роли Качаловым. Он говорил: "...я отчетливо ощутил необходимость показать, как сочетаются в нем показной гуманизм с заботой о собственной шкуре, разговоры о культуре со стремлением к наживе, боязнью всего, что могло бы помешать собственному благополучию... Это вовсе не обособленное существо, это рупор своего класса".
Играть Бардина как рупор его класса было основной задачей Качалова. Он работал тем же методом "живых моделей", который ему помог создать блистательный образ Барона в "На дне". Он наделил Захара Бардина характерными чертами, которые, как он говорил, ему "удалось наблюдать у либеральных помещиков, у кадетов". Созданный таким путем реальный образ он и стремился довести "до пределов сатиры".
В связи с исполнением Качаловым роли Захара Бардина следует вспомнить статью В. И. Ленина "Памяти графа Гейдена", напечатанную в 1907 году в сборнике "Голос жизни".
В. И. Ленин в своей статье так характеризовал Гейдена: "Образованный контрреволюционный помещик умел тонко и хитро защищать интересы своего класса, искусно прикрывал флером благородных слов и внешнего джентльменства корыстные стремления и хищные аппетиты крепостников, настаивал (перед Столыпиными) на ограждении этих интересов наиболее цивилизованным" формами классового господства. Все свое "образование" Гейден и ему подобные принесли на алтарь служения помещичьим интересам" {В. И. Ленин. Соч., т. 13, стр. 39–40.}.
Таким волком в овечьей шкуре выглядел у Качалова и Захар Бардин.
По пьесе Захару 45 лет, но Качалов делал его значительно старше. Он придал ему какой-то особо слащавый облик. Лысый, в очках, с расчесанной надвое бородой, в летнем фланелевом костюме "в полоску" Бардин был необычайно благообразен. От него веяло тем комфортом, которым было пропитано все его существование.
Начиная с первого появления Бардина и до последних, заключительных сцен, Качалоd играл в мягкой и, казалось бы, благодушной манере. Он "рассуждал", украшая свою речь всеми завитками и прикрасами либерального болтуна, с удовольствием слушающего самого себя. Вот Бардин говорит: "Мы же европейцы, мы – культурные люди!", и эти слова – "европейцы", "культурные люди" – в устах Качалова были полны медоточивого самоупоения. Бардин как бы сам признается: "Хочется быть справедливым... Крестьяне мягче, добродушнее рабочих... с ними я живу прекрасно!.. Среди рабочих есть очень любопытные фигуры, но в массе – я соглашаюсь – они очень распущенны..." Когда Бардин – Качалов произносил на сцене подобные сентенции, его голос журчал, как ручей, и каждую фразу он смаковал, как лакомую еду. Создавая такую маску либерала, Качалов нет-нет да и показывал звериный оскал, неприкрытый страх перед рабочими, желание во что бы то ни стало спасти свою шкуру.
По ходу действия Бардин соприкасается с различными представителями обоих лагерей – пролетарского и буржуазного. Вот он беседует со своей женой Полиной (которую Немирович-Данченко характеризовал следующими словами: "Его жена – ...якобы проливающая слезы о том, что когда закроют фабрику, безработные останутся голодными, – в самой основе своей глубоко враждебна рабочему классу"),– и сколько маниловских оттенков появляется в разговоре супругов Бардиных. Качалов и Книппер-Чехова вели эти беседы с тонкой, едва уловимой усмешкой, нигде не выходя за пределы создаваемых ими образов. В разговорах с рабочими Бардин–Качалов пытается быть добреньким-добреньким наставником. А когда ему приходится соприкасаться с бравыми представителями полицейской власти – какой страх появляется в его глазах! Все эти переходы у Качалова были сделаны так убедительно и логично, что зритель чувствовал истинную суть трусливого, блудливого на словах и жестокого на деле либерала. Каким злым огоньком вспыхивал порой взгляд Бардина–Качалова, и как быстро этот огонек злобы вновь скрывался за той же улыбкой умиления, которую Бардин выдавливал на своем обрюзгшем лице.
У Горького есть ремарка, относящаяся к самому концу пьесы. Идет допрос арестованных рабочих. В дверях стоят дамы бардинского дома – Клеопатра и Полина; сзади них – Татьяна и Надя. Горький пишет: "Через их плечи недовольно смотрит Захар". Мимическая игра Качалова в этот момент выражала не только недовольство, но и злорадство, страх и удовлетворение. Его лицемерие достигало тут своей высшей точки, это был истинный Тартюф русского либерализма.
В ансамбле "Врагов", созданном Художественным театром, Захар Бардин в исполнении Качалова занимал одно из самых ярких мест. Но при этом Качалов все время находился в теснейшем общении с окружающим его миром, он подчинял свою игру задачам целого, ни на одну минуту не забывая, что "Враги" – это целостный спектакль больших общественных идей, острой социальной направленности, что дело идет о новом прочтении одной из лучших пьес Горького. Его Бардин – это мастерски написанный портрет "либерального" помещика и фабриканта начала века, портрет, созданный художником советской эпохи, советского мировоззрения.
Однажды во "Врагах" Качалову пришлось экспромтом сыграть роль другого Бардина, Якова – брата хозяина фабрики, "неудачника в любви", человека, раздираемого сомнениями, говорящего про себя, что он "лишний человек". И в этой неожиданно сыгранной роли Качалов создал как бы "на лету" истинно горьковский образ.
И еще один горьковский образ был создан в послеоктябрьские годы Качаловым. Это образ Сатина в литературном монтаже последнего действия "На дне". В этом концертном исполнении Качалов пользовался только интонациями и красками своего полнозвучного голоса. Но этого было достаточно, чтобы у слушателей получалось полное впечатление, что перед ними и настоящий Сатин и настоящий Барон. Вот Качалов со всей мощью бросает в зрительный зал знаменитые горьковские слова: "Всё – в человеке, всё для человека! Существует только человек, все же остальное – дело его рук и его мозга!.. Чело-век! Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... уважать надо! Выпьем за человека!" А рядом с пафосом Сатина дробно и визгливо звучат реплики Барона... И не верилось, что это тот же самый Качалов, голос которого только что, подобно органу, вдохновенно звучал в здравице человеку. Так изумительно было это творческое раздвоение великолепного чтеца-художника.
– – -
В чеховском репертуаре Качалов, по существу, исчерпал все сценические возможности и для него почти не оставалось новых чеховских ролей, но в пьесах Горького он сыграл обидно мало, хотя по характеру своего пламенного и боевого реализма был истинным актером Горького. С годами горьковское отношение к жизни все более и более определяло зрелое творчество Качалова.








