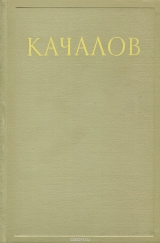
Текст книги "Сборник статей, воспоминаний, писем"
Автор книги: Василий Качалов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 48 страниц)
Качалов на этот раз сумел полностью убедить зрителя в том, что личная драма его героя неразрывно сплетена с драмой мировоззренческой, общественной – драмой целого поколения.
В образе Чацкого Качалов вскрывал с огромной силой политический смысл пьесы: на судьбе Чацкого он показывал, как в условиях крепостнического общества подвергаются гонению ум, любовь, всякая живая страсть, всякая независимая мысль, всякое искреннее чувство.
Советская общественность дала высокую оценку новому Чацкому Качалова.
"Сила и страстность игры Качалова, – отмечает Д. Заславский,– заставляют советского зрителя с особенной остротой чувствовать весь мертвящий ужас царства, в котором хозяевами жизни были Фамусовы и Скалозубы" {"Правда", 30 октября 1938 г.}.
Чацкий был последней ролью, созданной Качаловым. Он сыграл эту роль, когда ему было уже 63 года.
"33 года он играл Чацкого,– писал С. Н. Дурылин,– это потому, что он жил им, а не играл его. Сохранил свежую молодость чувств, но обогатил их зрелой мудростью мысли".
Таким образом, борьба Качалова за свою трактовку образа Чацкого кончилась для него полной победой.
Идеологическая глубина сценического образа Чацкого, которая была невозможна в дореволюционных условиях, широкий, исчерпывающий охват мировоззрения автора стали в советское время основными, решающими _ж_и_з_н_ь _о_б_р_а_з_а_ чертами Качалова в этой роли.
Теперь Чацкий был истолкован Качаловым как "не вмещающийся" в фамусовское общество, и в таком толковании была глубокая социальная правда. Не потеряв ни одной человеческой черты своего прежнего Чацкого, Качалов сумел в новом Чацком осуществить свою былую мечту – стать не только живым человеком на сцене, но и "рыцарем" свободы – общественником.
Один из его старейших товарищей по театру, Н. П. Асланов, взволнованно писал ему после генеральной репетиции:
"Лишь сегодня я впервые в Чацком увидел настоящего живого человека. Этого человека я любил, ему сочувствовал, с ним вместе страдал, с ним вместе был влюблен, я ж и л вместе с ним. И вот это – что твой сегодняшний герой не был обычным театральным героем, хотя бы и блестяще сыгранным, хотя бы чрезвычайно картинным, хотя бы с теми "нотками" в голосе, на которые был такой мастер покойный Ф. П. Горев, а человеком с теми же нервами и с той же кровью, как я, как все те, кто так искренне аплодировал тебе сегодня,– все это и есть самое настоящее, самое ценное..."
Казалось, действительно, все качества таланта Качалова соединились в один великолепный органический сплав, чтобы из него резцом мудрого советского художника, достигшего кульминации в своем творческом развитии и философском мировоззрении, был с такой идейной силой и чистотой, с такой замечательной сценической выразительностью высечен образ грибоедовского Чацкого.
Стихия ума была одной из самых сильных сторон дарования Качалова. Он великолепно передавал стремительный поток мыслей, обладал даром вкладывать в мысль темперамент – темперамент художника и человека. Он был наделен редкой красотой, предельной выразительностью. Он был исключительно музыкален, и все сценические образы его были всегда проникнуты особенной качаловской музыкальностью.
Это были неоценимые качества для такого образа, как Чацкий.
Но сила воздействия Качалова на зрителя заключалась не только в органическом сочетании его неповторимых природных данных с великолепным актерским мастерством.
Через каждую свою роль он делился со зрителем не только мыслями автора и того персонажа, которого он воплощал сегодня, но своим собственным мировоззрением художника. Всем своим творчеством он утверждал жизнь, любовь к жизни, любовь к человеку.
Подобно любви Чацкого к родине, это была любовь возвышенная, поэтически одухотворенная, многосторонняя. Она соединяла в себе и лирическую взволнованность первого чувства, и горечь разочарований, и упорную веру в будущее, и ядовитую насмешку смелой мысли над всем косным, реакционным. Это была любовь большого мыслителя, художника и человека. В Чацком Качалова она нашла себе конкретное воплощение и прозвучала с огромной патриотической силой.
В. Я. Виленкин
Драматургия и лирика Пушкина в репертуаре В. И. Качалова
1
Если бы Василия Ивановича Качалова спросили, кого он больше всех любит из великих русских поэтов он, может быть, не назвал бы Пушкина среди самых дорогих для него имен. К Пушкину у него было совершенно особое, ни с чем не сравнимое отношение. Другие поэты иногда сменяли друг друга в его творческих увлечениях, и наиболее сильные из этих увлечений последовательно становились этапами его артистической жизни: так, рядом с Блоком в биографии Качалова возник Маяковский. Любовь к Пушкину, всегда взволнованную, творческую, он пронес через всю свою жизнь, от начала до самого конца; эта любовь не знала в душе Качалова приливов и отливов. О поэзии Пушкина в своем восприятии он мог бы сказать словами самого поэта: "всегда близка, всегда со мной..."
Вспоминая в автобиографии свои первые артистические шаги, Качалов пишет, что в гимназические годы знал наизусть и с упоением "декламировал" чуть ли не всего "Евгения Онегина". Одной из самых последних работ 1948 года, последнего года его жизни, было стихотворение Пушкина "Дорожные жалобы" ("Долго ль мне гулять на свете..."). В Кремлевской больнице, уже догадываясь о неизлечимой своей болезни, как будто торопясь еще насладиться самым любимым и дорогим, что было в жизни, Василий Иванович читал тем, кто навещал его, эти стихи с каким-то необыкновенным подъемом, как будто преодолевая светлым, мудрым юмором смертельную тоску.
Его любовь к Пушкину всегда была действенной, а не созерцательной. Когда он читал и без конца перечитывал Пушкина, он искал для себя возможности проникнуть в его поэтический мир и сделать в нем новые творческие открытия, чтобы потом донести их в живой передаче актера. Это и была творческая "пушкинская лаборатория" Качалова. Трудно сказать точно, когда началась его работа над Пушкиным. Продолжалась она до последних дней его жизни.
Качалов вообще предъявлял к себе в творческой жизни беспредельно высокие требования и поразительно редко бывал удовлетворен своими достижениями, какой бы успех они ему ни приносили. Но ни один поэт не вызывал у него такой непреклонной, неподкупной, жестокой самокритики, как Пушкин, когда Качалов работал над его произведениями. И ни один поэт не вдохновлял его на такую упорную, длительную, иногда поистине титаническую работу. Может быть, именно поэтому путь овладения лирикой, эпосом и драматургией Пушкина часто совпадал с наивысшими взлетами его творческой мысли, приводил его к открытию новых глубин и еще не изведанных сил своего дарования, к наиболее совершенному мастерству.
Путь Качалова к овладению поэзией Пушкина всегда был трудным, часто – мучительным. Мучительно было навсегда потерять, утратить то, что однажды было великолепно найдено – как это случилось, например, с монологом Председателя из "Пира во время чумы", – и знать, что то, что осталось в дальнейшем исполнении, уже не воплощает когда-то достигнутую вершину, а только приближается к ней. Мучительно было сознавать, что многое из того, что удавалось в интимной аудитории, в комнате, за столом, вдруг становилось иногда совсем другим – тяжеловесным, декламационным, громоздким – на широкой публике или в механической звукозаписи. Такая судьба постигла монологи Сальери, Барона из "Скупого рыцаря", так звучат на пластинках и фонографических пленках некоторые записи отрывков из "Бориса Годунова" и "Каменного гостя". И в какое отчаяние, а иногда и ярость приходил Василий Иванович, когда то, что он считал эскизом, пробой, очередной попыткой закрепить еще хрупкие и расплывчатые контуры своих новых созданий, звучало в эфире, как нечто законченное и готовое. Зато когда ему удавалось после ряда неудач как бы вновь обрести и закрепить то, что временно ускользало от его творческой воли и казалось ему потерянным, он испытывал еще большую радость, чем от того, что выходило сразу. Так было со стихотворением "Зимний вечер", одним из самых его любимых; так возродилась и засверкала в качаловском репертуаре последних лет сцена "Келья в Чудовом монастыре" из "Бориса Годунова".
Он всегда особенно сильно волновался, выступая в концертах или по радио с произведениями Пушкина, всегда был неуверен в себе и, казалось, с трепетом чего-то искал в себе или ждал от себя. Почти каждое новое исполнение, даже такое, которое он готов был признать в общем удачным, вызывало в нем желание продолжать работу, "еще попробовать", как он говорил, поискать "еще большей смелости, большей простоты". И часто работа эта начиналась в тот же вечер, как только он возвращался с концерта домой, и продолжалась до глубокой ночи.
Томики Пушкина никогда не исчезали с его письменного стола, всегда были рядом, под рукой, и дома, и на даче, и в больничной палате, иногда даже на спектакле – во время антрактов. Принимая у себя дома молодых чтецов или начинающих актеров, он чаще всего просил их почитать Пушкина. И в этом было не только желание проверить, испытать незнакомца на самом трудном поэтическом материале, но иногда и доверчивая надежда услышать от него то, чего он сам еще в Пушкине не нашел. Помню, как горячо он оценил одного молодого азербайджанского чтеца, необыкновенно темпераментно и музыкально исполнившего у него в кабинете монолог Бориса Годунова на своем родном языке. Но бывало и обратное, когда казалось, что он с трудом скрывает под оболочкой холодной вежливости свое возмущение, если он улавливал у читающего легкомыслие, дурной вкус и особенно если замечал небрежность в отношении к пушкинскому тексту или к ритму стиха. Все это его оскорбляло, как грубая обида близкому человеку.
Качалов не был "пушкинистом", каким был, например, среди актеров Художественного театра Л. М. Леонидов. Он никогда специально не изучал ни биографии, ни творчества Пушкина. Он понимал тех, кто радуется каждой новой черточке, каждой подробности жизни, каждому вновь расшифрованному слову Пушкина, но сам воспринимал его наследие иначе. Из всего, что он слышал или читал о Пушкине, его волновало только то, что могло как нечто живое войти в тот образ поэта, который он в себе носил, который жил в нем самом. Ему было дорого все, что ясно и глубоко характеризовало мировосприятие Пушкина, или то, что талантливо и страстно выражало современное отношение к нему. Среди самых его любимых произведений были стихи современных поэтов, посвященные Пушкину, – Маяковского, Багрицкого, Блока. Ему было дорого и близко лирическое, личное отношение к Пушкину, особенно когда оно вырастало в искренний взволнованный пафос. Так, он сливался с Маяковским в гневном приговоре убийцам и в страстной защите _ж_и_в_о_г_о_ Пушкина от обывателей и мещан, наводящих на него "хрестоматийный глянец".
Но как бы он ни был увлечен тем, что читал о Пушкине, главным источником вдохновения в его неустанной работе всегда оставалась сама поэзия Пушкина. Углубляясь в нее, он все время как бы "открывал" для себя еще незнакомого Пушкина. Это мог быть отдельный образ, какая-нибудь одна строчка, прежде ускользавшая от внимания и вдруг теперь поразившая своей глубиной. Но "открытием" для Качалова она становилась не как прекрасная деталь, увиденная им как будто в первый раз, а как творческий ключ к волнующе новому постижению Пушкина, как новый стимул в работе. Поэтому он и говорил об этих своих "открытиях" без всякой восторженности, так же строго, сдержанно и кратко, как мог он говорить о том, что вновь открывалось ему в родной русской природе или что поражало его, как еще незнакомое проявление народного гения.
В своей работе Качалов охватывал творчество Пушкина широко и смело, начиная с крупнейших драматургических образов и кончая незаконченными набросками и эпиграммами. Он работал и творчески проявил себя во всех жанрах пушкинской поэзии: в романе и лирике, поэме и трагедии, в балладе и сказке. Многие из этих работ остались незавершенными, а среди законченных только небольшая часть сохранилась и до известной степени передает своеобразие качаловского исполнения на граммофонных пластинках и в усовершенствованных записях, преимущественно последних лет. Было бы величайшей ошибкой и неуважением к великому таланту Качалова судить о поэзии Пушкина в его репертуаре по воспроизведению явно неудачных записей, в которых до сих пор, к сожалению, приходится иногда слышать по радио монологи из "Моцарта и Сальери", "Скупого рыцаря", "Бориса Годунова". Многие стихотворения, над которыми Качалов работал в течение ряда лет, воспроизведены на более ранних этапах его работы и не передают ни глубины замысла, ни выразительной силы его позднейшего исполнения. К ним относятся "Памятник", "Вновь я посетил", "В Сибирь", а из драматических произведений – ранняя запись сцены "Келья в Чудовом монастыре".
Но когда мы думаем не только о том, что сохранилось для будущего хотя бы в отдаленном соответствии с живым исполнением Качалова, и восстанавливаем в памяти все, что сделано и достигнуто им за десятилетия его работы над Пушкиным, – ничто не может заслонить величия его победы. Перед нашими глазами встает образ Качалова как замечательного актера пушкинского репертуара, разрушавшего всем своим артистическим опытом легенду о мнимой "несценичности" "Бориса Годунова" и "Каменного гостя"; перед нами светлый и пленительный образ Качалова-чтеца, с потрясающей силой воплотившего на концертной эстраде звучащее живое слово поэзии Пушкина.
2
Облик Качалова, особенно Качалова последних лет, неотделим от лирики Пушкина. В его концертном репертуаре было не так уж много пушкинских стихотворений, но с теми, которые он выбирал для концертной эстрады, он обычно уже не расставался никогда. Для него был необыкновенно важен самый выбор стихов для чтения с эстрады. Среди множества пушкинских лирических произведений, которые он любил и которыми никогда не переставал наслаждаться, он выбирал для работы только те, которые будили в нем непосредственный творческий отклик, сливались с его мировосприятием, становились частью его жизни, его души. Поэтому почти каждое стихотворение Пушкина, входившее в репертуар Качалова, казалось заново и неожиданно прочитанным: это был всегда новый Пушкин и новый Качалов.
"Пророк" и "Памятник", "В Сибирь" и "Вакхическая песня", "Брожу ли я вдоль улиц шумных" и "Вновь я посетил" на концертах Качалова были стихотворениями _к_а_ч_а_л_о_в_с_к_о_г_о_ Пушкина. И не потому, что они передавались слушателю чарующим, необыкновенным по красоте голосом, не потому, что они сверкали драгоценными находками артистического мастерства, но потому, что Качалов раскрывал в них свой внутренний мир, который был для нас неотразимо привлекателен и прекрасен.
Эти стихи, с детства знакомые и близкие каждому, звучали по-новому в исполнении Качалова, потому что он насыщал их своим жизнеутверждением, своей горячей любовью к Родине, своей верой в силу свободолюбивой мысли, своим восприятием высокой миссии художника, отдающего себя служению народу. Он читал Пушкина, как истинный русский национальный актер.
Работа Качалова над пушкинской лирикой была не менее сложной, чем его путь к овладению пушкинским театром. Голос Качалова, его любовь к звучащему слову, особый дар почти пластического воспроизведения словесного образа, его изумительная артистическая дикция – все эти качества могли бы позволить ему доставлять наслаждение слушателям даже и "декламацией" пушкинских стихов. Но этого было ему мало.
Он мог бы по-актерски "сыграть" стихотворение, как маленькую роль, как монолог, окрашенный соответствующим настроением, оправданный житейской логикой "предлагаемых обстоятельств", которые его актерская фантазия легко нашла бы в самом содержании и в жанре стихов (элегия – воспоминание, обращение к любимой женщине, послание к друзьям-декабристам и т. д.). Но и это никогда не удовлетворяло Качалова.
При всей его любви к стихотворной речи его не увлекала и специальная "работа над стихом" как над особой формой выражения поэтических идей и образов. "Головная", технологическая работа над стихом была ему чужда. Он не умел и не желал разлагать стихотворение ни на "психологические куски", ни на "ритмические единицы", не старался выделять или подчеркивать стиховые паузы или рифмы. Стих никогда не был для него внешней формой. В отличие от многих актеров, он воспринимал ритмический музыкальный рисунок стихотворения как его природу, как его плоть и кровь, в неразрывной связи с наполнявшими его чувствами и мыслями.
Специальные, "технологические" пути к овладению пушкинской лирикой отвергались Качаловым, вероятно, потому, что он не ограничивал себя задачей воспроизвести, _п_е_р_е_д_а_т_ь_ слушателям стихотворение Пушкина в качестве актера или в качестве чтеца. К стихам Пушкина он подходил с активной творческой волей и, читая их, выражал _с_в_о_е_ отношение к миру, свое восприятие жизни. Важнее всего для него было найти "возбудителя" этой творческой воли, основное, неразложимое на элементы самочувствие – всегда простое, жизненное и вместе с тем непременно взволнованное, приподнятое, небудничное. Это самочувствие давало ему внутреннее право говорить с эстрады "своим голосом" и в то же время голосом поэта. Эти решающие внутренние совпадения давали Качалову возможность стать лирическим "я" исполняемых им стихов, своеобразным и самостоятельным истолкователем поэзии Пушкина.
Только актер-трибун, художник эпохи социализма, узнавший высшее счастье творчества в народной любви, мог вдохнуть новый пафос в библейские образы "Пророка" и вложить новый, волнующий смысл в слова бессмертного пушкинского призыва:
Глаголом жги сердца людей!
Только неистребимая, ненасытная качаловская любовь к жизни, его не терпящая мистических обманов душа атеиста, его безграничная вера в созидающий человеческий разум могли вылиться в такой вдохновенный, могучий и радостный гимн жизни, каким была его «Вакхическая песня».
"Здравствуй, племя младое, незнакомое!" – говорил Качалов, и нас захватывала волна его любви ко всему молодому, творчески смелому, свежему, бодро вступающему в жизнь.
Он читал элегию "Брожу ли я вдоль улиц шумных", и в философской глубине, в ритмической широте и покое, в строгой цельности интонаций звучала не тоскливая мысль о неизбежности конца, а мудрое качаловское благословение жизни.
И любовная лирика Пушкина ("Я вас любил", "Ненастный день потух", "На холмах Грузии") в исполнении Качалова, проходя сквозь призму его души, окрашивалась в его неповторимые тона. Качаловская мужественная нежность и строгая сдержанность чувств слышались и волновали в этих стихах.
В последние годы жизни Качалов пришел к наивысшим своим достижениям в работе над лирикой Пушкина. В его репертуар вошли стихи, которых он прежде не читал, в том числе баллады: "Песнь о вещем Олеге", "Ворон к ворону летит", "Жил на свете рыцарь бедный". Каждая из них становилась в исполнении Качалова монументальным произведением, звучала, как единая, мощная музыкальная фраза, гармонически совершенная и наполненная светлым, радостным, жизнеутверждающим темпераментом. Уже намечался в творчестве Качалова внутренне закономерный переход от этих пушкинских баллад к большим эпическим полотнам – к "Полтаве" и "Руслану и Людмиле". Первые эскизы этих работ, сохранившиеся в звукозаписи, поражают своей глубочайшей, смелой простотой и ясностью. Стихи Пушкина звучат здесь так, как о них когда-то писал Белинский: "Какой стих, – прозрачный, мягкий и упругий, как волна, благозвучный, как музыка!"
Но, может быть, еще более поразительны последние возвращения Качалова к тем пушкинским стихам, которые сопутствовали ему всю жизнь и которые теперь, на склоне лет, он как бы постигал заново. Это – прежде всего политическая и философская лирика Пушкина. Возобновляя в своем репертуаре "Пророка", "Памятник", "В Сибирь", он смело и последовательно очищал свои любимые стихи от малейшей примеси декламационного пафоса, от внешней раскраски отдельных слов, от случайных интонаций – от всего, что прежде мешало ему донести во всей цельности и сосредоточенной страстности волновавшие его идеи.
– Никакой декламации, никакой патетики! – говорил он о "Памятнике", когда в последний раз работал над этим стихотворением в 1948 году. Он хотел читать "Памятник" совсем по-новому, совсем не так, как он звучит на пластинке или в радиозаписи. Он садился в кресло, спокойно откинув назад голову, положив руки на подлокотники и, как будто вспомнив, почти "про себя", эпиграф из Горация: "Exegi monumentum...", тихо и сосредоточенно начинал: "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." Лишенные внешней декламационной приподнятости, но зато глубоко пережитые, предельно строгие по форме выражения, но внутренне пламенные стихи "Памятника" звучали со всей силой пушкинского гениального провидения. В исполнении Качалова это провидение поэта, ставшее действительностью в Советской стране, было овеяно безграничной гордостью за свой народ, за великую русскую национальную культуру.
3
Работа над драматургическими образами Пушкина проходит почти через всю творческую жизнь Качалова, начиная с 1907 года. Преимущественно эта работа была связана с пушкинскими спектаклями Художественного театра 1907, 1915 и 1937 годов, но часто возникала и совершенно самостоятельно, особенно в последнее двадцатилетие, когда в жизни Качалова заняла такое значительное место концертная эстрада. К ролям пушкинского репертуара он возвращался постоянно, периодически возобновляя работу над одной и той же ролью. Однажды загоревшись пьесой Пушкина, Качалов уже не расставался с ней надолго, она становилась для него сокровенной и дразнящей творческой мечтой, требовала все новых поисков, рождала в нем новые желания и замыслы. Так в разное время вошли, а потом возвращались вновь в творческую лабораторию Качалова Пимен и Борис Годунов, Сальери, Председатель («Пир во время чумы»), Барон («Скупой рыцарь») и Дон Гуан («Каменный гость»).
Работа Качалова охватывала в той или иной степени почти все основное драматургическое наследие Пушкина – все "Маленькие трагедии" и "Бориса Годунова".
Но судьба пушкинских образов в творческой биографии Качалова различна. В списке его ролей, сыгранных на сцене Художественного театра, – Пимен и Дон Гуан. Роль Бориса Годунова была доведена в работе до генеральных репетиций. Монологи Председателя, Сальери и Барона остались творческими эскизами Качалова.
Среди них самый "сырой", наименее разработанный – монолог Барона. Он сохранился в записи на пластинке, которая не удовлетворяла самого Василия Ивановича. Он всегда великолепно знал и умел точно определить то, что мешало ему приблизиться к Пушкину, а в данной работе воспринимал эти препятствия особенно остро, чувствуя, что они остаются непреодоленными.
Слушая монолог из "Скупого рыцаря" даже в живом исполнении Качалова, а не только в записи, нельзя было не почувствовать, что здесь еще не найден какой-то решающий, действенный стержень образа, его основное жизненное самочувствие. От этого весь монолог как будто рассыпался на отдельные куски, то яркие, насыщенные живым чувством и темпераментом, то декламационно-приподнятые и внутренне холодные. Декламационное начало было явно преобладающим. Оно сковывало Качалова, замыкало его в пределах чтения монолога, не открывая ему тех внутренних путей к сердцу образа, которые он мучительно искал. И выхода из этого плена не было ни в стройности и выпуклости великолепно донесенной мысли, ни в расточительной яркости красок, которыми он как бы извне кистью художника изображал душевное состояние Барона.
Образ Сальери был для Качалова в гораздо большей степени реальной _р_о_л_ь_ю, которой он стремился овладеть не в отдельно взятом монологе, а в целом, во всем ее сложном развитии. Он мечтал сыграть Сальери, считал эту роль "своей", вынашивал ее в себе, готовился к ней. В мечте о Сальери сказывалось его постоянное внутреннее тяготение к ролям мирового трагедийного репертуара. Среди неосуществленных замыслов Качалова Сальери стоит рядом с Мефистофелем, Ричардом III и Яго.
Василий Иванович никогда не читал и не играл Сальери в концертах. Сделав несколько попыток записать первый монолог на пластинку и пленку, он продолжал свою работу над "Моцартом и Сальери" в уединении и редко делился ею даже с близкими. В последние годы его увлекала мысль соединить в концертном исполнении обе роли – если не сыграть, то прочитать с эстрады и Сальери и Моцарта.
Этот смелый замысел, необыкновенно характерный для последних этапов творчества Качалова, открыл перед ним новые возможности в работе над образом Сальери, который и теперь, во взаимодействии с Моцартом, оставался для Качалова основным. Читая обе роли от начала до конца пьесы, Качалов не искал ни резко очерченной характерности, ни особого контраста в дикции, высоте и тембре голоса. Он читал монологи и краткие реплики Моцарта и в то же время как будто сам прислушивался к ним внутренним слухом своего Сальери. Он стремился охватить изнутри, во всей глубине, целиком основной философский и психологический контраст пьесы. Для этого ему и нужен был Моцарт. Но в соединении Сальери и Моцарта он, казалось, искал прежде всего живых, непосредственно жизненных импульсов для сложного внутреннего действия своего основного героя – Сальери. И никогда трагедия Сальери, возникающая в трактовке Качалова из мучительного противоборства мысли и чувства, не достигала в его воплощении такой насыщенности, такого искреннего пафоса, как в этих замечательных эскизах.
Всегда волнующим и близким был для Качалова монолог Председателя из драматической сцены "Пир во время чумы" ("Когда могущая Зима..."). Именно поэтому Василий Иванович, довольно часто включая этот монолог в концертную пушкинскую программу, относился к исполнению его с особенной требовательностью.
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю...
В этих стихах монолога, воплощавших для Качалова его идейно-эмоциональное зерно, звучала тема, предельно близкая его собственной основной творческой теме: бесстрашие и могущество человеческой воли, радость борьбы за жизнь, утверждение жизни. Может быть, потому Качалов и ограничивался в своей работе над «Пиром во время чумы» одним монологом, что не хотел омрачать этот гимн жизни, этот гордый вызов судьбе ни отчаяньем, ни ужасом, ни тоской Вальсингама, которым нет исхода, нет разрешения в драматическом фрагменте Пушкина.
В сдержанном, но внутренне накаленном темпераменте качаловского Председателя, в нарастающей и постепенно захватывающей силе его патетических утверждений мощной органной нотой звучала интонация спора с судьбой. "Е_с_т_ь_ упоение в бою..." – восклицал он, как бы подчеркивая этим ударением несокрушимую силу своей убежденности и воли. "И девы-розы _п_ь_е_м_ дыханье, – быть может... полное Чумы" – подтекстом этих заключительных строк у Качалова был мужественный, дерзкий, бесстрашный вызов свободного человеческого духа, который ставит себя над судьбой, утверждая свое бессмертие.
Качалов придавал "гимну в честь чумы" ликующие вольнолюбивые краски той "буйной вакхической песни", которой ждут от Председателя другие участники пира. Вакхически-страстно – в пушкинском смысле – звучало в этом отрывке его жизнеутверждение. Не случайно отрывок из "Пира во время чумы" в концертных программах Качалова обыкновенно занимал место рядом со стихотворением, которое было названо "Вакхической песней" самим Пушкиным. И вслед за монологом Председателя, как бы расширяя его пределы, с новой силой неслись с эстрады бессмертные пушкинские слова:
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
4
Тема бесстрашного, гордого, жизнеутверждающего вызова судьбе была основной для Качалова и в пьесе «Каменный гость», которая была поставлена Художественным театром вместе с «Моцартом и Сальери» и «Пиром во время чумы» в 1915 году.
Для передового театра, особенно дорожившего своей глубочайшей связью с национальной классической драматургией, было знаменательным это обращение к Пушкину в годы империалистической войны. Театр не желал подчинять свое искусство требованиям и вкусам буржуазной публики, от которой он материально зависел. Он отказывался от шовинистического и бездумно-развлекательного репертуара, господствовавшего на многих других сценах, и, углубляясь во внутреннюю лабораторную работу, все реже показывал в это время новые спектакли. Работа над Пушкиным увлекала театр, вопреки заказам и ожиданиям пресыщенного, жаждущего острых ощущений буржуазного зрителя.
Но, несмотря на то, что Художественный театр подходил к драматургии Пушкина со всей ответственностью, пытливостью и глубиной истинного новатора, он остался сам не удовлетворен результатом своей работы в целом. Ограниченное представление о "жизненной правде" не давало театру возможности полностью овладеть идейной сущностью и стилем пушкинских трагедий. Их гениальная лаконичность вступала в противоречие с психологической и бытовой "маленькой правдой", от которой искусство МХТ в то время еще не было свободно. Пушкинский стих в этой постановке был для большинства актеров Художественного театра скорее непреодолимым препятствием, чем путем к органическому слиянию с идеями и образами трагедий Пушкина.
Обобщая опыт работы над Пушкиным в замечательном по самокритической глубине рассказе о самом себе в роли Сальери, К. С. Станиславский пишет в книге "Моя жизнь в искусстве": "То, что я делал, я делал искренно; я чувствовал душу, мысли, стремления и всю внутреннюю жизнь моего Сальери. Я жил ролью правильно, пока мое чувство шло от сердца к двигательным центрам тела, к голосу и языку. Но лишь только пережитое выражалось в движении и особенно в словах и речи,– помимо моей воли создавался вывих, фальшь, детонировка, и я не узнавал во внешней форме своего искреннего внутреннего чувства... На этот раз главное было в том, что я не справлялся с пушкинским стихом. Я перегрузил слова роли и придал каждому из них в отдельности большее значение, чем оно может в себя вместить".
Глава о пушкинском спектакле имеет в книге Станиславского многозначительный заголовок: "Актер должен уметь говорить". В работе над Пушкиным Станиславский пришел к новому этапу в развитии своей "системы" органического актерского творчества. Это было открытием одной из тех гениально простых "давно известных истин", которые в синтезе творческого метода Станиславского ведут актера к новым и новым достижениям. В заключительных строках главы о пушкинском спектакле Станиславский взволнованно говорит о том, "сколько новых возможностей откроет нам музыкальная звучная речь для выявления внутренней жизни на сцене", а несколько выше мы находим его признание: "Для себя самого – я жестоко провалился в роли Сальери. Но я не променяю этого провала ни на какие успехи и лавры: так много важного принесла мне моя неудача".








