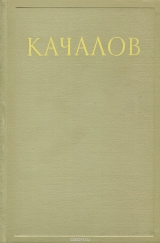
Текст книги "Сборник статей, воспоминаний, писем"
Автор книги: Василий Качалов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 48 страниц)
Качалова волновала в этой роли трагедия острой критической мысли, не могущей найти путей к настоящему торжеству человека. Всей силой своей жизнеутверждающей личности он вступил в конфликт с тем: подлинно "карамазовским", что вложил автор в своего героя. Качалов играл своего Ивана. Он пытался лишить этот образ его социального нигилизма, его "беса плоти", его равнодушия к людям. Он обнажил сильный, хотя уже и отравленный ум 23-летнего "философа". Его Иван подлинно страдал, стремясь уничтожить в себе "карамазовское" наследие, он рвался к людям, к жизни из пут психической болезни.
Сцену кошмара Качалов проводил в реальном плане, превращая "диалог" в "монолог" Ивана. "Рампа совершенно потушена. Сцена освещается только неверным пламенем одинокой свечи на столе перед самоваром, от которого на заднюю стенку падает причудливая человекообразная тень. Входит Иван. Проходит между свечой и стеной, и опять на сцене ползет гигантская тень от него. И вся сцена кажется заполненною колеблющимися тенями; среди них намечается контур кресла, на котором Ивану мерещится чорт" {"Вестник Европы", 1910, XI.}.
Монолог длился 32 минуты. Качалов одним собой заполнял сцену. Одинокий человек тихо говорил сам с собой перед колеблющимся пламенем свечи...
Но если в отдельные моменты спектакля Качалову порою и удавалось переводить образ в свой "качаловский", жизнеутверждающий план, то такие сцены, как "Третье свидание со Смердяковым" или "Суд", неизбежно погружали актера в болезненно-надрывный и беспросветно-мрачный мир Достоевского.
Как отнеслась к спектаклю печать? Либеральной критикой, разумеется, поднимался вопрос не о реакционности идейных концепций Достоевского. "Драка" разгорелась на почве споров о том, обескровила инсценировка роман или нет, имел ли тут место "вандализм" по отношению к автору. Дошло до того, что Художественный театр был назван "маленьким и жалким зверинцем", превратившим "кошмарнейшую симфонию Достоевского в отбивную котлету".
Никто в театре и в легальной прессе не осознал, _ч_т_о_ _ч_е_м_ _с_и_л_ь_н_е_е_ _и_ _т_а_л_а_н_т_л_и_в_е_е_ _б_ы_л_а_ _и_г_р_а_ _а_к_т_е_р_о_в, _т_е_м_ _в_р_е_д_н_е_е_ _о_к_а_з_ы_в_а_л_с_я_ _э_т_о_т_ _с_п_е_к_т_а_к_л_ь. Через три года после постановки "Братьев Карамазовых" Горький, протестуя против инсценировки романа Достоевского "Бесы", дал анализ подлинного образа Ивана Карамазова, каким он прозвучал на страницах романа, разоблачил "свободолюбие" Ивана, назвав его "Обломовым, принявшим нигилизм ради удобств плоти и по лени". Горький показал, что "его "неприятие мира" – просто словесный бунт лентяя, а его утверждение, что человек – "дикое и злое животное", – дрянные слова злого человека" {М. Горький. Еще о "карамазовщине". Собрание сочинений в тридцати томах, т. 24, М., 1953.}.
Горький восстал против сценического воплощения "гнойных язв" "карамазовщины" и гневно заявил, что русский человек не таков, каким изображает его Достоевский. В противовес этому признание спектакля "Братья Карамазовы" частью буржуазной критики явно толкало Художественный театр к дальнейшему отходу от прежних, горьковских традиций и усиливало у его руководства тенденции аполитизма. Это был самый мучительный период в истории замечательного театра: шла борьба за его подлинную "жизнь в искусстве", за его роль в жизни народа. Горький и здесь отвоевывал Художественный театр для революции.
В том же сезоне, в связи с болезнью К. С. Станиславского, Качалов стал играть Ракитина в тургеневском спектакле "Месяц в деревне".
ПОИСКИ ХАРАКТЕРНОСТИ
28 февраля 1911 года была поставлена в Художественном театре пьеса Гамсуна «У жизни в лапах». Московская демократическая интеллигенция считала, что пьеса была недостойна того, чтобы ее играли Книппер, Качалов, Леонидов. Агония буржуазного общества была истолкована автором в биологическом, а не в социальном плане: человек – беспомощная щепка в водовороте жизни, он обречен, он «маленькая посиневшая искорка жизни», он на закате. «Пусть играют музыканты! Чтоб нам было весело, несмотря ни на что. Чтобы мы погибали, по крайней мере, на всех парусах!» – таков был лейтмотив пьесы. Спектакль рассматривался передовой критикой как «падение» Художественного театра, хотя и отмечали «малявинскую силу» в отдельных моментах исполнения. Зрителя захватывало исключительное по блеску, легкости и непринужденности исполнение Качаловым роли набоба Пер Баста. «Качалов не давал ни на минуту отвести от себя глаз»,– писал один из рецензентов. Аргентинец с медно-красным, загорелым в прериях лицом, в мягкой широкополой шляпе, с седой гривой волос и молодым блеском глаз, этот набоб таил под обликом «европейца» кипучую кровь жителя прерий, натуру чувственную, искреннюю и непосредственную. Зрителя, хорошо знавшего Качалова по ролям мыслителей и борцов, поражала способность актера до такой степени отойти от своей индивидуальности. Некоторые находили, что Качалов здесь переступил даже меру нужного – «лишил Баста всякой элегии».
Как-то не замечали, что некоторые качества, которые в актерской индивидуальности Качалова обычно звучали чуть слышно, "акварельно", в образе Баста были подняты до зенита: такова его кипучая жизнерадостность, его веселое добродушие, грубоватый юмор. Простота внешних приемов покоряла зрителя в этом приподнятом, "гиперболическом", ярко театральном образе. А где-то в глубине теплились искорки качаловского обаяния. Может быть, именно поэтому Пер Бает своей непосредственностью, искренностью, широтой натуры выпадал в исполнении Качалова из круга хищников типа Гиле и Блюменшена и, продолжая оставаться человеком того же мира, точно все-таки не укладывался в буржуазно-обывательские рамки, точно дышал не совсем тем же воздухом, каким дышали они. Чем-то он все-таки разрушал их растленную "блюменшеновскую" мораль. Казалось, что этот образ находится вне качаловского репертуара, по сценическим приемам перекликаясь, пожалуй, только с первоначальным замыслом роли Глумова.
О Качалове в период весенних гастролей в Петербурге у студенчества сохранились теплые воспоминания. 11 февраля 1940 года в письме к Василию Ивановичу бывшие питерцы, муж и жена, врач и инженер, рассказывали: "1911 год. Старый Петербург. Зал бывшей городской думы. Вечер памяти Гаршина. Вы на эстраде. Высокий, стройный, белокурый. Читаете "Красный цветок". Ваше выступление превратилось в яркую демонстрацию против самодержавия. Мы, тогда студенты, бесконечно Вас вызывали. Наконец в зал вошли городовые, стали тушить электричество. Нас всех выгнали".
Лето Качаловы провели вместе со Станиславскими в Бретани, и к началу сезона В. И. и К. С. вернулись вдвоем в Москву. Предстоял крайне трудный сезон. Новых ролей намечалось три: Каренин, Гамлет и Горский.
Спектакль "Живой труп" на сцене Художественного театра (23 сентября 1911 г.) был первой постановкой этой драмы Л. Н. Толстого. Театр был увлечен огромной художественной правдой, силой и простотой толстовского текста, подрывавшего самые основы старого строя. Для изголодавшегося по живой правде театра это был праздник искусства. Даже маленькие роли исполняли большие артисты. В Москве ждали, что играть Федю Протасова будет Качалов, индивидуальные данные которого могли бы помочь ему в этой роли. Но режиссерский план был иным. Перед Качаловым поставили задачу дать характерный образ "камергера, действительного статского советника 38 лет", Виктора Каренина, светского человека, бюрократа, о котором родная мать говорит: "Это гордая душа. Он был горд еще семилетним мальчиком. Горд не именем, не богатством, но горд своей чистотой..." Материал для лепки образа Каренина Толстой дал очень скупо. Кроме сцены у следователя, образ Каренина везде только намечен. А между тем это одна из наиболее ответственных ролей в пьесе. "Я считаю его очень скучным, но очень хорошим, честным человеком",– говорит о Каренине его антипод Федя Протасов.
Каренин как будто не способен ни на один поступок, ни на одно решающее слово. Эта "замороженная душа" – продукт своего застывшего класса. Была опасность засушить роль, дать бесстрастную мумию, но пристальный взгляд Качалова разглядел в этом "гордом" человеке тоже какое-то микроскопическое "движение" на протяжении пьесы. Однако это "движение образа" ни в какой мере не разрушало ту скорлупу непроницаемой корректности, в которую заключен Каренин. Эту неблагодарную и несимпатичную роль Качалов играл так, что перед зрителем везде был живой человек и именно тот самый Виктор Каренин, который, по его собственному признанию, чувствовал, что в его дружбе с Лизой Протасовой есть "маленькая искра чего-то большего, чем дружба". Именно эта "маленькая искра" и обнажала его противоположность Феде: федина душа была объята пламенем, в котором сгорал мир Карениных и Абрезковых. Грим "камергера" был на редкость удачен, он попадал в цель. В каждой его позе, в выражении глаз, в походке безошибочно угадывался человек без огня. "Эти два грима, два портрета (Качалов и Станиславский) – они положительно гениальны! – восхищался рецензент.– Оба персонажа – сама жизнь. Я ломаю голову, устанавливаю имя – и не могу. Качалов похож на саратовского депутата Львова. Есть сходство и с П. А. Столыпиным, а, пожалуй, и с Кривошеиным". Какой контраст с трагической фигурой Феди представлял собой этот внешне подтянутый петербургский барин, никак не позволяющий себе "выйти из берегов"! Особенно выразителен был качаловский Каренин в сцене "величания" у цыган, где до души этого "камергера" так и не доходило обаяние песни Маши. Предельно выразительна была в эти минуты его молчаливая, корректная, несгибающаяся фигура, как будто насильственно ввергнутая в круг живых, чувствующих людей, застывшая в неестественной позе. Образ был совершенен.
Когда в сцене у следователя Федя задавал чиновнику, получающему "по двугривенному за пакость", простые, ясные и правдивые вопросы, Каренин, этот человек без "изюминки", казался ушедшим в себя и в состоянии был выдавить только какой-то мертвый "параграф": "Я бы просил вас оставаться в рамках исполнения своих обязанностей". Здесь в суде, рядом с протестующим, мятущимся Федей Протасовым, Каренин и Лиза чувствовали друг в друге "родную" душу.
Одна сцена, когда по коридору суда проходили Абрезков – Станиславский и Каренин – Качалов, могла бы служить обвинительным приговором старой России. Это было явление большого искусства.
Часть театральной критики придерживалась мнения, что образ Каренина – продукт собственного творчества Качалова, и неизвестно, совпал ли бы он с толстовским образом, если бы тот был "дописан". Среди общего признания большой творческой удачи особняком прозвучало мнение человека, очевидно, задетого "замороженностью" качаловского камергера. Это был князь С. М. Волконский. Он утверждал, что Качалов разошелся с Толстым. "По-моему,– писал С. М. Волконский,– образ надо переписать, как говорят художники, переписать, не смущаясь". По-видимому, автор рецензии не мог принять интонации, в какой прозвучал у Качалова образ Каренина. Для нас это лишнее подтверждение его глубокой социальной правды.
ГАМЛЕТ
Постановка шекспировской трагедии была задумана Художественным театром еще в 1908 году. Художественное руководство принадлежало Станиславскому. Для участия в этой работе театра был приглашен английский режиссер Гордон Крэг. Крэг задумал осуществить на русской сцене шекспировскую трагедию в духе своей декадентской, условной системы. Новая работа театра в печати заранее была встречена полемически. Потратив на постановку «Гамлета» много сил и творческой энергии, Художественный театр не был удовлетворен результатом. Но то, что произошло в _п_р_о_ц_е_с_с_е_ _р_а_б_о_т_ы_ над трагедией, представляет большой общественный интерес.
Обстановку на сцене Крэг предельно "упростил", довел до голой схемы, якобы для того, чтобы все внимание зрителя было устремлено на артиста. На самом деле из спектакля должна была быть изъята история, а живому человеку предстояло превратиться в марионетку в руках режиссера. Живопись на сцене заменялась архитектурой, ширмами и усиленным светом. Крэг настаивал, чтобы актер "играл, а не анализировал". Гамлет, по Крэгу, должен был противостоять "страшному миру, где копошатся залитые золотом, покрытые какой-то золотой мишурой чудища, полузвери, полузмеи, полужабы". Весь двор Клавдия представлял собою огромную золоченую пирамиду, у подножия которой в темном одеянии сидел Гамлет, отвлеченно трактованный Крэгом как "лучший человек", почти Мессия, воплощение высокого "духа".
Образ качаловского Гамлета шел вразрез с метафизическим замыслом Крэга, разрушал его изнутри. Органически не принимавший приемов условной игры, Качалов всем своим существом протестовал против метафизической символики постановки, чувствовал себя скованным безрадостной зависимостью от крэговских "ширм": в сцене с тенью ему приходилось взбираться на высокий помост в тяжелом меховом плаще, свет резал глаза, большие масштабы сцены "Мышеловка" требовали крупных движений, подчеркивания мимики и интонаций. Все разрушало интимность и глубину реалистического исполнения. "Было такое чувство,– признавался Качалов,– точно я на площади. Я сразу заметил в себе, в своем актерском самочувствии, что меня тянуло к театральности, к условным сценическим выражениям подъема" {Н. Е. Эфрос. В. И. Качалов, 1919.}. Актер создавал своего Гамлета в таких условиях, в которых все ему мешало, все ломало его огромное дарование художника-реалиста.
Почти четверть века спустя Крэг во время своего пребывания в СССР, вспоминая работу над Шекспиром в Художественном театре, все еще негодовал: "Они меня зарезали! Качалов играл Гамлета по-своему. Это интересно, это даже блестяще, но это не мой, не мой Гамлет, совсем не то, что я хотел! Они взяли мои ширмы, но лишили спектакль моей души. Качалов, как я ни старался его увлечь, играл Гамлета так, как если бы он был живым человеком" {H. H. Чушкин. Гамлет – Качалов. "Театральный альманах", ВТО, 1947, кн. 6.}.
В сущности, сценическая площадка, на которой разыгрывалась шекспировская трагедия, была местом схватки двух враждебных мировоззрений, двух противоположных восприятий мира – мужественного качаловского реализма, крепнувшего в поисках человечности и простоты на сцене, искавшего живого, конкретного содержания образа, сквозь оболочку шекспировской трагедии прорывавшегося в современность, в сегодняшний день, и декадентского символизма Крэга. Гамлет – Качалов был русский Гамлет. "Слишком умный, слишком думающий",– возмущался Крэг. Качалов самой жизнью образа на сцене взрывал всю сложную архитектонику режиссера – "зодчего". Качаловский Гамлет был бы немыслим без великих традиций русской классической литературы. Творчество Качалова питалось мыслями Белинского, Чернышевского. Л. Толстого, Чехова, Горького. Качалов не только свел с котурн традиционного сценического Гамлета, "человека вечной устремленности ввысь", но и нашел его историческое место на стыке двух эпох.
Он играл Гамлета – студента Виттенбергского университета, человека, значительно опередившего свою эпоху. Актер ввел нас во внутренний мир Гамлета. Этот Гамлет вырывался далеко за пределы датского двора, сохраняя все исторические черты эпохи.
Острием этого образа актер разил современность, императорскую Россию с _е_е_ Полониями и Розенкранцами. Вместе с тем он сохранял историческое содержание образа. "Трагедия Гамлета,– говорил Качалов,– проклятие от двойного сознания: несовершенства жизни и невозможности обратить ее в совершенство. Не потому я, Гамлет, не могу восстановить гармонию, что слаба во мне воля. Гамлет – живой человек с очень нежными покровами. Он уже проникнут новым духом гуманизма. Он понял, что убийством ничего не восстановишь, не свяжешь распавшуюся связь времен. Таков источник его бездействия" {Н. Е. Эфрос. В. И. Качалов, 1919.}. Качалов играл трагедию мысли человека волевого, но бездействующего в силу понимания безвыходности своего исторического положения. Он преодолел мыслью первобытный инстинкт убийства – месть. Ему ясно, что уничтожение Клавдия не изменит общего порядка вещей, что его, Гамлета, трагедия– только одно из звеньев "распавшейся связи времен". На сцене развертывалась философская трагедия, трагедия разума, начинающего догадываться, как сложны причины, руководящие действиями отдельных людей. На протяжении всей трагедии актер раскрывал идею попранного и оскорбленного человеческого достоинства. Валерий Брюсов писал: "Качалов сводит Гамлета с пьедестала, на который поставили его столетия. Но о Качалове – Гамлете можно говорить, как об определенном типе, созданном артистом" {В. Я. Брюсов. "Гамлет" в Художественном театре. "Ежегодник императорских театров", 1912.}. Интимно раскрывая общественную драму Гамлета, Качалов оставался трагическим героем: "Бледное, чеканное лицо, обрамленное длинными волосами. Лицо аскета и философа,– вспоминал рецензент,– и вместе с тем лицо актера, где каждый мускул нервно ждет своей очереди, своего выхода,– лицо Качалова".
Вся методология создания образа, вся человечность и простота качаловской передачи роли Гамлета были молчаливым сопротивлением традиции и рутине не только на сцене, но и в жизни. От него требовали "подъема ненависти, ужаса, самобичевания и затем безнадежной прострации духа",– словом, всякой метафизической чепухи, заштампованного традиционализма, которому противостояло даже лицо качаловского Гамлета, полное мысли, "хорошее, умное, тонкое, северное лицо". От Качалова ждали сценического пафоса, судили об его игре в традициях архаической эстетики, и хотя на генеральной репетиции его провожали бурей оваций, поверхностная либеральная критика не умела оценить все новаторское значение этой качаловской роли. "Бескровный", "вялый", "неинтересный", "потухший", "придушенный" – эпитеты сыпались один за другим. Актеру пришлось принять на себя лавину колких, продуманных и непродуманных упреков и осуждений. В стиле качаловской игры видели не замысел актера, а холодок и отсутствие темперамента. Какое-то опасное направление ощутили в этом сценическом образе охранители устоев. Очень зло ощетинились "Новое время" и "Московские ведомости". "Одежда Гамлета немного походила на подрясник, а сам Гамлет напоминал Григория Отрепьева, но без порывистости пушкинского героя, – острил Бен. – Одно хорошо: Качалов воплощает настоящего принца крови, он царственная особа и внушает к себе уважение". "У него не оказалось даже тени нужного здесь темперамента, ни искры огня, души. "Ударить по сердцам с неведомою силой" ему никогда не удастся..." – злобствовал Н. Ежов. Эти несколько завуалированные выпады против всей системы Художественного театра и явные – против Качалова были, естественно, вызваны огромными победами театра в области критического реализма, в области проникновения в русскую действительность. Большое, человечное искусство пугало реакционеров, его старались не понимать – пусть лучше сцена остается "украшением" жизни. Ничего принципиально нового в исполнении Гамлета Качаловым не видели. Привыкли к Гамлету-неврастенику, а не мыслителю.
Суть трагедии Гамлета–Качалова не в его личных несчастьях, – они воздействуют на него недолго. Скорбь и гнев его вызывает раскрывшаяся перед ним реальная действительность. Этот русский Гамлет бичевал не только змеенышей датского двора, но и тот мир, который окружал его за пределами театральных стен. Наиболее чутких критиков возмущали крэговские ширмы, мешавшие этому "превосходному Гамлету" дать "еще более удивительную, трогательную и увлекающую своим благородством фигуру".
В этой работе Качалова некоторые зрители видели мощный шаг театра вперед: он дал "п_р_а_в_д_у_ _о_ _Г_а_м_л_е_т_е". Актер увлекал зрителя не "голым" темпераментом, а глубиной дум, силой гнева. "Ангелоподобный субъект" был превращен в _ч_е_л_о_в_е_к_а. Сцена с книгой,– прощание с Виттенбергом,– была названа "гениальной". Наиболее выразительной, действенной казалась гневная сцена с флейтой и сцена с актерами. Отмечали сдержанность в чеканке слов, в гриме, в интонации. Качалов – Гамлет редко позволял себе безудержный порыв, но чем это было реже, тем убедительнее. Внимательный зритель находил, что качаловское искусство владения паузами здесь доведено до совершенства и что самое сильное его оружие – ирония.
Несмотря на бурные вызовы на генеральной репетиции, Качалов по-своему расценивал результаты работы. Он мечтал о простоте, об интимности исполнения роли, а в крэговских ширмах не имел возможности даже прислониться, присесть. Кто-то из рецензентов и так упрекнул его, что сцену с Офелией он вел, "от начала до конца прижавшись к стенке".
"Сомнительный успех Гамлета. Сезон трудный, но интересный",– записал Качалов в своем дневнике.
Только постепенно работа Качалова над Гамлетом была оценена по достоинству. Уже в наши дни критикой были раскрыты в качаловском Гамлете не только скорбь и гнев, но и глубокое национальное звучание.
Тургеневский спектакль (5 марта 1912 года) в Художественном театре злые языки называли "реваншем" за "Гамлета". В миниатюре "Где тонко, там и рвется" с блеском раскрылось комедийное дарование Качалова.
В комедийном мастерстве Качалова отсутствовали какие-либо внешние эффекты. Во всем поведении Качалова–Горского сквозила легкая, чуть капризная, не всегда уверенная в себе ирония. У этого тургеневского героя нет исключительных "печоринских" качеств, и потому у него отсутствуют тот размах, та требовательность к жизни, те резкие повороты, та острота социальных противоречий, которые свойственны лермонтовскому герою. Но подтекст роли чуть похож – то же неумение найти применение своим интеллектуальным данным, осуществить "назначение высокое". В романе Горского с Верой, в этой "битве на шпагах", его влечет ускользающий призрак "счастья", которое его все равно не утолит. При обычной раздвоенности людей 30–40-х годов в нем сочетаются холодок мысли, острая наблюдательность с мгновенной взволнованностью и заинтересованностью, но страх оказаться "болваном", непобедимый эгоизм убивают готовность отдаться чувству. Качалов виртуозно передавал этот переход от настороженности к увлечению игрой, риском, скольжением на острие ножа.
Музыкальность этого тургеневского спектакля (особенно сцена у рояля) была доведена до совершенства. В оценке исполнения роли пестрели эпитеты: "стильно", "легко", "красиво", "умно", "превосходно", "великолепно". Зритель наслаждался тончайшим мастерством актера.
Качалов создал иронический образ Горского, нигде, однако, не доводя иронию до сарказма. Он обнажал его сердечный холод, его эгоцентризм, но не скрывал его ума, обаяния и мягкого юмора. Склонность Горского к безжалостной игре с человеческой душой В. И. смягчал (его обвиняли в "облагораживании" образа). Зато он тонко издевался над своим героем в финале комедии, когда холодок Горского сменялся досадой, горечью и даже легким раздражением.
Всегда и неизменно едкий по отношению к Качалову "нововременец" Н. Ежов и тут захлебывался желчью: "Качалов в роли Горского был великолепен. Вот он каких дел мастер,– не то, что Гамлет или Чацкий!"
На "капустнике" Художественного театра 14 марта 1912 года к одному из самых острых номеров программы публика была подготовлена предуведомлением: "В. И. Качалов, бывший артист Художественного театра, в 1909 году, разочаровавшись в театре, переехал в Мадрид, где, увлеченный боем быков, под руководством А. А. Стаховича (теперь директор Художественного театра), сделался эспадой". В афише было указано: "Бой быков в Севилье (впервые на русской сцене). Постановка при ближайшем участии знатоков Испании Вл. И. Немировича-Данченко и П. П. Кончаловского". Зрительный зал надрывался от хохота, когда Качалов в зеленом костюме эспады сражался с быком на "севильской арене".
После весенних гастролей в Петербурге Качалов участвовал в поездке театра в Варшаву, Киев и Одессу. Играли "Живой труп", "Три сестры", "Карамазовых", "У врат царства".
ТРУДНЫЕ ГОДЫ
В годы перед Великой Октябрьской социалистической революцией русское буржуазное искусство переживало период идейного распада. «Время от 1907 до 1917 года было временем полного своеволия безответственной мысли, полной „свободы творчества“ русских литераторов,– писал Горький.– Свобода эта выразилась в пропаганде всех консервативных идей западной буржуазии...» {М. Горький. Доклад на Первом всесоюзном съезде советских писателей. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 27, М., 1953.}
Кризис буржуазного искусства остро ощущался и передовыми деятелями Художественного театра. Он отражался прежде всего на репертуаре театра, на выборе таких пьес, как андреевская "Екатерина Ивановна" (премьера 12 декабря 1912 года). Авторский замысел этой пьесы был социально порочен, и режиссура, мечтавшая найти материал для серьезного спектакля, оказалась перед текстом, который не поддавался переработке. После Бранна и Гамлета Качалову пришлось играть лишенную плоти и крови роль депутата Государственной думы Стибелева, чье участие в общественной жизни зрителем никак не ощущалось. В пьесе были только "функции ревности, мести и раскаяния". Из этих повисших в воздухе "функций" надо было создать что-то свое. Наиболее общественно-чуткие зрители негодовали: "Отдать неумную и неинтересную роль гордости своей, превосходному актеру Василию Ивановичу Качалову!" В. И. в этой роли блестяще разрешил ряд сценических задач. Сама качаловская индивидуальность прикрывала пустоту роли. Но для чего нужна была победа, ничего не дающая ни уму, ни сердцу? К счастью, пьеса провалилась – это было свидетельством роста известной части публики.
Весной были гастроли Качалова – Тула, Калуга, Тверь, Ярославль. После поездки с Художественным театром в Петербург В. И. гастролировал летом в Одессе и Киеве. Здесь он играл в "Одиноких" Гауптмана вместе с М. Ф. Андреевой.
В том же 1913 году Качалов через своего гимназического товарища познакомился с О. Н. Мицкевич, женой ссыльного большевика Сергея Ивановича Мицкевича (впоследствии директор Музея Революции в Москве). Было решено, что ввиду постоянных ссылок отца и перегруженности общественной работой матери, 12-летний Валя Мицкевич будет жить и воспитываться у Качалова вместе со своим ровесником Вадимом. Постепенно мальчик крепко врос в качаловскую семью. С сыном Качалова они жили, как братья, до самого окончания школы в 1919 году. Юношей В. С. Мицкевич работал библиотекарем у В. И. Ленина. В последнее время был на большой уральской стройке, где и умер в 1948 году.
В сезон 1913/14 года Качалову предстояло тяжелое испытание – роль Николая Ставрогина в инсценировке романа Достоевского "Бесы". Спектакль был почти готов, когда в печати появился гневный протест М. Горького против инсценировки в Художественном театре этого романа, представляющего собой злостный памфлет на русское революционное движение 60-х годов. Это "представление" великий пролетарский писатель считал "затеей сомнительной эстетически и безусловно вредной социально". В открытом письме в редакцию газеты "Русское слово" Горький писал: "...прислушайтесь к голосам современной молодежи,– нехорошо на Руси, господа! Не Ставрогиных надобно ей показывать теперь, а что-то другое. Необходима проповедь бодрости, необходимо духовное здоровье, деяние, а не самосозерцание, необходим возврат к источнику энергии – к демократии, к народу, к общественности и науке" {М. Горький. Еще о "карамазовщине". Собрание сочинении в тридцати томах, т. 24, М., 1953.}.
Художественный театр в эти тяжелые годы действительно попал в тупик и, возможно, навсегда утерял бы свой путь передового театра страны, если бы не Великая Октябрьская социалистическая революция, которая, по выражению Вл. И. Немировича-Данченко, как прожектор, ярко осветила пути русского революционного искусства. Отсутствие ясного мировоззрения было причиной усиления политической близорукости руководителей театра по отношению к Достоевскому, докатившемуся в свое время до союза с победоносцевской реакцией. Театру все еще казалось возможным отсечь от романа политически реакционный материал и сохранить для сцены его якобы "обезвреженную" художественную ткань.
Письмо Горького выросло в большое политическое событие. Общество было взбудоражено. Горький решительно бичевал сторонников аполитичного искусства. Он писал: "Пред нами – огромная работа внутренней реорганизации не только в социально-политическом смысле, но и в психологическом... Нам больше, чем кому-либо, необходимо духовное здоровье, бодрость, вера в творческие силы разума и воли" {М. Горький. О "карамазовщине". Там же.}. Театр спектакля не снял, опираясь на "высшие запросы духа", и еще раз обнаружил этим свою политическую слепоту.
Качалов понимал, что его творческий труд заранее обречен на неудачу. Ставрогин, этот живой мертвец, был насквозь враждебен органически здоровой, ясной, жизнелюбивой, глубоко гуманной душе Качалова. Образ Ставрогина был задуман Достоевским как образ "сверхчеловека", насквозь опустошенного, сотканного из крайностей бессильной, парадоксальной мысли и побуждений разнузданной плоти, человека, потерявшего себя и зашедшего в тупик. Все в этом образе было до конца чужим Качалову. Его внутреннее самочувствие подсказывало ему, что из роли ничего не вышло. Творческая задача, поставленная перед ним, была неразрешима. Психиатр H. H. Баженов утверждал, что роман "Бесы" без психиатрического ключа почти непонятен. "Неподвижный, не реагирующий на внешние раздражения, с бесстрастно-устремленным куда-то взором, Ставрогин может быть принят за сумасшедшего, но разве тихий сумасшедший интересен для сцены?" – спрашивал рецензент. Без реального жизненного материала актер отступал перед невыполнимой задачей. Оставалось "искусство молчания". Маска скуки и бесчеловечной холодности, манера молчать и слушать оказались достаточными, чтобы некоторые критики сделали вывод, что Качалов в Ставрогине дал "изысканнейший продукт" деградирующей буржуазной "культуры": "Ставрогины даже не замечают, как они ходят по живым людям, смотрят на них, как на дрова в печи, скрывают под утонченностью барина самое холодное, равнодушное презрение ко всему" {Н. Россов. Достоевский в Художественном театре. "Театр и искусство", 1913, No 47.}.
Весной и летом 1914 года Качалов гастролировал в Курске, Воронеже, Тамбове, Козлове, Петербурге, Киеве. В концертах выступал с чтением сцены Грозного и Гарабурды ("монтаж" из трагедии А. К. Толстого "Смерть Иоанна Грозного"), "Альпухары" Мицкевича, стихов Пушкина, Блока, Тютчева. Потом выехал за границу лечиться, вместе со Станиславскими. В Мариенбаде их застало объявление войны. В интересных воспоминаниях К. С. Станиславского и Л. Я. Гуревич {К. С. Станиславский. В немецком плену. "Ежегодник МХТ" за 1943 г.; Л. Я. Гуревич. "Возвращение домой". "Русская мысль", 1914. No 10–11.} подробно рассказана история их возвращения домой. Качалов остро переживал разразившуюся мировую катастрофу, в причинах которой он в то время еще не мог разобраться. Художественный театр сосредоточился в это время на русской национальной классике, не допуская на свою сцену шовинистических пьес. Качалову предстояла большая работа в пьесах Грибоедова и Пушкина.








