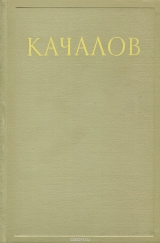
Текст книги "Сборник статей, воспоминаний, писем"
Автор книги: Василий Качалов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 48 страниц)
H. H. ЛИТОВЦЕВА
Если брать на себя смелость делиться воспоминаниями о Василии Ивановиче, то мне хотелось бы говорить не об отдельных его ролях, хотя бы и самых удачных, не о тех художественных образах, которые он создал на сцене, – обо всем этом много уже говорили и писали, и, мне хочется верить, будут еще говорить и писать другие, способные сделать это и тоньше, и лучше, чем я. Еще менее могу взять на себя смелость характеризовать его как гражданина, как сына горячо и глубоко любимой им Родины, как истинно русского человека. Об этом тоже лучше меня могут сказать другие, более авторитетные и беспристрастные люди. Мне хочется рассказать о нем самом вне сцены, дома, не на людях. О нем таком, каким я знала и видела его в течение 48 лет, прожитых рядом с ним.
Думая о нем, стараясь определить его сущность и уяснить себе причины того исключительного влечения к нему – не на сцене только, а и в жизни,– которое я наблюдала у людей самых разнообразных возрастов, положений, характеров и интеллектов и которое сопутствовало ему всегда, я вспомнила речь Василия Ивановича над гробом M. H. Ермоловой, произнесенную им на площади перед Малым театром в день ее похорон.
Он говорил: "Конечно, только маленькая часть этой многотысячной толпы знает и помнит Ермолову на сцене. Почему же такой толпой проходили вы сегодня ночью мимо ее гроба? Почему в последние дни вы окружали и дом, где она жила, и Малый театр, которому она отдала свою жизнь?.. Вы все почуяли и признали, что в ней осуществлялась и осуществилась та гармония, о которой мы все мечтаем и по которой томимся. Гармония – синтез чистейших, светлейших, благороднейших качеств человеческой души и великого артистического, художественного в ней начала... Без этой совершенной гармонии артиста и человека, может быть, и не нужно и не стоит быть ни артистом, ни человеком".
Вот этой гармонией был одарен и Василий Иванович. Он был не только одарен ею от природы, но сознательно и неутомимо культивировал ее в себе, внимательно и строго следя за всеми отклонениями от нее. Бесконечно высоко ценя ее в других, он сам олицетворял ее, был ее носителем.
В нем все было гармонично. И фигура, и рост, и лицо, и голос, и весь его внутренний строй, и самый характер его артистического таланта.
В нем не было ничего требующего смягчения. Ни движения его, ни голос никогда не бывали резкими, видимо, и не могли быть. В самом его существе было прекрасное чувство меры.
Глубоко и сильно любил он свое искусство. Искренно, чисто и бескомпромиссно.
Широко, внимательно, вдумчиво и терпимо относился к людям, причем оценка, отношение к ним Василия Ивановича шли не от их отношения к нему, а от степени значительности их индивидуальности – был ли то ум, талант или талантливость, большой интеллект, оригинальность (отнюдь не оригинальничанье), или большая доброта, или хороший юмор – качество, которое он высоко ценил.
Но никогда ни об искусстве, ни о людях он не говорил патетически, он даже как бы стеснялся своего восприятия, если оно было особенно ярко.
Помню, как во время спектакля "Фауст", в котором он впервые увидел Мефистофеля – Шаляпина, я обернулась к нему и с изумлением увидела его глаза, полные слез. На мой вопрос, что с ним, он сконфуженно и растерянно ответил: "Не могу видеть его ног!" (Шаляпин в этой роли двигался какой-то особой "звериной" поступью, слегка кривя ноги.) И совершенно так же реагировал он на Шаляпина в князе Галицком (в "Игоре") во время его удалой и наглой сцены во втором акте. Тут на мое изумление он ответил, точно извиняясь: "Уж очень талантливо!.."
При огромной внутренней наполненности ему всегда была свойственна столь же большая сдержанность, внешняя и внутренняя, происходившая не от равнодушия, как это могло показаться, а именно от глубины восприятия, не нуждавшегося в преувеличении.
Он очень любил природу, но буквально не выносил громогласного или сладостно-сентиментального ее восхваления с литературными фразами вроде, например, таких: "Посмотрите, как эти нежные листочки четко выделяются на фоне розового неба!" и т. п. От таких восторгов он сразу съеживался, внутренно раздражался и безнадежно замолкал вплоть до перемены темы разговора.
А любил он природу необыкновенно. Помню, как в Швейцарии, куда мы в дни нашей ранней молодости впервые попали, он целыми днями сидел на берегу озера, не отрывая от него глаз, наслаждаясь этим и предпочитая эту радость всем осмотрам достопримечательностей.
По натуре скорее ленивый, он целыми часами мог ходить по лесу, не ленясь наклоняться, чтобы взять попавшийся ему на глаза гриб или подобрать с земли какого-нибудь необыкновенного жука и принести его домой. Помню, как в Барвихе он, уже совсем больной и очень слабый, несмотря ни на какие уговоры, пошел меня провожать, только чтобы заставить меня непременно погладить ствол какого-то недавно привезенного дерева, кажется, японской березы, и самой ощутить при этом то наслаждение, о котором он мне рассказывал.
Но, может быть, еще больше он любил животных. Ему никогда не надоедало наблюдать их жизнь и доставляло огромное удовольствие, сидя на террасе, смотреть, не отрываясь, на белок, с необыкновенной ловкостью перелетавших с ветки на ветку, или следить за дятлом, когда он винтом поднимается вверх по дереву и неутомимо долбит клювом ствол. Котята, собаки, молодые петухи с хриплыми голосами – все это и умиляло и смешило его. Во время последнего его пребывания в Барвихе я как-то застала его особенно грустным. На мой вопрос о причине он ответил: "Уж очень скучно: собаки здесь не лают, дети не кричат, петухи не поют, только бильярдные шары стукают".
В своей любви к животным он не боялся показаться даже смешным или сентиментальным. Помню, тоже во время нашей ранней молодости, собралась однажды в Кисловодске большая и интересная компания. Среди них К. С. Станиславский, H. H. Синельников, совсем юная Рощина-Инсарова и другие актеры, актрисы, художники и просто молодежь. Константин Сергеевич и Синельников, как старшие, ехали в коляске, все остальные верхом. Сзади всех, почти шагом плелся на своей кобылке Василий Иванович, вообще очень хорошо ездивший на лошади. Все веселились, гонялись друг за другом, скакали наперегонки. Он не принимал в этом никакого участия, отставал все больше и больше, раньше всех повернул обратно и исчез. Когда на обратном пути мы его наконец нагнали уже в Кисловодске, то увидели такую картину: лошадь его стояла как вкопанная, а под ней путался крошечный жеребенок, он сосал, лошадь тихонько ржала, а Василий Иванович, сидя на ней, курил в чудном настроении. Над ним смеялись, острили, но его это нисколько не смущало.
Еще большее место в жизни Василия Ивановича занимали дети. Он очень любил их, и они любили его. У них с ним бывали длительные беседы, которыми Василий Иванович, вообще довольно ленивый на разговор, никогда не тяготился. Наоборот, они доставляли ему большое удовольствие. Придя после такой беседы домой, он очень охотно и с подробностями рассказывал о ней. Он никогда не "занимал" детей, не приноравливался к ним, и, может быть, от этого они чувствовали его равным себе, относились по-товарищески. Подробно допрашивали о его вкусах и поведении, с полной готовностью рассказывали о себе. Требовали очень точных ответов. Как-то раз он пришел, озадаченный вопросом, на который не сумел ответить. Один мальчик, узнав, что он идет на урок к молодым актерам, которых будет учить играть (Василий Иванович преподавал тогда в драматической школе Адашева), спросил: "Что же, ты сам уж так хорошо умеешь играть, что даже других можешь учить?" Но далеко не все дети радовали его, и не всех он любил. Дети, лишенные непосредственности, ломаки, капризные и избалованные, раздражали его. Так же, как и дети, лишенные юмора. Вообще отсутствие юмора в ком бы то ни было, взрослом человеке, ребенке или животном, являлось в его глазах существенным недостатком. "Скучный, не смешной!" – говорил он иногда про нового знакомого.
Зато наличие яркого юмора, сознательного или непосредственного, всегда было для него источником большого удовольствия. Хороших рассказчиков, вроде, например, Л. А. Сулержицкого (так называемого Сулера – любимца Толстого, Чехова и Горького), или M. M. Тарханова, или наших талантливых имитаторов В. В. Лужского, Б. Н. Ливанова, П. В. Массальского, он мог слушать без конца и так наслаждался, так смеялся, что заражал и других слушателей, усугубляя успех исполнителя.
И сам он обладал хорошим чувством юмора. Он прекрасно рассказывал. У него был целый цикл юмористических воспоминаний и рассказов о его родственниках из так называемого "духовного звания", из которого он происходил. Любил рассказывать о временах своего студенчества и о молодых годах богемной, полуголодной, беспорядочной актерской жизни на периферии, или, как тогда говорили, "в провинции".
Чувство юмора не покидало его даже в самые мрачные периоды его жизни. Во время предпоследнего его пребывания в Барвихе, весной 1948 года, туда приехала О. Л. Книппер-Чехова. Она плохо себя чувствовала, и это приводило ее в мрачное, подавленное настроение. Василию Ивановичу очень хотелось ее развлечь, и он, любивший кино, упорно уговаривал ее пойти с ним на просмотр очередного фильма. Она наотрез отказалась, и он пошел один. Но картина так ему понравилась, что при первой возможности он спешно вернулся к Ольге Леонардовне и, несмотря на ее отказы и сопротивление, почти насильно повел ее с собой. Она сердилась, упрекала его в жестокости, почти плакала, но он неумолимо вел ее под руку и пел: "Были когда-то и мы рысаками... Пара гнедых, пара гнедых!" Не просидели они в зале и нескольких минут, как Ольга Леонардовна действительно отвлеклась, увлеклась и, покосившись на Василия Ивановича, с виноватым видом шепнула: "Я тебе очень благодарна".
Перечитав все то, что мной здесь написано, я вдруг ощутила опасение: как бы у читателя, лично не знавшего Василия Ивановича, не создалось о нем ложного представления, как бы не исказился его образ, превратившись во что-то сладкое, благостное, все приемлющее, неспособное ни порицать, ни возмущаться, ни негодовать. Это было бы совершенно неверно. Были вещи, которые меняли весь его облик, и тогда он мог и гневаться, и порицать, и негодовать. Одной из причин, всегда вызывавшей в нем эти чувства, являлось всякое проявление грубости, жестокости, несправедливости, особенно если оно шло от старшего по положению к младшему. Тут его реакция бывала неожиданно резкой.
Помню, как однажды один из наших больших режиссеров, придя на репетицию в очень плохом настроении, стал вымещать его на актерах, главным образом на молодежи. Василий Иванович долго молчал, лицо его делалось все мрачнее, и после одного из взрывов негодования раздраженного режиссера, воскликнувшего: "Нет, при таком безобразном отношении к делу работать нельзя!", он подошел к нему и очень серьезно и жестко сказал: "Я не понимаю, отчего ты так волнуешься. По-моему, кроме тебя, тут никто не безобразничает".
Или помню еще такой случай. Во время одной из наших поездок происходила очень мучительная и трудная посадка в вагоны. С обычной для актеров беспечностью они явились на вокзал в последнюю минуту, послав заблаговременно все театральное имущество и свой многочисленный багаж с двумя членами товарищества из технического персонала. Носильщиков в то время не было, случайных помощников не оказалось, и к приезду труппы эти два человека, бледные, мокрые, уставшие до изнеможения, еще продолжали втаскивать последние вещи. В это время в вагон вошел один из членов дирекции, элегантно неся свой маленький несессер, и, не найдя на месте одного из своих чемоданов, начал возмущенно упрекать наших «грузчиков» в халатном, недобросовестном отношении к делу.
Тут с Василием Ивановичем, который уже давно мрачно наблюдал все происходящее, сделалось что-то неожиданное... Он вскочил, начал искать по всем полкам, заглядывать под лавки, умоляя "пострадавшего" не волноваться. Он уверял его, что все сейчас будет на месте, что он сам будет искать, требовал, чтобы чемодан был немедленно найден, чтобы искали все: и я, и Ольга Леонардовна, и другие актеры... И такая ненависть, такое возмущение шло от него по адресу требовательного хозяина, что того стало даже жалко.
Такой протест, когда более, когда менее яркий, в зависимости от причины, возникал у него при проявлении всякой грубости, всякого хамства. К нему вполне можно было отнести слова Ольги из "Трех сестер": "Всякая, даже малейшая грубость, неделикатно сказанное слово волнует меня. Я просто не переношу этого. Подобное отношение угнетает меня. Я заболеваю. Я просто падаю духом". Только он не падал духом, а, наоборот, делался активным, иногда злым, даже жестоким.
По натуре Василий Иванович был скорее скрытен, чем экспансивен, и людям, недостаточно его знавшим, мог казаться даже равнодушным или вялым. Его кажущееся спокойствие, его обычная сдержанность происходили не от равнодушия, а, во-первых, от большой застенчивости, а во-вторых, и главным образом, оттого, что он не любил реагировать на мелкие, не стоящие внимания явления. Он точно инстинктивно берег себя и, может быть, бессознательно не хотел тратить данное ему природой богатство по пустякам.
Зато все действительно крупное или прекрасное, что встречалось на его пути, он воспринимал необыкновенно ярко. Я помню, например, его восторженное, почти влюбленное отношение к Н. Э. Бауману в те счастливые для нас дни, когда он жил у нас. Василий Иванович ловил каждую минуту возможности быть с ним. После спектакля он, обычно уходивший из театра после всех, тут спешно разгримировывался и бежал домой, чтобы до глубокой ночи, а иногда и до утра слушать увлекательные и волнующие рассказы и воспоминания Николая Эрнестовича, его мечты и светлые, яркие мысли о будущем, стараясь не потерять минуты общения с ним, точно предчувствуя, что минуты эти считанные. И как мучительно и гневно переживал он его кончину.
А отношение его к искусству и ко всем его ярким, прекрасным представителям! Помню его счастливое, просветленное лицо, когда он смотрел на Н. П. Хмелева в целом ряде его ролей, например в Силане в "Горячем сердце" или Пеклеванове в "Бронепоезде". Во время генеральной репетиции "Последней жертвы" после сцены А. К. Тарасовой в IV акте, особенно трепетно ею проведенной в этот день, он тут же по окончании акта побежал за кулисы, чтобы высказать ей свой восторг и поблагодарить за художественную радость. Увидев впервые А. А. Хораву в роли Отелло, он был глубоко взволнован и, придя домой, сейчас же, немедленно, написал и отослал ему восторженное письмо.
Да разве все вспомнишь?..
А каким радостным, сияющим бывал он в театре или в Школе-студии, когда видел там талантливую молодежь! Ученики первого выпуска Школы-студии в числе других вещей играли старинный водевиль с пением, который так пленил Василия Ивановича, что он несколько дней только о нем и говорил, восхищался и требовал от всех наших актеров, чтобы они шли смотреть эту вещь. И, рассказывая, сам каждый раз приходил в прекрасное настроение.
И всегда он так радовался, если находил что-нибудь интересное и талантливое. Получая бесконечное количество писем от желающих поступить на сцену с просьбой "прослушать", он почти никому не отказывал, и, надо признаться, многие этим злоупотребляли. Почти каждый вечер около девяти часов, после вечернего отдыха, он, если сам не был занят в театре или концерте, кого-нибудь "прослушивал". Но, к сожалению, это редко давало ему ожидаемую радость. Иногда, если посетитель или посетительница были особенно неинтересны или упорны в смысле затяжки посещения, он использовал их как слушателей для проверки новых вещей своего репертуара. Но что говорил он им в таких случаях по поводу их одаренности, я не знаю. Вероятно, как-нибудь заминал свое впечатление, так как не любил огорчать людей, а лгать в вопросах искусства не мог.
Если он был свободен и сидел вечером дома, он всегда слушал передачу по радио. Слушал обыкновенно из своей комнаты, так как всегда был чем-нибудь занят: или читал, или готовил что-нибудь новое для чтения, или занимался новой, а иногда и старой ролью. Но сейчас же, как только слышал что-нибудь для него интересное, выходил из своего кабинета, садился около приемника и внимательно слушал.
У него были свои любимцы среди чтецов. Он очень ценил А. О. Степанову. Очень любил В. Н. Яхонтова. С огромным удовольствием слушал Д. Н. Орлова, особенно его исполнение "Тихого Дона", и специально включал радио в определенные часы этих передач. Высоко ценил, уважал Сурена Кочаряна и всегда интересовался его репертуаром. Были у него свои любимцы и среди певцов. Помню огромное художественное впечатление, испытанное им от негритянской певицы Мариан Андерсон. Особенно одну вещь, исполняемую ею,– негритянский гимн – он слушал каждый раз с глубочайшим волнением.
Зато и на плохое, безвкусное, на его взгляд, исполнение он реагировал так же ярко. Иногда после какого-нибудь спектакля приходил мрачный, расстроенный или раздраженный, говорил взволнованно, изображая только что виденное, поражался отсутствию чуткости, чувства меры у исполнителей, их безвкусию. Если подобное впечатление производила на него передача по радио, он, послушав немного, уходил из комнаты или выключал приемник.
Больше всего оскорбляли его в искусстве актера всякая сладость, сентимент, пошлость или дурной вкус. "Как они сами этого не чувствуют?! Не слышат?!" – говорил он со страдающим лицом. И так же, только еще сильнее и острее, страдал и терзался, слушая иногда по радио себя самого. Очень редко оставался доволен, а в большинстве случаев расстраивался и унывал до крайности. Иногда приходил почти в отчаяние и тогда сердился и горько упрекал нас, меня или сына, в малодушии, в недостаточно честной критике. "Как же можно молчать? Как можно было не сказать мне, что это так плохо!" – говорил он с горечью и возмущением.
Василий Иванович был и замечательным слушателем и замечательным читателем, очень ярко воспринимавшим прочитанное. Сидя у себя в кабинете, он иногда так заразительно смеялся, что мы приходили узнать, что именно его так насмешило. И он тут же с огромным удовольствием вновь повторял нам только что прочитанное. А часто, если его поражала какая-нибудь интересная мысль, особенно ярко выраженная автором, или волновал особенно талантливо написанный кусок, он сам звал к себе и тут же читал вслух и требовал, чтобы слушающий оценил всю значительность, или мудрость, или юмор прочитанного им отрывка.
Вообще читать вслух то, что ему нравилось, будь то проза или стихи, он очень любил. Иногда он просто упрашивал немедленно прослушать его: ему не терпелось поделиться тем, что его взволновало.
И как мучительно больно вспоминать теперь, что бывали случаи, когда ему в этом отказывали из-за какого-нибудь неотложного или только казавшегося неотложным дела! Как страшно, что ничего нельзя вернуть.
Даже совсем больной, лежа в Кремлевской больнице, он никогда не жаловался на вынужденное одиночество, на безнадежную скуку, а каждый раз рассказывал своим посетителям о чем-нибудь новом, прекрасном, что он впервые прочел или только теперь по-настоящему оценил. Он читал это вслух и был доволен, если его восхищение понимали и разделяли.
Читал он очень много, и кого из писателей любил больше всех – трудно сказать. У него бывали "приливы" и "отливы". Но это происходило не от разочарования или охлаждения к любимому автору, а скорее от еще более страстного увлечения другим. Так, например, Чехов, которого он безгранично любил и которому никогда не изменял, временами отходил в сторону, и его место занимал Горький, который в свою очередь уступал место Льву Толстому. Полоса увлечения Блоком перемежалась с преимущественным интересом к Маяковскому.
Память у него была феноменальная, и всегда поражало количество читаемого им наизусть. В его огромном репертуаре с одинаковой четкостью сохранялось и то, что он помнил с гимназических лет, и то, что он с необыкновенной быстротой выучивал теперь, почти до последних дней.
И в смысле тонкости, совершенства своего мастерства он рос необыкновенно. Он, никогда раньше не удовлетворявшийся своими достижениями, в последние месяцы жизни читал так прекрасно, что в ответ на глубоко взволнованные похвалы своих слушателей уже не протестовал, не спорил, как прежде, очевидно, сам ощущая всю силу и красоту своего исполнения.
Как больно и обидно, что не было возможности увековечить эти его достижения, его последние творческие радости, согревавшие его и так безгранично много дававшие другим...
В. К. МОНЮКОВ
Пройдут годы, и, вероятно, кто-нибудь из выпускников Школы-студии МХАТ или студийных «старожилов» сумеет, оглянувшись назад, до конца раскрыть и выразить весь глубокий смысл той человеческой дружбы, той подлинно творческой связи, которая существовала четыре года между Василием Ивановичем Качаловым, великим корифеем русского театра, и группой молодежи, делавшей свои первые робкие шаги в искусстве.
Но сейчас, когда каждая ступенька лестницы, ведущей в студию, каждый уголок любой студийной аудитории, каждая фотография студийных альбомов воскрешает в памяти целый вихрь до боли ярких деталей и подробностей, еще очень трудно найти точные слова для обобщения.
Качалов – это еще не "вчера", это все еще "сегодня". И если закрыть глаза и начать вспоминать, – это будут воспоминания сегодняшнего прошедшего дня, а не прошлых лет.
Качалов – это так много значит в личной жизни и театральной судьбе каждого из нас, молодых актеров первого выпуска студии, что сейчас почти неотделимо общее от личного. Но это общее особенно важно, ибо в истории нашей Школы-студии (пока еще краткой) Василий Иванович Качалов – самая первая и самая яркая страница.
1943 год. Первые месяцы жизни только что организованной при Художественном театре студии имени Вл. И. Немировича-Данченко. Небольшая группа молодежи, посвятившей свою жизнь искусству.
Лестница в несколько ступенек и переход в несколько шагов соединяют помещение студии с Художественным театром... Все мы чувствовали себя первыми жителями нового маленького селения, возникшего у подножья величественной и гордой горы. И мы явственно ощущали атмосферу того (вполне закономерного!) пристального, ревнивого, недоверчивого, сурового внимания, каким встретил новую студию театр.
Мы знали, что иначе быть не могло, что все придется завоевывать результатами своей работы, что право на свое существование нужно будет доказать делом; искренно хотели этого и искренно не знали, сможем ли.
Мы ждали, кто первый придет к нам _о_т_т_у_д_а. И первым пришел Качалов.
* * *
Он пришел не как знатный гость к растерявшимся новоселам, не как хозяин к непрошенным гостям, не как учитель к ученикам. Он пришел просто, как славный человек к заинтересовавшим его людям, как большой, любопытный, доброжелательный и доверчивый художник.
Сел в кресло у столика, надел пенсне и стал рассматривать нас. Смотрел откровенно-пристально, долго. Просил каждого назвать имя и фамилию. Повторял. И было удивительно легко и радостно от этого непринужденного знакомства.
Потом Василий Иванович читал нам. Уставая, просто говорил: "Сделаем перерыв". Садился, пил чай, курил. И снова рассматривал нас...
Стыл недопитый чай в стакане, вился дымок папиросы, а мы, отныне и навеки влюбленными глазами, все смотрели и смотрели на него. И снова было просто, легко и весело.
Потом он еще читал, а перед самым уходом неожиданно захотел проверить, запомнил ли он наши имена и фамилии. Стал проверять. Оказалось, запомнил.
И мы вдруг поняли, что все это не просто так, не случайно, что это важно для него, что сегодня произошла не только встреча с великим артистом, а началась какая-то длительная и прекрасная связь, которая сыграет большую роль в нашей жизни. Мы не ошиблись.
Василий Иванович стал частым гостем студии. Каждый его приход был праздником для нас, и праздник этот чувствовался уже с утра. Все уроки, лекции, даже перемены, проходили в ожидании того необыкновенно светлого, радостного, значительного, что должно произойти вечером. Кончались уроки, и мы бросались готовить помещение, где должна была произойти встреча.
Соображали, как расставить мебель, как осветить комнату, как посадить Василия Ивановича, чтобы мы все могли его лучше видеть, а ему не дуло бы из окна. Спорили, кому ехать за ним. Тщетно пытались установить очередность.
Наконец машина отбывала, а оставшиеся, в нетерпении, которое все возрастало, не могли уже находиться в помещении студии; они выходили на лестницу, потом спускались вниз к подъезду и ждали на улице.
Подъезжала машина. Из нее показывались сначала счастливые раскрасневшиеся физиономии студийцев, ездивших за Василием Ивановичем, затем выходил он сам и, приветливо улыбаясь, медленно поднимался вверх по лестнице между двумя рядами молодежи. Снимал в раздевалке пальто и проходил в приготовленную комнату.
По какой-то безмолвной договоренности мы не давали звонков к началу. У наших встреч с ним не было точного начала и конца. Они начинались с того момента, как только мы видели его. Они не кончались и тогда, когда уже поздно ночью, спустившись по лестнице, вновь между рядами рукоплещущих счастливых студийцев, Василий Иванович садился в машину и уезжал.
Мы медленно расходились по домам, вдохновленные, какие-то очищенные, полные им.
Навсегда запомнятся эти встречи и проводы. Неширокая, полутемная лестница. Рядами стоящие счастливые люди, великолепная фигура Качалова, его прощальный приветливый жест, шуршание шин отъезжающей машины, яркие фонари у подъезда МХАТ, шум ночной Москвы...
Бывая на студийных экзаменах, показах, даже "капустниках", Василий Иванович не только запомнил и узнал ближе каждого студийца, – он начал серьезно и внимательно следить за нашим ростом и работой. Радовался успехам, хвалил, подбадривал. Он не переставал интересоваться студийной жизнью и жизнью многих из нас даже когда болел и поэтому не мог бывать в студии. Тогда мы писали ему, а он отвечал, чаще всего устно, через общих друзей, а приходя после болезни в студию, просил показать ему что-нибудь из того, что он не видел.
Так для него специально показывали однажды номера из "капустника". Помнится, он очень смеялся, кое-что просил повторить.
Василий Иванович не был нашим педагогом, не разбирал с нами наших работ, не "учил" ничему. Но само его присутствие вызывало непреодолимое желание играть для него, читать ему и делать это как можно лучше, со всей страстью, отдаваясь целиком. Он так умел слушать и смотреть, что одно его присутствие в зрительном зале успокаивало волнение, вселяло бодрость, смелость, азарт.
Василий Иванович относился к нам не только как к начинающим, неумелым артистам, он умел видеть в нас и даже (не боюсь этого слова) уважать в нас будущих художников, поэтому вскоре наши встречи стали носить характер обоюдных показов, когда он читал нам, а мы – ему.
Он не только приносил нам и показывал свои давнишние, давно не игранные и не читанные вещи, такие, как монолог из "Анатэмы", отрывки из "Трех сестер", монологи Карамазова, сцены из "Леса", но и проверял на студийной аудитории новые, еще не готовые работы, многие из которых он читал нам даже с листа.
И дело не в том, что мы, восхищенные и оглушенные этими, даже еще не готовыми вещами, безмолвствовали, хотя его всерьез интересовали наши впечатления и замечания. Это было проявлением величайшего творческого уважения и доверия, откровением гениального художника...
Самое непосредственное впечатление от качаловского исполнения – ощущение громадного, безмерного жизнелюбия! Горячая, страстная любовь к жизни во всем ее многообразии, во всем ее объеме, цвете, запахе, вкусе! Именно это определяло качаловский репертуар и отличало его исполнение, именно это привлекало его интерес к жизнеутверждающей советской литературе, и в первую очередь к Маяковскому.
И читал ли он Пушкина или Лермонтова, Маяковского или Багрицкого, Тихонова или Щипачева, все это было пронизано одной мыслью, одним чувством, которое не выразишь лучше, чем выразил его страстно любимый Качаловым Маяковский:
Ненавижу
всяческую мертвечину!
Обожаю
всяческую жизнь!
* * *
Весна 1947 года. Радостный шум Москвы в открытые окна, солнечные блики на стенах, на паркете, и непривычная тишина в студии. Торжественный акт открытия государственных экзаменов первого выпуска Школы-студии. Мы встаем. Входят члены государственной комиссии. Среди них – Василий Иванович.
В наступившей тишине директор обращается к Качалову:
"Василий Иванович! Руководство и коллектив Школы просят вас принять пост председателя государственной экзаменационной комиссии первого выпуска Школы-студии..."
Василий Иванович улыбается, делает широкий, обнимающий жест в нашу сторону и просто говорит: "Благодарю..."
И бурными аплодисментами разрывается торжественная тишина, стоя долго аплодируют и экзаменующиеся и экзаменаторы. Где и когда с такой радостью, с аплодисментами начинались экзамены?!
Мы аплодируем Качалову за то, что в самый ответственный, торжественный и последний миг нашей студенческой жизни, он с нами, за то, что именно он даст нам дипломы – путевки в жизнь, за то, что его присутствие делает и экзамен праздником!
Качалов аплодирует нам. Немного задумчиво. Может быть, он приветствует весну, может быть, молодость, а, может быть, начала новых путей, светлое будущее страны, будущее ее театра...
Василий Иванович за экзаменационным столом. Он слушает ответы с таким наивным, всепоглощающим интересом, с таким уважением к отвечающему, что становится неловко, что твой ответ – это лишь факты из истории русского театра, которые положено знать и объяснять, а не твои собственные открытия и исследования.
Но вот плавное течение ответа нарушается, чувствуется приближение какого-то порога, наступает критический момент... Лукавые искорки вспыхивают в глазах Качалова, и он громко говорит экзаменующему педагогу: "По-моему, великолепно, по-моему, достаточно!.."
* * *
30 сентября 1948 года. То, что неотвратимо надвигалось в течение последнего месяца, к чему уже готовились люди, случившись, как громом поразило всех своей неожиданностью.
Умер Качалов.








