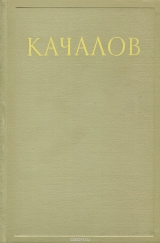
Текст книги "Сборник статей, воспоминаний, писем"
Автор книги: Василий Качалов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 48 страниц)
По замыслу Качалова, труп убитого Цезаря уже находится здесь, подле трибуны Форума, с самого начала сцены (по ремарке Шекспира его вносят позже). И Брут и Антоний, всходя на трибуну, каждый по-своему используют это в своем общении с народом, сочувствием которого им предстоит овладеть. Кажется, нигде так не проявлялась могущественная выразительность качаловской пластики, идущей от внутренней правды образа: достаточно было какого-то особенного жеста его простертой вперед руки с раскрытой плоской ладонью и легкого наклона этой скульптурно красивой головы, чтобы вы почти физически ощутили тело лежащего перед ним Цезаря; довольно было одного широкого и резкого взмаха руки вверх, чтобы вам поверилось, будто она сжимает край окровавленного плаща Цезаря, показывая то место, где пронзил его кинжал Брута.
Качалов не прибегал ни к каким приемам внешнего различия в характеристике Брута и Антония. Контраст его перевоплощения был внутренним, но от этого не менее, а еще более разительным; он сказывался невольно в каждом слове и в каждом жесте. Брут весь – сдержанная сила, простой и цельный, живущий глубокой убежденностью в правоте своих республиканских идей. Без тени притворства или аффектации. И рядом – Антоний: искусный, смелый, ловкий политик-демагог, великолепный _а_к_т_е_р_ огромного темперамента, однако никогда не забывающийся и не теряющий из виду конечной цели своей роли.
Для Брута – Качалова толпа не была разноликой и расчлененной, подлежащей завоеванию постепенно и по частям; ему было не до выражения отдельных лиц в этой толпе: он выходил к народу, чтобы открыть ему свою душу, уверенный, что "римляне, сограждане, друзья" не могут не разделять его республиканских убеждений и ненависти к тирании. Качалов – Антоний с великолепно рассчитанным искусством вступал в борьбу с окружающей трибуну толпой. Его "простота" была наигранной и напряженной. Произнося свою речь, он всем своим существом стремился уловить в толпе желанный отклик, чтобы воспользоваться им для следующего натиска. Речь Брута казалась монолитной, свободно текла единым сильным потоком. Речь Антония была как бы разбита на актерские "куски", она пестрела "красками" и "приспособлениями". В ней были и рассчитанные замедления ритма, вызывающие у слушателей особенную сосредоточенность внимания, и тонкая многозначительность как бы вскользь брошенных подробностей, под которой скрывались главные намерения оратора, и порывы искреннего чувства, еще усугублявшие его притворство.
Обе речи в передаче Качалова были страстны, но природа пафоса была различной. Работая над речью Брута, он стремился к предельной простоте и искренности каждого слова. Ради этого он боролся с риторикой перевода. Интуитивно почувствовав благородный сдержанный лаконизм подлинника, он убирал из перевода все лишние служебные слова, "украшающие" обороты, громоздкие грамматические конструкции. Вот хотя бы один характерный пример:
Перевод А. Козлова (взятый Качаловым за основу своего текста): "Так как Цезарь меня любил, я лью слезы о нем; так как успех улыбался ему, я радовался этому; так как он был отважен, я чествую его; так как он был властолюбив, я убил его".
Текст Качалова: "Цезарь любил меня, и я готов лить слезы о нем. Успех встречал его во всех делах, и я радовался его успеху. Он был отважен, он был доблестен, и я чту его. Но он был властолюбив, и я убил его".
В тексте речи Антония Качалов, допуская купюры, в то же время усиливает выразительность ораторских приемов. В некоторых местах он орнаментирует эту речь риторическими вопросами (вставляя, например, от себя фразу: "Но в чем же властолюбие твое?") и добавочными метафорами. Сравним, например, в конце сцены перевод Козлова –
Ты вспыхнул, бунт! Ты на ногах! Теперь
Прими, какое хочешь, направленье –
с развернутой метафорой Качалова:
Ты вспыхнул, бунт? Ты на ногах?
Так разгорайся же! Теперь
Откуда б ветер ни подул,
Он не загасит пламя!
Эта работа над текстом была у Качалова непосредственно связана с поисками той внутренней характерности обоих образов, которая интересовала его прежде всего, помогая ему в глубоком постижении эпохи и исторического смысла трагедии.
Текст переводов Шекспира вообще редко удовлетворял Качалова. Выбирая для концертного исполнения отрывки из его трагедий, он приходил в результате упорной вдумчивой работы к созданию своего собственного текста, руководствуясь духом подлинника, точностью внутреннего психологического рисунка и "сквозным действием" сцены. В то же время он смело отбрасывал в тексте то, что казалось ему излишним, загромождающим восприятие, уводящим в сторону от основной линии развития конфликта. Он был глубоко убежден в том, что отдельная сцена из трагедии Шекспира в концертном исполнении имеет свои особые композиционные и стилистические законы. Ради предельной ясности, действенности и законченности отрывка он допускал и значительные сокращения, и существенную переработку текста, и многочисленные отступления от формальной метрической точности стихотворного перевода. "Верность Шекспиру" он воспринимал творчески и, не зная английского языка, часто с великолепной интуицией угадывал завуалированные в старых переводах важнейшие особенности стиля автора.
Наиболее последовательной и смелой в этом смысле была его работа над текстом сцены из "Ричарда III", в которой герцог Глостер встречается с леди Анной. В интерпретации Качалова эта сцена превращалась в законченную "маленькую трагедию", предельно напряженный действенный конфликт которой как бы вбирал в себя самые главные черты будущего короля Ричарда III. Здесь все от первого до последнего слова было подчинено раскрытию в действии, в борьбе чудовищного властолюбия Глостера. "Страстное притворство" циничного убийцы, шагающего через трупы своих жертв к британскому трону, было для Качалова – Ричарда и стимулом, и средством, и приспособлением к достижению цели – в этой встрече с исступленно ненавидящей его женщиной, которую ему нужно было во что бы то ни стало покорить.
Но "страстное притворство" Глостера заключалось для Качалова не в каскадах ошеломляющего красноречия, не в блеске нарядных фраз. Он вел свою дьявольскую игру, стремясь овладеть сердцем Анны, с таким воодушевлением и с такой бешеной жаждой победы, с такой обнаженной смелостью, что, казалось, сам порой готов был поверить в искренность своих признаний. Вот почему в тексте этой сцены Качалов был особенно непримирим ко всякому проявлению внешней, украшающей риторики. Ради концентрации действия он считал нужным сжимать этот текст, убирая из него все, что уводит зрителя за пределы данного столкновения (например, подробности, обстоятельства и имена, связанные с прежними преступлениями Глостера). Сохраняя замысел и стиль Шекспира, он хотел, чтобы каждая реплика Глостера была точно нацеленной, неожиданной и разящей. Чтобы добиться этого, он готов был иногда не только отступать от точного соответствия оригиналу количества стихотворных строк перевода, но в некоторых местах заменять пятистопный размер вольными ямбами и даже кое-где прибегать к прозе. Вот, например, начало сцены в характерной интерпретации Качалова. Глостер преграждает путь траурной процессии, сопровождающей гроб убитого им короля:
Леди Анна
Ну, поднимите гроб, несите дальше.
Глостер
Ни с места все, и опустите на землю гроб.
Леди Анна
Кем прислан этот дьявол?
О, как он смеет нам мешать
В святом и важном нашем деле?
Глостер.
Опустите труп, бездельники! Иначе в труп превращу того, кто с места ступит. Стой, когда велит вам герцог Глостер!
В исполнении Качалова вольная передача шекспировского текста не могла показаться недозволенной, потому что она была им насыщена подлинным духом трагедии Шекспира: живой страстью и смелой мужественной мыслью шекспировского масштаба.
Вл. И. Немирович-Данченко часто говорил на репетициях: "Можно построить великолепное театральное здание, заказать отличные декорации, пригласить опытного директора и изобретательного режиссера – и все-таки это еще не будет театр; а вот выйдут на площадь два талантливых актера, расстелят ковер, начнут представление перед публикой – и это настоящий театр". Эти слова приходили на память, когда Качалов играл сцены из трагедий Шекспира на эстраде – на любой эстраде, в Колонном зале или в колхозном клубе – в своем обычном черном костюме, без декораций и бутафории, приковывая к себе тысячи восторженных глаз и невольно создавая вокруг себя атмосферу праздника, торжества искусства.
Работа над сценами из "Леса" и "На дне" ставила перед Качаловым еще более сложные задачи: там один образ уступал место другому, и к нему уже не приходилось возвращаться; здесь, играя две контрастирующие роли одновременно, Качалов должен был несколько раз мгновенно перевоплощаться из образа в образ. Зритель видел в нем и Несчастливцева и Аркашку, и Сатина и Барона.
Работа над "Лесом" осталась в эскизах. Качалов дорожил ими и время от времени к ним возвращался. Два монолога Несчастливцева он когда-то записал на пластинку в виде пробы. Несколько раз сыграл в концертах с М. А. Титовой сцену с Аксюшей, но считал ее для себя неудачной. Очень серьезно и много думал о рели в целом, мечтал сыграть ее в спектакле МХАТ. Для концертного же исполнения он приготовил монтаж – встречу Несчастливцева с Аркашкой из второго акта.
В этой качаловской композиции образ Аркашки отнюдь не был для него вспомогательным. Он привлекал Качалова острой комедийной характерностью, и ему так же хотелось его играть, как раньше хотелось играть роли Епиходова, Репетилова, Чичикова. И совершенно так же при соприкосновении с образом Аркашки сказывалась невозможность подчинить качаловские данные комедийной характерности, создавалось насилие над образом и над собой. Только одна черта Аркашки давалась Качалову без всякого напряжения и была у него до конца искренней, живой: это его влюбленность в театр, настоящая непреодолимая страсть к театру, сохранившаяся, несмотря ни на какие злоключения, неистребимая и по-своему поэтическая.
В сущности, именно эта черта, эта тема и связывала Аркашку с Несчастливцевым в восприятии Качалова. В его работе над образом Несчастливцева были разные этапы. Долгое время он увлекался характерностью "провинциального трагика" старых времен, подчеркивая въевшуюся в плоть и кровь Несчастливцева напыщенную декламационность тона. За этим "романтическим" декламационным покровом Качалов ощущал благородство души и внутреннюю чистоту влюбленного в свою профессию актера-скитальца. В последние годы он все дальше уходил от подчеркнутой внешней характерности Несчастливцева. На первый план выступала неизбывная любовь к театру, преодолевающая безмерную душевную усталость, тяжелый груз скитаний и горечь обид. Из этого преодоления и возникали контуры романтического образа, к которому так стремился Качалов: готовность Несчастливцева продолжать жизненную борьбу, его нерастраченная вера в свои силы и в идеал искусства, мечта о театре правдивых и потрясающих чувств.
В сцене встречи Несчастливцева с Аркашкой все это было у Качалова еще только намечено; из-под его эскиза еще часто проступал прежний рисунок. Таким же незаконченным эскизом осталась и сцена из трагедии "Царь Федор Иоаннович", в которой Качалов брал на себя три роли: князя Ивана Петровича Шуйского (сыграть эту роль по-новому в Художественном театре он мечтал много лет), Бориса Годунова и Федора. В своем первоначальном воплощении этот смелый замысел еще был лишен внутренней цельности, как будто распадаясь на отдельные, иногда очень яркие куски.
Зато подлинной классикой "театра Качалова" на концертной эстраде стал знаменитый диалог Сатина и Барона из пьесы "На дне".
На протяжении сорока пяти лет Барон оставался одной из лучших ролей Качалова, одной из вершин его творчества. В спектакле, прозвучавшем накануне революции 1905 года как приговор великого писателя прогнившему и гнетущему буржуазно-помещичьему строю, роль Барона принесла Качалову громадную популярность в демократических кругах русского общества и мировую славу. С тех пор образ Барона стал неотделим от творческого облика Качалова. Он создал незабываемую трагикомическую фигуру бывшего аристократа, опустившегося на "дно", ставшего сутенером, пьяницей и оборванцем, человека конченного, опустошенного и циничного, человека с дурацкой кличкой вместо фамилии. Нелепо привычные проявления его былой барственности казались в Бароне, каким его играл Качалов, особенно смешными и жалкими. Внезапно прорвавшийся его вопль: "А... ведь зачем-нибудь я родился... а?" и застывший, остановившийся взгляд беспомощных водянистых глаз будили в зрительном зале не сочувствие личной судьбе Барона, а что-то совсем другое. Это было истинно горьковское возмущение "свинцовыми мерзостями" собственнической жизни, которая бессмысленно возвышает и так же бессмысленно бьет и уродует человека.
Успех качаловского Барона был триумфальным. Но важно отметить, что уже очень скоро Качалов стал искать для себя новых путей к творческому воплощению Горького. Ему мало было горьковского гневного отрицания уродливой действительности, ему нужен был весь Горький с его таким же страстным революционно-романтическим утверждением грядущей бури, близкой свободы, с его прямым призывом к революционной борьбе. И когда в 1906 году Художественный театр выехал на гастроли за границу, не желая возобновлять свои спектакли в условиях столыпинского террора, – Качалов стал одним из первых исполнителей "Песни о Буревестнике". Знаменитые слова: "Пусть сильнее грянет буря!" долгие годы звучали как внутренний лейтмотив качаловского творчества.
В советскую эпоху Качалов вновь и вновь обращается к произведениям Горького, к его драматургии и эпосу. Образ Барона на сцене Художественного театра приобретает в его исполнении не только черты совершенного отточенного мастерства, но особенную социальную остроту, подлинную горьковскую мужественность и силу. С подмостков театра Качалов переносит эту роль на концертную эстраду в соединении с репликами и целыми монологами Сатина. В ярчайшем контрасте Сатина и Барона он ищет своих путей к воплощению революционного романтизма раннего Горького с позиций современного советского художника.
На эстраде стол и стул. В коротком пояснительном вступлении Качалов напоминает обстановку ночлежки после разыгравшейся там драмы и исчезновения странника Луки. Среди обитателей ночлежки он как бы прожектором выхватывает и несколькими скупыми, точными словами освещает две фигуры – Сатина и Барона. Присаживается к столу и прикрывает глаза рукой. В следующую секунду – это уже глаза Сатина, ярко загоревшийся взгляд бунтаря и мечтателя, стихийно ищущего свободы. Голос Качалова звучит всем богатством красок, но преобладают в нем низкие, почти басовые, мужественные ноты. Жесты его рук становятся широкими, размашистыми, а когда он встает из-за стола и крупными шагами начинает расхаживать по эстраде, кажется, что он стал еще выше ростом. Весь облик его освещен изнутри какой-то вдохновенной уверенностью, когда он говорит о своей ненависти к утешительной лжи – "религии рабов и хозяев" и требует правды для тех, "кто сам себе хозяин, кто независим и не жрет чужого..." Качалов снова присаживается к столу, наливает в стакан воображаемую водку, пьет, потом поворачивает голову – и вы вдруг видите совсем другое лицо: на ваших глазах оно беспомощно раскисает и становится дряблым, тускнеет взгляд, нелепыми "домиками" поднимаются брови. Вся фигура ссутулилась, руки нелепо вихляются и дрожат, наливая вино. А главное – голос, только что мощный и глубокий, теперь сменился хриплым фальцетом, в котором резко и неприятно выделяются картавые "р". Это – Барон, то снисходительно-нагло похлопывающий по плечу Сатина, то погружающийся в умилительные воспоминания о былом величии своей "старинной фамилии" и смакующий дорогие его сердцу слова: "высокий пост... богатство... сотни крепостных... кареты с гербами... десятки лакеев..." Барон тает в этих воспоминаниях, он привольно разваливается на стуле, "маникюрит" ногти, кладет ногу на ногу и "барственно" ритмически покачивает носком башмака. Но вот Качалов подает себе, Барону, злорадную реплику Настёнки: "Врешь! Не было этого", и "барственности" как не бывало: визгливые крики Барона, предельно вульгарные грубые жесты, противные истерические слезы разобиженного альфонса и пьяницы полны одной только бессильной, пустопорожней злобы. И в ту же секунду снова загораются глаза Качалова беспокойным вдохновенным блеском, энергично сдвигаются брови, гордо откидывается голова. Мощно рокочет, переливается красками и ласкает слух низкий бархатный голос, произносящий бессмертные горьковские слова: "Всё – в человеке, всё для человека! Существует только человек, всё же остальное – дело его рук и его мозга! Чело-век! Это – великолепно! Это звучит... гордо!"
Качалов говорил это, выходя на самую авансцену, с уже не сатинским, размашистым, а своим, качаловским, широким и свободным жестом, рисующим огромность и значительность человека. И казалось, что речь идет не столько о человеке в восприятии босяка-протестанта Сатина, который "может быть, будет работать... может быть!", сколько о Человеке самого Качалова, художника наших дней.
Он еще возвращался к Барону в конце своего монтажа, и снова Сатин – Качалов как бы перечеркивал и заглушал гнусавую, растерянную и жалкую интонацию Качалова – Барона. Но, прожив до конца эти две жизни, он становился в финале сцены уже как бы над ними – художник великой эпохи строительства новых устоев общества, готовый не только осудить собственническую мерзость прошлого и не только по-сатински мечтать о свободе, но и бороться за нее, защищая свободного Человека со всей страстностью гуманизма Горького.
* * *
Облик Качалова на концертной эстраде, праздничный, многогранный, всегда новый и молодой, в последние десятилетия его жизни, казалось, сосредоточил в себе всю силу его творческой мысли и обаяния. Здесь, как и на сцене театра, он был настоящим «инженером человеческих душ», выступая во всеоружии безгранично любимого им великого и могучего русского поэтического слова. Качалов на концертной эстраде – это явление особенное, самобытное и огромное по мощности своего воздействия. Оно знаменательно прежде всего своей новаторской сущностью и потому неотделимо от столбового пути развития советской художественной культуры.
Т. Л. Щепкина-Куперник.
В. И. Качалов в «Снегурочке» А. Н. Островского
"...Мы должны начинать сначала, должны начинать свою родную, русскую школу, а не слепо итти за французскими образцами и писать по их шаблонам разные тонкости, интересные только уже пресыщенному вкусу. Русская нация еще складывается, в нее вступают свежие силы; зачем же нам успокаиваться на пошлостях, тешащих буржуазное безвкусие.
...Драматическая поэзия ближе к народу, чем все другие отрасли литературы.
...Эта близость к народу... удваивает ее силы и не дает ей опошлиться и измельчать... И только те произведения пережили века, которые были истинно народными у себя дома; такие произведения со временем делаются понятными и ценными и для других народов, а наконец, и для всего света".
Эти замечательные слова, написанные А. Н. Островским, написанные как будто бы сегодня, а не семьдесят лет тому назад, он полностью претворял в жизнь как великий национальный писатель.
Он черпал темы для своих произведений не только в современном ему русском быту, в жизни московского захолустья, маленьких приволжских городков, родной деревни, но и в русской истории, вдохновлявшей его на исторические хроники, и, наконец, в русской сказке, в русском фольклоре. Он глубоко изучал народное творчество, из истоков которого возникла такая жемчужина русской драматургии, как "Снегурочка", сохранившая всю самобытность и прелесть народной фантазии и в то же время насыщенная богатством поэтического дарования Островского и его великолепного русского языка.
Тайной леса, благоуханием весенних цветов, "игрой ума и слова" народных шуток и прибауток, широтой и силой то веселых, то задумчивых русских песен овеяна эта чудесная сказка. Недаром она привлекла к себе внимание таких композиторов, как Чайковский и Римский-Корсаков, таких режиссеров, как Станиславский и Ленский. Недаром в последние годы своей жизни угасавшая великая артистка M. H. Ермолова просила, чтобы ей читали вслух "Снегурочку", и находила в ее гармонической цельности радость и успокоение.
"Снегурочка" была поставлена в первый раз в мае 1873 года в Большом театре.
Спустя четверть века после этого два театра в Москве вспомнили "Снегурочку" и решили вновь поставить ее. Это были "Новый театр" – филиал Малого – и Московский Художественный театр. Знаменательно, что два лучших театра Москвы в одно и то же время пришли к этой пьесе. В то время Малый театр изнывал под гнетом макулатуры разных Невежиных и т. п. Публика утрачивала вкус к серьезным пьесам; интерес падал даже к Островскому. Ленский, Станиславский и Немирович-Данченко, не сговариваясь, осознали необходимость облагородить репертуар, возродить на сцене блестящие образцы русской классики и вернуть интерес к Островскому, показав его _н_а_с_т_о_я_щ_е_г_о.
"Новый театр" в то время был новым только по названию – он всецело находился под давлением Малого театра и его реакционного "начальства", Московский же Художественный был действительно новым по своим установкам и идеалам. Во главе "Нового театра" стоял А. П. Ленский, во главе режиссуры Художественного – К. С. Станиславский. Ленский был талантлив, культурен, любил театр так же страстно, как и Станиславский. Оба они вели свое искусство от щепкинского реализма. Но у Ленского были связаны руки, а Станиславский был относительно свободен. Ленский во всем – в вопросах репертуара, расходов, распределения ролей – зависел от "начальства", от распоряжений Конторы императорских театров. Станиславский в содружестве с Немировичем-Данченко в гораздо большей степени мог руководствоваться собственными взглядами и решениями. Конечно, и он находился под гнетом дореволюционной цензуры, но это уж было общее несчастье, да к тому же цензура была милостивее к частному театру, чем к казенному. Внутри своего дела он мог творить и создавать свободно, тогда как Ленскому приходилось бороться из-за каждого пустяка. В истории театра известно, чего стоила Ленскому эта борьба и как он в конце концов не вынес ее...
Такова была разница между этими двумя театрами, не будь которой, может быть, и "Новый театр" сыграл бы большую роль в истории русского сценического искусства, а не ограничился только несколькими блестящими постановками.
Оба театра несколько по-разному подошли к "Снегурочке". Возник вопрос: как надо ставить сказку? Подчеркивать и усугублять ее фантастику, реально показывать нереальное? Или предоставить зрителю дорисовывать собственным воображением не показанное на сцене, как ребенок дополняет слышанную сказку тем, что воображает в это время?
Московский Художественный театр избрал скорее первую линию. При постановке исторических и современных пьес театр, в поисках жизненной правды, "жизненного материала", собирал непосредственные впечатления как основу сценического реализма. Устраивались поездки, экскурсии в разные места, близкие к данной пьесе в историческом или географическом отношении. Так театр подошел и к сказке.
Долго сговаривались, где могут быть границы Берендеева царства, и пришли к заключению, что это должно быть где-то между Вологдой и Архангельском, на севере. Туда и отправилась экспедиция – художники Симов и Сапунов и брат Станиславского Б. С. Алексеев – на поиски "реальности для сказки". Их ожидания не были обмануты.
Добравшись до глухой станции где-то за Вологдой, они поехали лошадьми в глухую лесную деревню. Уже сама поездка по вековечному лесу, по едва намечавшейся в глубоком снегу лесной дороге, на каждом шагу давала талантливому художнику готовые эскизы. Кусты и пни, словно притворявшиеся старухами или лешими, причудливые снеговые шапки на деревьях, серебряные хлопья метели – все это вошло потом в декорации "Снегурочки", так же как и огромные срубы бревенчатых домов деревни, с затейливой деревянной резьбой под крышами и с пестрыми наличниками. Характерные наряды и головные уборы крестьян, утварь, деревянные скрепки вместо гвоздей – все это привезли с собой художники в Москву из края старых песен, былин и суровых нравов глухой лесной жизни. В одной из темных, занесенных снегом старых северных церквей нашел Симов и оригинал своего Берендея – изображение св. Зосимы византийского письма.
"Новый театр" остался в стороне от реализма, пошел скорее по пути билибинских иллюстраций к русским сказкам.
Сколько было по этому поводу споров и разногласий и среди критиков и среди публики! Сравнивали постановку, декорации, музыку (для МХТ ее написал Гречанинов, "Новый театр" оставил музыку Чайковского). Главным образом, конечно, сравнивали игру артистов.
Мне хочется напомнить читателю, что тогда – полвека тому назад – труппы обоих театров состояли главным образом из молодежи: мало кто там был старше двадцати пяти лет. Но это была та молодежь, которая вскоре дала нам такие имена, как Качалов, Турчанинова, Книппер, Москвин, Лилина, П. М. и Е. М. Садовские. Спектакли с участием этих молодых актеров уже и тогда волновали и привлекали зрителя; сравнивали Лилину и Е. М. Садовскую, Роксанову и Юдину, Книппер и Турчанинову иногда в пользу одних, иногда в пользу других, и эти сравнения тоже повышали интерес к спектаклю.
Ярко помню, как встретились в Литературно-художественном кружке два Леля и с улыбкой приветствовали друг друга; помню томные, полные затаенной страсти глаза красавицы Андреевой, напоминавшей в Леле скорее итальянского мальчика с ленивой грацией неаполитанского "ладзарони", и звездные глаза Турчаниновой, с открытым, задорным взглядом озорного "мальчика-пастушонка", загорелого любимца Ярилы.
Но главный интерес спектакля Художественного театра заключался в том, что в этот вечер Москва впервые увидала В. И. Качалова,– и это была "любовь с первого взгляда".
Имя Качалова я услыхала года за два до этого в Петербурге. Один известный критик того времени как-то сказал мне:
– Я недавно видел вашу "Вечность в мгновеньи" (это был одноактный драматический этюд в стихах из эпохи Возрождения, написанный в очень "романтическом" стиле – автору тогда было девятнадцать лет – и исполнявшийся в Москве в Малом театре, причем главную мужскую роль играл Горев, бывший в полном блеске своего таланта).
– И что же? – заинтересовалась я.
– Играл совсем юный актер, Качалов, только с университетской скамьи, и не уступил Гореву!
Такое мнение исключительно строгого критика невольно запомнилось мне, и память отметила имя: Качалов.
Видеть его мне тогда не пришлось: он в это время уехал играть в провинцию, в Казань, где постепенно занял видное положение в труппе антрепренера Бородая, увидевшего в нем будущего "премьера". Я не буду повторять здесь рассказ самого Василия Ивановича о том, как он был приглашен из провинции в Художественный театр, о неудаче его первого, закрытого дебюта, о неожиданном предложении Станиславского сыграть роль Берендея в "Снегурочке" и о восторженной оценке, которую он дал Качалову в этой роли уже во время репетиций. Читатель найдет этот рассказ в автобиографии Качалова, которая не раз печаталась и входит в состав настоящего сборника. Но я была на первом представлении "Снегурочки" в Художественном театре – на этом историческом в жизни Качалова спектакле – и помню его.
Помню впечатление от пролога – неожиданное, не похожее на спокойно-сказочное настроение пролога в "Новом театре". В деревьях и кустах сказочного леса трудно было угадать фантастически одетых и загримированных актеров. Метель, сугробы снега (как я потом узнала, изображавшиеся грудами соли). Звуки леса: завывание ветра, скрип ветвей, оханье филина – сливались в странную музыку. Помню Лилину – Снегурочку, как белый пушистый комочек катившуюся со снежной горки и игравшую с медведем, которого необыкновенно живо изображал актер, как потом говорили, долго наблюдавший в зоологическом саду все ухватки и повадки медведей.
Все это занимало и даже как-то отвлекало от текста. Каждую минуту на сцене происходило что-то необыкновенное: то вдруг оживали сухие деревья и становились тощими лешими, то кусты превращались в толпу маленьких лешенят, мечущихся из стороны в сторону, точно от порывов ветра, то сыпался густой снег...
Сказка шла своим чередом. Началось второе действие.
Недостроенные палаты царя Берендея. Еще не везде сняты леса, идет роспись дворца; два старца-богомаза висят под потолком в своей люльке, пугая сидящую в зрительном зале знаменитую артистку О. О. Садовскую, которая потом признавалась, что ни о чем не могла думать и ничего не слыхала – так боялась, что они свалятся.
На сцене придворные, шуты, гусляры, домрачеи в пестром смешении музейных костюмов, а на возвышении в золотом кресле сидит царь Берендей, среброкудрый старец в сияющих одеждах, и расписывает кистью колонну. В такой же пестрый узор, как краски, сливаются и звуки: торжественное пение слепцов, наивные мелодии жалеек, свирелей, глиняных дудок, деревянных палочек, шутки и прибаутки скоморохов, развлекающих царя, шум, смех... И вдруг в эту пеструю гармонию вступила несравненная мелодия. Как я писала впоследствии – приходится повторить это сравнение, потому что другого не подберу, – словно густой мед пролился, словно великолепная виолончель прозвучала: это был голос Качалова, который впервые услыхала Москва. Этот голос радостно отозвался в сердце каждого, кто присутствовал в этот вечер в зрительном зале Художественного театра. Вряд ли кто и слышал, какие были первые слова, произнесенные им, только ощутили обаяние несравненного голоса.
Эту минуту можно сравнить разве только с той, когда Москва впервые услыхала голос юной Ермоловой.
Я еще застала многих присутствовавших на первом выступлении артистки в роли Эмилии Галотти в одноименной пьесе Лессинга. Роль Эмилии начиналась с того, что она вбегала на сцену со словами: "Слава богу, слава богу, я в безопасности!" И вот мне рассказывали бывшие на этом спектакле, что когда прозвучал голос Ермоловой, как глубокий, гармоничный удар серебряного колокола, дрогнуло сердце зрителя... Это впечатление было тем зерном, из которого потом выросла любовь зрителя к артистке. В одной фразе, произнесенной этим удивительным голосом, было все – и жизненная правда, и глубина чувства, и трепет волнения.








