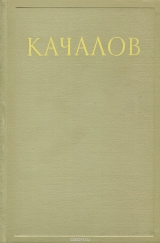
Текст книги "Сборник статей, воспоминаний, писем"
Автор книги: Василий Качалов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 48 страниц)
На своем творческом вечере в Доме актера 22 октября В. И. играл сцену из "Бориса Годунова" "Келья в Чудовом монастыре". Качаловский Пимен прозвучал как социально заостренный образ, в котором можно было проследить все этапы биографии этого страстного воина, в старости ставшего летописцем. Интерпретацию пушкинского "Пророка" многие считали вершиной качаловского мастерства. Финал стихотворения звучал ударом колокола. "Думается,– писал рецензент,– не было в зале человека, который не ощутил бы в этот момент особенного трепетного чувства, которое трудно и даже невозможно объяснить словами, как невозможно подчас передать словами впечатление от музыки".
После концерта состоялось чествование Качалова (в связи с его 70-летием) театральной общественностью Москвы.
НЕЗАВЕРШЕННЫЕ РАБОТЫ
1 ноября 1945 года во время репетиции «Ивана Грозного» скончался Н. П. Хмелев, дарование которого так горячо ценил Качалов.
"Я ощущаю безвременную кончину Н. П. Хмелева, – писал В. И. в "Советском искусстве" 2 ноября, – как огромную утрату Художественного театра и как тяжелую личную потерю. Я так привык восхищаться его чудесным талантом, его растущим и все более поражающим актерским мастерством, его тонким художественным вкусом. Казалось, ему доступно все самое глубокое и самое трудное в нашем искусстве. Я горячо верил, что именно ему еще предстоит сыграть громадную роль в будущем нашего театра, двинуть его далеко вперед, привести к новым победам".
3 декабря в ВТО он открыл вечер памяти Н. П. Хмелева.
25 декабря в ЦДРИ с огромным успехом прошел творческий вечер Качалова (Пушкин, Толстой, Блок, Маяковский, Есенин). В период школьных каникул В. И. выступил в роли "1945 года" в радиокомпозиции "Клуб знаменитых капитанов".
16 февраля 1946 года в Кремлевской больнице умер И. М. Москвин. Качалов лежал в эти дни в другом отделении больницы. Для него это был тяжелый удар, огромная потеря – и в искусстве и в жизни.
В апреле состоялся качаловский вечер в Доме ученых (Толстой, Маяковский). 7 мая В. И. был дважды включен в программу "Дня радио": утром выступал с приветствием, вечером читал.
В середине мая он был награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне". Выступал в частях Московского гарнизона. Играл "Воскресение", "Вишневый сад" и "Враги".
К 10-й годовщине со дня смерти М. Горького подготовил новую работу и записал ее на тонфильм – рассказ "Знахарка". Мало известный широкой публике превосходный рассказ в исполнении Качалова прозвучал с огромной силой. На "горьковском" четверге в редакции газеты "Комсомольская правда" Качалов читал свои воспоминания о Горьком и рассказ "Утро". Играл в МХАТ Барона и Захара Бардина.
Это было первое лето, которое после перерыва военных лет В. И. проводил на Николиной горе. В 1945 году он от этой возможности отказался: "Без Вадима она мне не нужна". На этот раз он прожил на даче больше месяца. Как всегда, много гулял, бывал у соседей, отдыхал на "качаловской скамейке" в саду дачи Кравченко, откуда открывался широкий простор полей, сидел внизу, на бревнах, у самой Москвы-реки. Как-то, сидя высоко над берегом на скамье, окруженной кустарником, он услышал веселый плеск воды, смех, шум купающихся мальчиков-подростков. Со сдержанной силой он вдруг сказал: "А как бы я хотел!" – и замолчал. В это лето в нем жила особенная потребность все сполна взять от жизни, ощутить ее во всех ее могучих проявлениях.
В. И. любил радиорепортаж Синявского о футбольных состязаниях. Он вслушивался, пристально следил за тем, что происходило на стадионе. Когда радиорупор доносил подъем и взрывы настроений толпы или действенное, насыщенное ожиданием молчание, лицо В. И. выражало живой интерес. В его глазах появлялась улыбка, искорки юмора. Так жадно любил он жизнь.
Много читал. Читал большие куски из "Дяди Вани". Этот спектакль заново репетировали в Художественном театре, и по просьбе исполнителей перед концом сезона Качалов прочел им всю пьесу. С особенным наслаждением читал он дома сцены с Серебряковым. У него намечался умный, тонкий и едкий рисунок роли, уже начинавшей звучать с более резкой, испепеляющей силой, чем у Чехова. У Качалова Серебряков оказывался не только самодовольным тупицей, снисходительным трутнем, принимающим, как должное, благоговение окружающих: он вырастал действительно в "идола", занимавшего в жизни чужое место, в человека-куклу с типично профессорской манерой "себя подавать": "Надо, господа, дело делать! Надо дело делать, господа!" Он становился олицетворением общественного явления большого масштаба. Казалось, актер работал щедринской кистью. Это был Серебряков, жертвой которого стали тысячи Войницких дореволюционной России. В качаловском эскизе были все элементы по-индюшечьи раздувшейся "личности", черты злейшего врага настоящих, живых и талантливых людей. Чисто бытовые штрихи не заслоняли острого социального рисунка. В качаловском Серебрякове внимание зрителя не распылялось по мелочам: образ намечался крупно, резкими мазками. Качалов доводил гневную правду Чехова до конца. Думается, В. И. очень хотелось сыграть эту роль. Надо было видеть ту творческую жадность, с какой он накинулся на чеховский материал. И тут же, как всегда, останавливал, сдерживал себя, отказывался от всякой мысли об этой работе, бросал и думать, может быть, не открывал до конца эту мечту даже самому себе.
С 15 августа В. И. месяц лечился в "Барвихе". Много бывал на воздухе. Хотя больших прогулок совершать не мог, но ходил по-прежнему быстро. Как всегда, любил дышать хвоей, наслаждался прозрачными осенними днями, любил следить за треугольником улетающих журавлей. Вспоминал любимые тютчевские строки.
Этой осенью Качалов еще нашел в себе силы побывать в Ленинграде. И на этот раз это было сопряжено с творческим подъемом, о котором по его рассказам о себе можно было только догадываться. Для Василия Ивановича была характерна манера на словах преуменьшать то большое, что в нем возникало, отодвигать его куда-то вглубь. Это была та же качаловская сверхправдивость. А тут он почти не сомневался, что едет в Ленинград в последний раз. И опять встреча с ленинградцами дала ему большую радость и свежесть ощущения своих творческих сил – радость, отравленную сознанием приближающегося конца. Опять он ходил по своим любимым набережным и улицам и "прощался" с ними (как сказал он, вернувшись). "Все было по-качаловски прекрасно, – писал после двух вечеров рецензент "Вечернего Ленинграда". – За неповторимым мастерством артиста чувствовалось нечто неизмеримо большее, чем совершенное актерское умение... Россия, Родина, страна могучая и непобедимая, русский человек, великий духом и силой, твердо верящий в прекрасное будущее и созидающий его, вставали в исполнении В. И. Качаловым стихов". В. И. вернулся в Москву душевно переполненный, но грустный от сознания уходящих физических сил. Обещал приехать в ноябре на юбилей Мичуриной-Самойловой, но не решился.
14 октября В. И. получил письмо от Бориса Лавренева: "Дорогой Василий Иванович! Позвольте сердечно поблагодарить Вас за участие в работе по литмонтажу "За тех, кто в море!". Это для меня большая радость. Я не умею говорить любезности, да они Вам и ни к чему. Вы и так знаете, что Вы – Качалов, а это имя в русском театре стоит "aХre perennius", и для каждого драматурга участие Ваше, в той или иной форме, в осуществлении его произведения в высшей степени отрадно".
Еще весной В. И. мечтал подготовить для радио литмонтаж "Герой нашего времени". Он просматривал материал, однако по-настоящему это даже не пошло в работу. Но что жгло его – это рассказ Л. Н. Толстого "Холстомер". Перед ним вставала задача, которую он сразу счел неосуществимой, но отказаться в первый момент от этой работы он тоже был не в силах.
Предчувствие близкого конца иногда по-особому окрашивало мысли и чувства Василия Ивановича. По-видимому, в нем жила потребность со всей доступной ему простотой выразить боль расставания с жизнью. Как-то утром совершенно неожиданно он прочел сцену смерти Холстомера. Это было страшно: казалось, он "видел", он почти "осязал" _с_в_о_ю_ смерть. Впервые прозвучали какие-то новые качаловские интонации: почти бесстрашная обнаженность, безжалостность мысли, – то, чего раньше в его работах в такой степени никогда не было. В его восприятии Холстомер был (как и для Толстого) человеком. Великолепное толстовское творение для такого художника, как Качалов, было предельно влекущим. Оно требовало не меньшей обличительной проникновенности, чем роль "От автора" в "Воскресении". Холстомер и Серпуховской – это не лошадь и человек, а два человека контрастного общественного положения и разной внутренней сущности. Творческий гений Толстого требовал от исполнителя бестрепетной правды. Картину медленного и мучительного умирания Холстомера Качалов давал на той грани, где бесстрашная творческая жестокость соприкасается с тонкой и бережной нежностью. А именно это чувство вызывала в исполнителе беззащитная старость Холстомера, все ее горькие и неповторимые подробности. Зато каким отвращением была овеяна в чтении Качалова мерзкая, животная старость плешивого и распухшего Никиты Серпуховского, промотавшего состояние в два миллиона!
Осенью 1946 года праздновал десятилетие своего существования театральный коллектив МГУ, возникший в свое время с легкой руки Качалова, к которому студенты обратились за помощью.
На вечере в Доме актера в годовщину со дня смерти Хмелева Качалов произнес вступительное слово. Группой театральных работников, занятых организацией научно-творческого кабинета по изучению наследия К. С. Станиславского, В. И. был избран руководителем.
2 ноября он в последний раз играл "Воскресение".
Артисты театра имени Ермоловой и ЦТСА, задумавшие под руководством В. Г. Комиссаржевского осуществить в концертном исполнении комедию "Сон в летнюю ночь" Шекспира, пригласили в качестве "ведущего" и комментирующего действие В. И. Качалова. Он читал два монолога: первый – как эпиграф к постановке и второй – как заключение. Музыка Мендельсона в этой композиции звучала гимном молодости и силам природы. Композиция с успехом прошла несколько раз в Колонном зале. В "толстовские" дни В. И. читал фрагменты романа "Воскресение" в Доме актера, в Октябрьском зале, в Литературном музее.
24 ноября в последний раз шел спектакль "На дне" с участием Качалова.
В связи со 125-летием со дня рождения Некрасова В. И. был введен в юбилейный комитет.
Новый – 1947 – год В. И. встречал, как обычно последнее время, у О. Л. Книппер-Чеховой. 15 января выступил в первой радиопередаче "Пушкинских чтений" с фрагментами из "Руслана и Людмилы". В конце января была записана на пленку сцена из "Леса" – встреча Несчастливцева (Качалов) с Аркашкой (В. Я. Хенкин). Подорванное здоровье лишило Василия Ивановича возможности сыграть эту роль в спектакле МХАТ в 1947 году. В феврале он выступил перед студийцами Театрального училища имени Б. В. Щукина.
На эстраде в советские годы Качалов почти не читал Лермонтова. Но на пластинку были записаны "Смерть поэта", "Мцыри", "Воздушный корабль", "Дары Терека", "Узник", "Сон", "Я не унижусь пред тобой" и др. Некоторые пластинки совершенно искажали чтение (например, одна из записей "Дары Терека"), но перечитать их В. И. не собрался. Уже в последний год жизни он как-то из Кремлевской больницы писал: "Вчера два раза слушал себя по радио: в 6 часов Маяковский – это только плохо, а в 11 часов – Гамлет, это просто ужасно". Как-то в Барвихе В. И. прослушал по радио запись своего творческого вечера. Качество исполнения его очень расстроило. Много раз возвращался он мыслью к "Демону", над которым работал со Степановой, к "Герою нашего временя" и "Маскараду". Слушая сцены из "Маскарада" по радио с участием Бабановой, Астангова и Мансуровой, заинтересовался: "Много музыки – и шумной, резкой. Но получил удовольствие, заволновался очень от Лермонтова. Сейчас достал, упиваюсь...".
В первых числах марта была записана на пленку сцена из поэмы Некрасова "Русские женщины": роль княгини Трубецкой исполняла А. К. Тарасова, роль губернатора – В. И. Качалов. В эти дни В. И. читал дома любимые еще с юношеских лет стихи Некрасова "Рыцарь на час" и "Надрывается сердце от муки", подготавливая их тоже для граммзаписи.
В. И. относился с удивительным уважением к любому человеческому труду. В оценке людей, в действенной заботе о них раскрывалась непоколебимая логика его мысли и сердца. Он буквально не выносил, если человека оскорбляли незаслуженно. Особенно трогала его человеческая старость.
"...18-го числа я получила Ваши деньги и письмо, а 19-го опять слегла в больницу". Подобные письма не были редкостью. Это была совсем особая, мало кому известная сторона жизни Качалова. Сюда не допускался никто. Последние лет двадцать (а может, и больше) В. И. помогал деньгами не одному десятку сменявших друг друга стариков и старух или просто больных людей, обратившихся к нему за помощью. Среди них были и те, кого он когда-либо знал, но некоторые просто обращались к нему потому, что далеко шел слух о его легендарной доброте. Так нередко и писали: "Добрый Василий Иванович!" и те, кто ждал от него помощи, и те, кто просто по-человечески его любил. Всякую помощь он оказывал с удивительной легкостью и естественностью, как будто иначе и быть не могло, и с такой же простотой держал это втайне. Зато когда у него прямо спрашивали денег "на покупку коровы" или просили совета, как носить фрак, он оставался равнодушным.
Когда он помогал друзьям, он умел это делать с таким неподдельным юмором и с такой деликатностью, как будто это была веселая и очень смешная игра, о которой не стоит и говорить. Удивительная у него была легкость в этой трудной области человеческих отношений. В. И. владел даром бережного отношения к людям, к детям в особенности.
Он никогда никого не поучал и всегда смеялся, когда в письмах его спрашивали, как жить. Ему вообще несвойствен был назидательный тон, – он чрезвычайно считался со свободой человеческих действий, никогда не вмешивался в чужую интимную жизнь и спокойно отстаивал свое право на свободу. Но пустяки иногда его взрывали. Взрывала всякая ложь, если он о ней узнавал. Он не выносил, когда извращали правду.
– Брехня! Вранье! Меня возмущает... – как-то, вспыхнув, негодующе сказал он, и это волнение не сгладилось и на другой день.
Были в людях качества, которые он категорически не принимал. Как-то за чайным столом кто-то из знакомых упорно жаловался, что брат или племянник, находящийся в трудном положении, просит денег. Недовольный и жесткий тон говорившего, по-видимому, не понравился В. И. Он помолчал, а потом тихо и сдержанно сказал: "Это называется иначе. Это называется – у меня много расходов". Тон у В. И. был отнюдь не поучительный, скорей сконфуженный, но всем стало неловко.
В конце мая В. И. заболел очень тяжелым воспалением легких. Со 2 июня он лежал в Кремлевской больнице до середины июля. Положение было крайне тревожным. Он очень ослабел и медленно поправлялся. Отдыхал на Николиной горе, потом в Барвихе. В сентябре, вернувшись в Москву, стал усиленно и бодро работать. Страна праздновала 800-летие своей столицы.
2 сентября в "Уральском рабочем" была напечатана его статья: "Школа-студия Художественного театра". 2 октября, в день 70-летия M. M. Тарханова, он вместе с ним играл "Вишневый сад". 11 октября в "Советском искусстве" появилась статья Василия Ивановича, посвященная творчеству Тарханова. В середине октября он записал на пленку рассказ Чехова "В овраге". В этом рассказе Качалов любил все, но ему казалось, что длинный описательно-повествовательный текст будет скучен для радиослушателя, тем более, что рассказ не укладывался в одно выступление, а читался в три приема. Он любил встречу Липы со стариком, любил весенний вечер, когда "даже сердитые лягушки дорожили и наслаждались каждой минутой". Особенно любил Костыля, длинного, тощего плотника, который о людях судил с точки зрения их "прочности". Когда на свадьбе Аксинье оторвали на платье оборку, Костыль крикнул: "Эй, внизу плинтус оторвали! Деточки!" Перечитывая разговоры Костыля, В. И. не уставал наслаждаться: улыбка не сходила с его лица, он весь был озарен внутренним светом. Чудесное письмо по поводу этой своей работы получил Качалов из города Вязники от инженера по лесонасаждениям Б. Н. Бычкова, ценившего в чтении Василия Ивановича мастерство передачи русского пейзажа: "Звукоподражание крика лягушки чудесно, но с выпью... С выпью у Вас не вышло... Выпь кричит, уткнув нос в воду. Вода резонирует звук, делает его глухим и далеко разносит, в особенности в полую воду. Глухой крик выпи (б'ух, б'ух) подобен крику в пустую бочку, недаром колхозники и наши лесники зовут эту птицу "бухало".
К 30-летию Октября В. И. в "Литературной газете" вспоминал свою первую встречу с советской драматургией: "До сих пор люблю его,– писал он о Вершинине,– с удовольствием и всегда с волнением играю сцены из "Бронепоезда". Образ героя, вышедшего из народа, близок моей душе, и я радуюсь возможности говорить "во весь голос" о великих новых гуманистических чувствах, которыми революция окрылила советского художника". 21 октября рецензент "Красной звезды" писал об "огромном интересе", с которым была прослушана сцена "Берег моря" на тематическом вечере "Партия большевиков в произведениях искусства" (в ЦДРИ).
В юбилейные дни театра Качалов был очень бодр. Утром 27 октября он в театре раздавал почетные значки "чайка", а вечером играл в спектакле "Враги". В этот день он казался на сцене особенно молодым.
29 октября он готовился выступить в сцене из "Бронепоезда" в Доме ученых. Днем в Кремлевской больнице ему просвечивали легкие: открылось подозрительное затемнение. Ему сразу же было запрещено работать, хотя он упорно отстаивал необходимость не срывать вечернего выступления. Самочувствие у него было бодрое, тем сильнее подействовало на него категорическое требование врачей. Он покорился. 2 ноября переехал в Кремлевскую больницу, где начались подробнейшие исследования и консилиумы виднейших специалистов. Был заподозрен рак легкого.
7 ноября в газете "Культура и жизнь" появилась качаловская статья: "С_л_у_ж_е_н_и_е_ _Р_о_д_и_н_е_ – _в_е_л_и_к_о_е_ _с_ч_а_с_т_ь_е". "...Сила советского искусства – в его глубоком и заразительном оптимизме, в его органической связи с жизнью народной, в его смелой боевой целеустремленности. Такое искусство способно и радовать и воспитывать зрителей".
ПОСЛЕДНИЙ ГОД
"...Жизнь люблю, самый процесс жизни люблю.
И не понимаю, и не принимаю смерти".
1933 год. Из письма.
"...Я все надеялся, что со старостью эта
жадность и привязанность к жизни будет
затихать. И мне казалось, что чем дольше
будет длиться моя старость, тем легче и
спокойнее перенесу умирание. А вот за этот
год утратил эту надежду... Чорт знает до чего,
иногда прямо до слез не хочется умирать!"
1945 год. Из письма.
Последний год жизни Василия Ивановича – тема для всех непосильная. Одно совершенно несомненно: беспрерывный (вопреки болезни), идущий до последних дней жизни, поражающий умственный и творческий рост Качалова не мог не ощущаться всеми, кому так или иначе посчастливилось прикоснуться к его душевным просторам.
Пока можно только попытаться вспомнить, что и как читал он во время болезни.
Он был уже в Кремлевской больнице, когда пришло письмо от молодого актера В. И. Морозова, фронтовика-орденоносца (Одесса). Он прислал фотографию Качалова, вырезанную из журнала "СССР на стройке". С этой фотографией семнадцатилетним мальчиком Морозов пошел на фронт и пронес ее от Сталинграда до Варшавы. Несколько раз он был тяжело ранен, временно терял зрение и слух. Когда-то он услышал, как голос Качалова по радио сказал: "Буря! Скоро грянет буря!" С этими словами Морозов дрался у стен Сталинграда, форсировал Неман и ворвался в Варшаву. "Нельзя описать то высокое преклонение и ту огромную любовь, которыми окружает Вас наш великий русский народ,– писал он.– С чувством гордости за этот народ, с душой, переполненной теми же чувствами, пишу я Вам это письмо".
Уже в ноябре 1947 года по Москве распространился слух, что у Качалова рак легкого. Многим из старых зрителей хотелось успеть поблагодарить его за радость, которую давало людям его искусство. Он получал взволнованные, но сдержанные письма. Вероятно, понимал их скрытый смысл, но молчал, только просил за него ответить.
Радиопередача чеховской повести "В овраге" вдохновила какого-то старого москвича – он прислал сердечное письмо и стихотворение "Слушая Качалова...", которое начиналось так:
Сегодня вечером у микрофона
Вновь зазвучал чудесный голос твой,
И слушала тебя страна родная,
Василий Иванович Качалов дорогой!
Почти одновременно пришли письма от группы врачей, от группы инженеров. Там были строки: «Оглядываясь назад, мы понимаем, насколько беднее была бы наша жизнь, если бы у нас не было Вас, Вашего огромного талантища. С Вами было ярче, интереснее жить и радостнее трудиться. Многим, что было и есть в нас,– и в нашей жизни, и в нашем труде,– мы обязаны Вам, дорогой наш, любимый горячо, преданно вот уже более 30 лет. Спасибо Вам, большое русское спасибо от всего сердца!»
Когда уже весной Василию Ивановичу прочли воспоминания Олега Фрелиха о роли Качалова в истории формирования русских актеров более молодого поколения, В. И. сдержанно сказал: "Как некролог – неплохо".
После трех месяцев лечения в "Барвихе" он переехал к себе на дачу на Николину гору. Как-то, идя по шоссе, он был остановлен совершенно незнакомым шофером. Увидав Василия Ивановича, шофер повернул машину и подъехал к нему.
– Василий Иванович! – сказал он взволнованно.– Вы здесь... Как мы о Вас беспокоились!
Качалов был очень тронут.
Совсем особенную, очень личную и очень взволнованную любовь к Пушкину и Льву Толстому В. И. пронес до последнего дня жизни. Весной в "Барвихе" он часто читал пушкинскую лирику – "Памятник" и "Погасло дневное светило" – совсем по-новому. В один из больничных периодов последних лет он писал: "Читаю эпилог "Войны и мира" – с трудом, но кое-где и с восторгом. И не только эпилог, а что попадется. Пожалуй, это больше всего скрашивает жизнь – Толстой вообще". Тогда же он восхитился каким-то толстовским письмом: "Вроде как еще раз залюбовался на этого мужчинищу – почти в 70 лет так чувствовать! Это еще больше, чем в 82 завопить: "Я жить хочу! Я хочу свободы!"
Из своих современников Качалов тяготел больше всего к Чехову и Горькому, Блоку и Маяковскому. К Чехову относился с большим восхищением художника, но без той "потрясенности", которая сопровождала его любовь к Пушкину и Толстому. В. И. очень ценил горьковское отношение к жизни, его язык, его юмор. И теперь он любил отыскивать малоизвестные рассказы, перечитывать иногда просто отдельные страницы. С улыбкой возвращался он несколько раз к рассказу Горького "Могильщик", миниатюре об одноглазом, лохматом кладбищенском стороже Бодрягине, который любил "утешать самых безутешных". Был он страстным любителем музыки: "Услышу музыку и – словно на дно речное мырну!" Горький подарил ему гармонику, Бодрягин задохнулся от возбуждения и сказал: "Умрете вы, Лексей Максимыч, ну, уж я за вами поухаживаю!" Эта реплика очень веселила Василия Ивановича: он так необыкновенно ценил, так всегда был благодарен за удачное, живое, сочное слово. Занимал его горьковский очерк "Н. А. Бугров". Реплики самого Горького Качалов читал нижегородским баском – любовно и улыбчиво.
Если Чехов ему был весь по душе, весь приятен, то у Бунина он любовался только зоркостью глаза, мастерской лепкой фигур старой русской деревни и провинции, умением творчески видеть и слышать. Но для Качалова, всегда и во всем искавшего гармонию и смысл, были никак не приемлемы ни политические позиции Бунина, ни мрак, безнадежность и обреченность всего его мировоззрения.
В последние годы во время длительных периодов заболеваний В. И. брал иногда из библиотеки санатория томики бунинских рассказов 900-х годов и искал в них какие-то крупицы "жемчугов". Он отыскивал и впитывал свое, близкое ему, оптимисту: зарисовки отдельных сцен, силуэты, даже отдельные сочные фразы – и заливал все это своим солнечным светом, накладывая _с_в_о_и_ краски, находя _с_в_о_и_ интонации, любуясь здоровым зерном отдельных персонажей. Так, восхищаясь талантливостью русского мужика Захара Воробьева (героя одноименного рассказа Бунина), он как бы вынимал его из рассказа, по-своему распределял свет и тени, находил то, что ему было ценно: размах, мужество, широту. Старуху-нищую пронес Захар однажды пять верст. "Да об этом даже и толковать смешно: он бы мог десяток таких старух донести куда угодно!.. Ешь солому, а хворсу не теряй!.. Ах, хорошо! Хорошо жить, но только непременно надо сделать что-нибудь удивительное!" Нравился Василию Ивановичу юмор рассказа "Будни". Омешила его фигура "бывшего человека", этакого напористого Епиходова, лишенного всякой лирики, Епиходова-навыворот, болтуна и враля, который способен был с кем угодно рассуждать и о театре, и о "главном запевале", и о хозяйстве, и о женщинах. Если попадалось Качалову в бунинском рассказе отвратительное человеческое уродство вроде Горизонтова («Чаша жизни»), который свой собственный скелет в Московский университет ехал продавать, то в исполнении Василия Ивановича образ получался по-щедрински страшным.
В самом начале болезни он читал "Воспоминания" В. В. Вересаева. Прочел целиком, "с интересом, а местами и с большим удовольствием. И гимназия, и романы, и студенческие годы, и первые шаги писательские, и позднейшие годы – Л. Андреев, Лев Толстой, Короленко, "Русское богатство", Михайловский – все, почти все интересно",– писал он.
В трудные дни, когда ему вводили в бронхи пеницилин, он терпеливо читал огромную "Угрюм-реку". Вообще Шишкова за "Емельяна Пугачева" он очень ценил. И здесь ему кое-что нравилось, но, дочитав до конца, он вдруг обиделся: "В общем здесь, по-моему, Шишков – не первый класс. Много мест почти неприличных – по отсутствию умения и вкуса".
В Кремлевской больнице В. И. очень пленила вышедшая в Детгизе "Мещорская сторона" К. Паустовского. Года за три до этого он с большим удовольствием прочел его автобиографическую повесть "Далекие годы". Природа всегда занимала особое место в душе Качалова. Проникновенно и просто нарисованный художником мещорский край взволновал его. "Прелестно!" – сказал В. И. об этой книжке. Нравились ему образы людей из народа, стариков. С улыбкой изображал он косматого деда, который жаловался, что из-за "торчака" (скелет ископаемого ирландского оленя), найденного в болоте, "старикам теперь кости ломают" (гоняют в город, в музей). С юмором перечитывал В. И. странички о Степане (по прозвищу "Борода на жердях"): "Жить бы нам и жить, Егорыч! Родились мы чуть рановато. Не угадали". Нравились ему сочные места в рассказе Н. Атарова "Начальник малых рек". Торопливо передавая посетителям суть рассказа, он стремился скорее дойти до заинтересовавшей его сцены с "латинистом", бакенщиком Васнецовым. Сидя на больничной кровати, он читал отрывок и даже, как полагалось по тексту, увлеченно пропел первую строфу "Гаудеамуса",– пропел так громко, что было слышно в коридоре. Это было как раз в те дни, когда консилиум виднейших профессоров окончательно устанавливал диагноз его болезни. В "Барвихе" он с таким же самозабвением прочел рассказ Горького директору санатория и лечащему врачу.
За несколько лет до болезни, перечитывая произведение Анатоля Франса, которое В. И. очень ценил,– "Преступление Сильвестра Бонара", он взволнованно исчеркал карандашом книгу. Вот примеры подчеркнутого им: "Человек так создан, что отдыхает от одной работы, только взявшись за другую". "Несмотря на мой спокойный вид, я всегда предпочитаю безрассудство страстей мудрости бесстрастия". "Кто хорошо терпит, тот меньше страдает". "Чувствуешь доверие только к юности". "Я не ощущаю в себе мужества на государственный переворот против начальства над моими шкафами". "Жизнь бессмертна. Вот эту жизнь в непрестанно обновляющихся образах и надлежит любить". В последний год, когда в Кремлевской больнице ему попалась знакомая, "успокоительнейшая" "Сага о Форсайтах", он даже не дочитал первого тома и опять накинулся на наши журналы. Прочел "Счастье" Павленко,– первая часть понравилась больше второй. Прочел "Кружилиху" Пановой с удовольствием, даже посетителям читал отрывки ("Местами неплохо. Конечно, она умная баба"). За год до этого он прочел ее роман "Спутники". С интересом читал письма Кутузова к жене.
Качалов относился к людям независимо от того, как они относились к нему. В этом смысле у него была какая-то своя прочная "точка зрения". Высшая мера недоверия к человеку (в том числе и к писателю) находила у него выражение в словах: "Все врет". На этом обычно кончались его внутренние "встречи" с человеком. Неправды он не выносил. Но если в жизни он был способен иногда в какой-то мере простить человеку ложь ("жаль мне ее, несчастную, больную, не хочется быть откровенным"), то в искусстве он был непримирим.
Зато какое огромное наслаждение он получал от соприкосновения с большой, ясной мыслью! Вот почему с таким нежным восхищением он отнесся к "листкам воспоминаний о книгах и людях" русского арабиста И. Ю. Крачковского – "Над арабскими рукописями". Сразу ощутив в авторе чистого и ясного человека, он был пленен всем его обликом. Любуясь его умным, выразительным лицом, В. И. сказал: "Он совсем еще молодой!" Некоторые главы этой небольшой, но вдохновенной книжки его почти взволновали. Крачковский где-то вспоминал вечер на крыше скромного домика в Сирии, неторопливый разговор с местным учителем о России, о будущем арабских стран, об одном жителе Ливана, завершавшем свое образование в России. "Городок тем временем затих,– читал Качалов.– Луна осветила всю округу, придав ей особую на Востоке таинственность. Мы замолчали, и я с полной отчетливостью вдруг почувствовал здесь, что без России жить не могу и в Сирии не останусь".
В последние годы, когда впечатления жизни стали особенно точны и прозрачны, Качалов изредка читал любимые строки 73-го сонета Шекспира, читал медленно, отчетливо выговаривая слова, словно беседуя, как бы внушая собеседнику мысли и чувства поэта:
...Во мне ты видишь то сгоранье пня,








