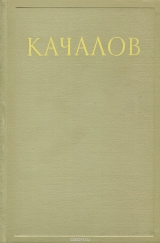
Текст книги "Сборник статей, воспоминаний, писем"
Автор книги: Василий Качалов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 48 страниц)
Ну вот и день прошел, и с ним
Все призраки, весь чад и дым
Надежд, которые мне душу наполняли... –
как будто все еще ждет, что окликнет его бесконечно дорогой ему голос, что промелькнет в дверях быстрая Лиза и шепнет ему на ухо приказ остаться, подождать...
В тоне вежливого, но усталого, скептически настроенного человека вел Качалов сцену с Репетиловым и стремительно скрывался в швейцарской, услышав приближение Скалозуба.
Гости разъехались. Из сцены Репетилова с Загорецким и княжнами Чацкий узнает, что его объявили сумасшедшим...
Потрясенный услышанной клеветой, появляется он в темном вестибюле. Слуги уже успели потушить свечи, дом Фамусова готовится ко сну. Это еще сильнее подчеркивает одиночество Чацкого. Качалов не сразу отдается негодованию, он еще старается разобраться в людях, в причине их злобного отношения к нему. Ни на секунду не верит он в участие Софьи в клевете. Это великолепно рисует благородство души Чацкого. Еще раз ищет он оправдания ее обмороку то в холодности, то в излишней чувствительности ее характера. Он ее еще любит. Мягко, почти смеясь, прощая ей все, как маленькой девочке, говорит Качалов о том, что Софья лишилась бы, конечно, так же сил,
...Когда бы кто-нибудь ступил
На хвост собачки или кошки.
И вдруг в темноте, откуда-то сверху, тихий голос: «Молчалин, вы?» Мгновенный отблеск свечи на колонне и мягко стукнувшая дверь...
Взрыв самых противоречивых чувств охватывает Чацкого – Качалова. Сначала удивление, растерянность – "...вся кровь моя в волненьи". Потом последний всплеск любви, последняя надежда, которую он сам же через секунду убивает:
К чему обманывать себя мне самого?
Звала Молчалина, вот комната его.
В небольшом монологе, из восьми строк, Качалов как бы заново проходил весь путь, которым так страстно и так мучительно стремился в этот день к Софье.
Замечательно передавал Качалов те секунды колебания Чацкого, когда, выпроводив своего лакея из передней, он возвращается обратно и не знает, на что ему решиться: взбежать ли прямо наверх или остаться здесь, у дверей комнаты Молчалина. Он совсем не собирается прятаться сначала, он готов провести всю ночь на деревянном ларе (на который он и присаживается на секунду), но "дверь отворяется..." – и он застывает у колонны.
Темнота скрывает его, зритель не видит Качалова – Чацкого. Круг света от свечи выхватывает из мрака сначала только Лизу, потом Лизу и Молчалина, потом Софью, которая тихо спускается по лестнице во время разговора Молчалина и Лизы и становится по другую сторону колонны, у которой стоит Чацкий.
Зритель не видит Чацкого довольно долго, на протяжении нескольких минут. Но присутствие Качалова столь ощутимо в этой сцене, что глаза невольно стараются проникнуть сквозь завесу света и увидеть, чем живет, что испытывает в эти ужасные для него минуты Чацкий – Качалов.
Через десять лет после того дня, когда я впервые увидел Качалова в роли Чацкого, мне выпало большое счастье помогать К. С. Станиславскому возобновлять эту замечательную постановку МХАТ. Сначала Чацкого играли М. И. Прудкин и Ю. А. Завадский. Качалов играл Репетилова. Но, как это часто случается в театре, наступил неожиданно такой день, когда Качалову пришлось почти без репетиций снова играть Чацкого. Я мог из-за кулис следить за его игрой. И когда в только что описанной сцене четвертого акта он встал за колонну, я мгновенно вспомнил свое первое впечатление от Чацкого десять лет назад, свое настойчивое желание увидеть, чем живет, о чем думает скрытый во тьме Чацкий – Качалов, и... увидел.
_Н_и_ _н_а_ _с_е_к_у_н_д_у_ _н_е_ _о_с_т_а_н_а_в_л_и_в_а_л_ _с_в_о_е_й_ _л_и_н_и_и_ _с_ц_е_н_и_ч_е_с_к_о_й_ _ж_и_з_н_и_ Качалов, оставаясь невидимым зрителю, скрытый от него завесой света и колонной. Он, конечно, знал, что его не видит, не может видеть зритель, и все же он _и_г_р_а_л_–_ж_и_л! Он жил всем, что слышал, всем, что видел, что происходило на его глазах. Его губы шептали какие-то слова, его голова то склонялась на опертую о колонну руку, то в мучительном движении снова поднималась, и в глазах его в эти мгновения блестели слезы. Чистые, настоящие слезы, которые далеко не часто навертываются на глаза самых талантливых актеров, вдохновенно творящих свои образы перед лицом сотен зрителей.
А он их проливал _д_л_я_ _с_е_б_я, охваченный той великой художественной правдой искусства, служению которой он отдал всю свою прекрасную жизнь.
Так через десять лет ко мне снова вернулись впечатления юности, только в еще более волнующем и потрясающем исполнении Качаловым роли Чацкого. И только тогда я понял, почему так искренно дрожит голос у Качалова, когда из мрака летит в зрительный зал знаменитая реплика Чацкого: "Подлец!" Понял, почему, нарушая ремарку Грибоедова, Чацкий – Качалов _н_е_ _б_р_о_с_а_л_с_я_ "между" Софьей и Молчаливым, а _в_о_з_н_и_к_а_л_ на фоне колонны и с той же дрожью сдерживаемого негодования в голосе говорил:
Он здесь, притворщица! –
а затем обрушивался на нее со всей силой поруганного чувства: «Скорее в обморок, теперь оно в порядке...» С каждым словом нарастали в нем гнев и бешенство, а последний крик истерзанной души: «Молчалины блаженствуют на свете!» подымал на ноги весь дом. На этот возглас спешил Фамусов со своими слугами, и начиналась последняя сцена пьесы.
Монолог: "Не образумлюсь, виноват..." Качалов–Чацкий начинал после паузы, следовавшей за последними словами Фамусова. Так указано у Грибоедова. Так чувствовал и Качалов.
В своей статье "Качалов – Чацкий" С. Н. Дурылин верно указывает, что обычно все Чацкие произносили этот монолог "в публику", как бы ища своих врагов в зрительном зале, забыв о присутствии на сцене и Софьи и Фамусова, отдавшись всецело декламации, ораторским приемам речи {С. Н. Дурылин. Качалов – Чацкий. Альманах ВТО, 1946, кн. 1 (3), стр. 213.}.
Болью разбитых надежд, несбывшихся ожиданий, глубоким чувством одиночества, горечью оскорбленного сердца и гордостью высокого, чистого разума, освободившегося от "пелены" мечтаний, наполнен был последний монолог Качалова – Чацкого.
Он не обращал его к публике, не выходил к рампе, нет, он оставался, произнося его, в этой полутемной передней столь близкого ему когда-то дома. Он видел плачущую Лизу, притаившегося в своей комнате Молчалина, растерянных, испуганных слуг, ошеломленного всем случившимся Фамусова, застывшую в неподвижности все у той же колонны Софью.
Голос Качалова не гремел ораторским пафосом, но он с такой силой _в_н_у_т_р_е_н_н_е_г_о_ гнева и негодования обрушивался на весь мир
Нескладных умников, лукавых простяков,
Старух зловещих, стариков.
Дряхлеющих над выдумками, вздором,
что последний монолог Чацкого звучал, как беспощадный приговор.
В том, как уходил со сцены Чацкий – Качалов в 1914 году, было уже большое отличие от Чацкого первых спектаклей "Горя от ума" 1906 года. Несомненно, что этот Чацкий начинал "прозревать". Он уже видел те причины своего "горя", которые артисту не удавалось "донести" – показать зрителю первой постановки "Горя от ума" в МХТ.
* * *
Сбылось то, о чем мечтали лучшие русские люди на протяжении столетий. Народ сбросил ярмо царской власти. Бежали из пределов Советской России капиталисты всех мастей, бежали и потомки фамусовых, хлёстовых и загорецких. Великая Октябрьская социалистическая революция вызвала к жизни могучую созидающую силу рабочих и крестьян.
Всеми гранями общественно-политической сатиры засверкало бессмертное произведение Грибоедова на сценах советских театров. Великолепный язык Грибоедова, к образным "крылатым" выражениям которого не раз прибегал в своих сочинениях великий Ленин, стал достоянием народа, того "умного, бодрого нашего народа", о котором с такой любовью говорит устами Чацкого Грибоедов. Сбылись чаяния Грибоедова. Чувство своего национального достоинства стало ведущей чертой характера советского человека. Художественный театр, верный своим общественным традициям, в первый же сезон после большой гастрольной поездки за границу решает снова возобновить "Горе от ума".
"Сегодня мы приступаем к репетициям по возобновлению "Горя от ума", – обращается в 1924 году К. С. Станиславский к актерам, собравшимся на первую большую репетицию. – В фойе уже началась работа с новыми исполнителями, которых мы назначили на ответственные роли в эту пьесу. Я полагаю, что всех нас должен волновать вопрос о том, для чего мы решили возобновить в этом сезоне нашу старую постановку, а также, что в ней будет от "старого" и что от "нового".
Отвечу очень кратко.
Революционный дух грибоедовской комедии полностью соответствует той перестройке нашего общества, свидетелями которой мы с вами являемся каждый день. Грибоедов казнит все косное, мещанское, реакционное в своей пьесе,– так же должны и мы с вами поступать, истребляя в себе и в окружающих нас буржуазные взгляды на жизнь, обывательские привычки и настроения.
Грибоедов поднимает на щит в своей пьесе высокие гражданские чувства к своей родине, к своей нации, к своему народу. Эту же задачу неизменно ставил перед собой Художественный театр. Поэтому мы ставим сейчас Грибоедова.
Что в нашем спектакле будет от "старого", и что от "нового"? Все лучшее. Все лучшее от старого и все лучшее от нового. Если это окажется возможным, мы сделаем еще лучшие декорации и всю сценическую атмосферу для старых исполнителей. Если это окажется возможным, мы еще лучше постараемся передать нашим новым молодым исполнителям те мысли и чувства, которые волновали нас в дни первой постановки "Горя от ума" и которые позволили нам создать в мрачные, тяжелые для России времена спектакль взволнованного патриотического звучания" {Н. Горчаков. Режиссерские уроки К. С. Станиславского, стр. 198–199.}.
Возобновление спектакля в 1924/25 году отличалось четкостью задач идейного характера, поставленных К. С. Станиславским перед исполнителями, из которых многие впервые готовились участвовать в "Горе от ума". Точно был определен К. С. Станиславским и тот реализм сюжета и образов "Горя от ума", который, по его мнению, составлял отличительную особенность грибоедовской комедии. С критических позиций смотрел К. С. Станиславский на первую постановку "Горя от ума" на сцене МХТ, хотя не собирался отступать от той исторической и бытовой правды, которая была найдена театром на предыдущих этапах работы над этой пьесой.
Как уже сказано, Чацкого репетировали, а потом играли в очередь М. И. Прудкин и Ю. А. Завадский. Созданный под руководством К. С. Станиславского этими талантливыми актерами образ Чацкого отличался, в силу индивидуальных артистических качеств и данных Ю. А. Завадского и М. И. Прудкина, от Чацкого – Качалова (в предшествующих постановках МХТ), но каждый из этих актеров решал по-своему интересно, глубоко и ярко своего Чацкого. Партнерами Ю. А. Завадского и М. И. Прудкина по сцене были К. Н. Еланская и А. О. Степанова (Софья), О. Н. Андровская и В. Д. Бендина (Лиза), В. Я. Станицын и А. Д. Козловский (Молчалин).
Много изменений было и в остальном составе исполнителей "Горя от ума".
В. И. Качалову было предложено играть Репетилова. Это соответствовало и традициям русского театра в сценической истории "Горя от ума" (многие известные исполнители роли Чацкого, в том числе Ф. П. Горев, А. И. Южин, переходили обычно "с годами" на роль Репетилова).
Репетилова В. И. Качалов играл, взяв в качестве "зерна" образа болтливость, пустозвонство, скудоумие, легкомыслие – словом, то, что в просторечии называется "балаболкой". По мнению К. С. Станиславского, это качество обозначено, как характерность, в самой фамилии этого персонажа, если ее производить от слова "репетировать" (rИpИter – повторять).
"Будильник, если он исполняет свое прямое назначение, – полезнейший предмет. Но стоит ему испортиться и начать трещать безумолку в любой час дня или ночи – он становится положительно невыносим, – говорил К. С. Станиславский, развивая характеристику Репетилова. – Все время боишься, что затарахтит невпопад, и как его ни тряси, чем его ни накрывай, хоть об стену бей – он не остановится, пока не лопнет пружина. Таким мне представляется Репетилов. Однако он отличается от настоящего будильника тем, что никто и никогда его не видел и не слышал _и_с_п_р_а_в_н_ы_м, приносящим пользу людям. Он и родился, вероятно, уже таким: с испорченным на всю жизнь заводом. Невыносимый тип".
В. И. Качалов старался всемерно выполнить этот рисунок роли. Характеристику Константина Сергеевича он воплотил в живой, полный мягкой иронии образ. Мастерски владея стихом, Качалов действительно сделал из репетиловского текста своеобразную шарманку. Про таких в народе говорят: "язык без костей", "мелет, как заведенный!" Но сентенции Репетилова подавались Качаловым с такой легкостью и таким юмором, личное обаяние артиста было столь велико, что, пожалуй, до той остросатирической фигуры, которая должна была бы вызывать к себе презрение зрителя, Репетилов–Качалов не поднимался.
Что-то мешало Качалову быть беспощадным к своему новому творению в хорошо известной ему грибоедовской комедии.
На одной из репетиций "Горя от ума", которую вел К. С. Станиславский, Качалов спросил Ю. А. Завадского {Из записей репетиций по "Горю от ума" с К. С. Станиславским.}:
– Тебе не кажется, Юра, что ты относишься ко мне, как к Репетилову, чересчур, я бы сказал, внимательно, учтиво, как будто даже с некоторой нежностью?
– Возможно, что это так, – отвечал ему Завадский, репетировавший Чацкого, – но ты, Василий Иванович, такой мягкий, обаятельный, что мне трудно заставить себя осуждать, презирать тебя...
– Что я слышу, – прервал обоих Станиславский, – два актера обмениваются любезностями вместо того, чтобы действовать друг против друга, как им приказывает автор? В чем дело? Вы должны изучать друг друга, как враги, как соперники.
В. И. Качалов. Почему я, Репетилов, должен видеть в Чацком врага?
К. С. Потому что он собирается играть вашу роль.
После небольшой паузы, вызванной неожиданным ответом Константина Сергеевича, Василий Иванович, как-то очень пристально вглядываясь в выражение лица Станиславского, сказал:
– Я не предполагал, что Репетилов настолько умен, чтобы видеть в Чацком своего соперника на общественном поприще.
К. С. А что бы стал делать Чацкий, если бы остался в Москве? Поехал бы в Английский клуб?
В. И. Качалов. Вероятно, поехал бы...
К. С. Выступил бы в кружке князя Григория?
В. И. Качалов. Возможно, что и выступил бы...
К. С. Разнес бы в пух и прах Репетилова?
В. И. Качалов. Если бы не было более подходящего объекта, то обрушился бы и на Репетилова.
К. С. Вот в предчувствии всего этого Репетилов и предпочитает заняться лучше сам "уничиженьем" себя. Чацкий не захочет повторять про Репетилова то, что тот сам про себя наговорил.
В. И. Качалов. Но вы утверждали на одной из репетиций, что Репетилов просто испорченный будильник... мне очень понравилась эта характеристика.
К. С. Но и будильник станет защищаться, когда его захотят выбросить на помойку. Он выпустит все свои пружины, исцарапает вам своими колесиками руку, а какой-нибудь винтик выскочит из механизма, и, чего доброго, угодит вам чуть что не в глаз.
Станиславский произнес всю эту тираду очень серьезно от имени сопротивляющегося будильника, силой его фантазии превратившегося из мертвого предмета в некое живое существо.
Ю. А. Завадский. А разве Чацкий не понимает сразу, кто перед ним? Ведь он и раньше, до своего путешествия, был знаком с Репетиловым. И не мельче ли становится сам Чацкий, если он видит в Репетилове соперника, или даже, как вы сказали, врага, Константин Сергеевич?
К. С. Будьте точны. Я сказал, что для Репетилова Чацкий – соперник, а для Чацкого Репетилов – враг. И никак не наоборот.
В. И. Качалов. Последнее я принимаю вполне. Конечно, для Чацкого Репетилов – враг. Пусть враг не столь сильный по своему положению, как Фамусов или Скалозуб, не столь упорный в достижении своих реакционных целей, но враг. Меня больше всего "грела", как мы говорим, в этой сцене фраза Чацкого: "Вот меры чрезвычайны, чтоб в зашей прогнать и вас, и ваши тайны". Ты согласен со мной, Юра?
Ю. А. Завадский. Сказать по правде, для меня еще эта сцена с Репетиловым лишняя. Какая моя задача в ней? Жду кареты...
В. И. Качалов. А я очень люблю эту сцену, потому что она позволяет Чацкому, как бы на законном основании, продлить свое пребывание в доме Фамусова и дает мне возможность, незаметно для Репетилова, бросить взгляд наверх – не покажется ли Софья...
К. С. Вы совершенно правы, Василий Иванович. Чацкий все еще надеется на "чудо". Ждет, что к нему выйдет Софья.
Ю. А. Завадский. Разве не важнее _т_а_к_ слушать Репетилова, чтобы для всех, кто смотрит эту сцену, стало ясным отношение Чацкого к этому ничтожеству?
К. С. Во-первых, для Чацкого это не ничтожество, а воинствующий пошляк, мещанин мысли...
В. И. Качалов. Простите, что я вас перебиваю, Константин Сергеевич, но я хочу тебе предложить, Юра, ждать Софью, а за это ожидание расплачиваться необходимостью слушать репетиловское вранье. И, с точки зрения Чацкого-общественника, пусть это будет дорогая цена за ожидание "чуда". Тогда у тебя соединятся обе линии: и влюбленного и трибуна общественной мысли.
Ю. А. Завадский (несколько иронически). Влюбленный трибун!
В. И. Качалов. Да, тысячу раз да! Я понимаю тебя – это очень трудно. Я пытался быть таким Чацким и в первой постановке и при возобновлении в 1914 году. Говорят, что-то у меня выходило, а что-то не получалось. Мне иногда казалось, что ничего не получалось, а иногда я был, не скрою, доволен собой. Но сейчас, сегодня, перед новым зрителем, надо еще раз попытаться достигнуть органической связи «чувствительного», то есть влюбленного, глубоко и горячо чувствующего, переживающего _ч_е_л_о_в_е_к_а_ (подчеркивает интонацией В. И.) и пламенного трибуна, демократа, агитатора за лучшую жизнь, за пересмотр общественных взглядов и вкусов. Это будет в духе современности – в лучшем смысле слова, – современности нашей, советской, большевистской. Как вам кажется, Константин Сергеевич?
К. С. Я полагаю, что вы на верном пути, Василий Иванович... в роли Чацкого... Но играть вам...
В. И. Качалов (перебивая). Да, да, я знаю – Репетилова. Но это я так, высказал свои мысли для них, для наших молодых артистов, моих новых партнеров...
Из приведенной записи репетиции видно, с каким увлечением работал в "Горе от ума" в те дни В. И. Качалов, как необыкновенно внимателен он был к своим молодым товарищам по сцене, как помогал им, вспоминая свою работу над Чацким.
К. С. Станиславский тонко подметил, что, работая над ролью Репетилова, Качалов был больше занят Чацким.
Это происходило и потому, что Василий Иванович считал своей прямой обязанностью старшего товарища делиться всеми своими мыслями, своим опытом с молодыми, только еще вступающими в пьесу артистами МХАТ, и потому, что, отдав так много сил и подлинных чувств работе над "Горем от ума", он, несомненно, не мог еще как актер расстаться в душе с ее главным героем, своим вдохновенным созданием – Чацким. Социальная и человеческая опустошенность Репетилова была слишком противоположна высоким гражданским чувствам и мыслям, еще не воплощенным, не высказанным до конца художником, страстно искавшим именно в эти дни полного органического слияния своих замыслов с требованиями нового зрителя.
Мы знаем, как глубоко воспринял Качалов революцию. Ведь это была та "буря", о которой мечтали, которую так долго ждали его герои. Ненависть к буржуазной идеологии, морали, жажда свободы, вера в прекрасное будущее своей родины, своего народа были для Качалова не только мировоззрением тех персонажей, которые он создавал на сцене в пьесах Чехова, Горького, – это было прежде всего его личное мировоззрение артиста-художника.
Поэтому Качалов нашел для себя в Великой Октябрьской социалистической революции новый источник творчества, поэтому он стремился целиком слиться с новой, советской жизнью, стремился отдать советскому зрителю-народу все накопленное им духовное богатство, все свое артистическое мастерство.
Одним из первых образов, созданных Качаловым после революции, следует назвать Чацкого, сыгранного им в 1925 году, в третий раз на протяжении 30 лет его артистической деятельности. Разумеется, что на этом третьем Чацком не могло не отразиться все, что пережил, передумал, перечувствовал Качалов в первые годы революционной эпохи.
И хотя общий рисунок роли (в оценке событий сюжета, в отношениях к партнерам – действующим лицам пьесы, в мизансценах, в сценическом поведении Чацкого) у Качалова оставался как будто прежним, его новый Чацкий стал еще ближе, еще понятнее нам, чем прежде.
Новый Чацкий – Качалов был по-прежнему лирически нежен в первом акте, но нежность его была мужественна, любовь к Софье – требовательна. Его суждения в сценах с Фамусовым и Скалозубом уже не произносились им с той безмятежностью, которая отличала прежнего Чацкого во втором акте. Его мысли и его чувства зазвучали в этих сценах обличением, страстным социальным укором, но не утратили своего жизненного начала, своей искренности.
Естественно, что Качалов, как советский актер-гражданин, страстно хотел, чтобы мысли и чувства его героев на сцене были проникнуты близким советскому человеку содержанием. Поэтому в новом Чацком он был строже, беспощаднее к порокам фамусовского общества, и в то же время он был гораздо оптимистичнее. Его Чацкий как бы ощутил перспективу будущего своей родины; его слова: "Воскреснем ли когда от чужевластья мод?" и ряд других мыслей Чацкого приобрели особый, пророческий смысл в устах Качалова и неизменно вызывали горячий, бурный прием зрительного зала. Это служило ярким доказательством того, что Качалов достигал в своем исполнении Чацкого непосредственной связи с аудиторией, с советским зрителем.
Особенной силой отличались его монологи четвертого акта. В новом Чацком чувство не исчерпывало, не увлекало за собой весь темперамент актера. Ум с сердцем были "в ладу", составляли гармоническое единство, и от этого сила грибоедовских обобщений приобретала особенно глубокий социальный смысл.
"Горе от любви" первых двух Чацких стало приходить в равновесие с "горем от ума" третьего Чацкого у Качалова.
Но к полному органическому единству этих двух начал в грибоедовском Чацком Качалов пришел еще позже.
В 1938 году, к своему 40-летнему юбилею, Художественный театр решил заново поставить "Горе от ума".
Роль Чацкого была дана Н. П. Хмелеву, Б. Н. Ливанову и М. И. Прудкину, но Хмелев был занят в параллельной постановке, у Прудкина роль была уже сыграна, и Вл. И. Немирович-Данченко работал над Чацким с Ливановым. Качалову же предложили играть в новом спектакле Фамусова: снова на какое-то время взяли верх традиции сценической истории "Горя от ума". Некоторое время Качалов репетировал эту роль, великолепно сознавая правильность такого решения режиссуры спектакля.
Вл. И. Немирович-Данченко предложил взять за основу роли Фамусова слова Софьи о своем отце: "Брюзглив, неугомонен, скор, таков всегда..." Качалову казалось мало этих черт для характеристики грибоедовского самодура.
"...Страшная ограниченность в нем, – говорил он о Фамусове на одной из репетиций,– это человек той эпохи: твердые устои, ограниченность, полуживотное, не человек, а получеловек..." {Запись репетиций "Горя от ума". Музей МХАТ.}. Василий Иванович соглашался с режиссером спектакля Е. С. Телешевой в том, что Фамусов является ярким представителем консервативного мировоззрения, носителем реакционных традиций, и добавлял: "... и косности. А "брюзглив" – может быть только лишней черточкой".
Так он искал в роли Фамусова типических черт характера, исторических и социальных обобщений.
Но, как и в 1925 году, репетируя на этот раз Фамусова, он жил внутренне Чацким. И хотя последовавшее летом 1938 года настойчивое предложение Владимира Ивановича сыграть в дни юбилея МХАТ Чацкого вызвало у Василия Ивановича глубокое волнение и даже сомнение в своих физических силах, он подчинился решению и желанию Немировича-Данченко. В четвертый раз в своей творческой жизни он вернулся к любимому образу.
Начиная репетиции "Горя от ума", Вл. И. Немирович-Данченко в первой своей речи, обращенной к новому составу исполнителей, считал необходимым подвести некоторый итог того, что было сделано Художественным театром за 40 лет.
"Понадобилась Октябрьская революция, – сказал Владимир Иванович, – для того, чтобы в быт, в жизнь, в искусство вдруг ворвался прожектор, ярко освещающий новые идеи, требовавшие взмаха фантазии, смелости, дерзости, – идеи, целиком захватившие нас... Наступил новый период нашего искусства. Актеры начали ярко и сильно жить жизнью революции – той жизнью, которая создавалась кругом. Они так сильно отдавались этой жизни, как не отдавались до революции. И они великолепно начали схватывать огромную разницу между теми влечениями, которые охватывали их в дореволюционном быту, и теми, которые продиктовало им строительство новой жизни. Вот в этом слиянии нашей жизни с новыми идеями начало коваться то искусство, которое мы имеем теперь" {"Вл. И. Немирович-Данченко в работе над спектаклем "Горе от ума", Ежегодник МХТ" за 1945 г., т. I, стр. 348, 349.}.
Эти мысли Немировича-Данченко полностью характеризуют творческие задачи, которые ставил перед собой каждый участник спектакля "Горе от ума" во главе с режиссурой и такими замечательными мастерами МХАТ, как В. И. Качалов, M. M. Тарханов, И. М. Москвин, О. Л. Книппер-Чехова, М. П. Лилина.
Качалов чувствовал огромную ответственность своего нового выступления в роли Чацкого.
Решившись еще раз сыграть Чацкого, он с новым увлечением отдался работе над дорогим ему образом.
Можно не сомневаться, что ему были хорошо известны и письма Грибоедова, и стихи Рылеева, и сочинения Радищева. Великолепно знал и любил Качалов труды Белинского. Мысли Белинского о "Горе от ума" как о "благороднейшем создании гениального человека", которое имеет "великое значение и для нашей литературы, и для нашего общества", встречали непосредственный отклик у В. И. Качалова. Подобно Белинскому он твердо верил, что "истинно-художественная комедия никогда не может устареть вследствие изменения изображенных в ней нравов общества".
К моменту новой постановки МХАТ Качалову хорошо была известна и точка зрения советской общественности на "Горе от ума".
На страницах газеты "Правда" 8 августа 1936 года (No 217) были резко осуждены все попытки каким бы то ни было образом снизить политическое звучание грибоедовской комедии.
Все лето 1938 года работал Качалов, по свидетельству близких ему лиц, над ролью Чацкого, как _н_а_д_ _н_о_в_о_й_ _р_о_л_ь_ю.
Репетируя "Горе от ума", Вл. И. Немирович-Данченко по-прежнему стремился к органическому соединению в исполнителе роли Чацкого юношеской влюбленности с интеллектуальностью зрелого человека и считал это труднейшей задачей спектакля. "Я беру Чацкого таким, каков он есть, то есть Чацкого с великолепным, светлым умом, свободного, просвещенного, горячего, пылкого, отдающегося чувству, носящего в себе большую любовь к тому месту, где он родился и куда сейчас приехал..." – так рисовал себе режиссер образ Чацкого {"Ежегодник МХТ" за 1945 г., т. I, стр. 363.}.
Качалов, работая в 1938 году над Чацким, добавлял к этой характеристике еще одно важнейшее определение – _п_а_т_р_и_о_т, и любовью Чацкого к родине насыщал всю роль.
"Он и в Софье хочет видеть свое, русское, родное, любимое и поэтому так долго не может позволить себе "прозреть" по отношению к ней", – рассказывал Качалов о Чацком своей партнерше по пьесе, Софье – А. О. Степановой.
Записи и стенограммы репетиций по "Горю от ума" отражают в достаточной мере работу Василия Ивановича над новым, четвертым Чацким и его творческие взгляды на создание этого образа.
Обсуждая с Вл. И. Немировичем-Данченко финальный монолог третьего акта, Качалов утверждал, что в первых постановках "Горя от ума" ему "казалось, что публика не столько вникала в сущность того, _ч_т_о_ он говорит, а в то, что Чацкий, оскорбленный в своей любви, о _ч_е_м_-т_о_ горячо, взволнованно, бичующе говорит. А сейчас это довольно созвучно... Призыв к великому русскому языку – это сейчас очень современно. Не в точном, буквальном смысле слова современно, а в смысле подтекста, защиты нашей самобытности, большевистской самобытности..." {Материалы по постановке «Горя от ума» в 1938 г., собранные В. В. Глебовым. Музей МХАТ.}
И Немирович-Данченко отвечает Качалову: "Вы так и делайте. Начинайте просто, потом переходите на героическое... "Миллион терзаний" – это все существо его, его страдания..."
А в другой момент репетиции (того же третьего акта) Качалов говорит Владимиру Ивановичу: "Идеология Чацкого не требует интима. Об этом (о происшествии с княжнами.– Н. Г.) он будет кричать всему миру".
И снова соглашается с ним Немирович-Данченко: "У Чацкого с каждой фразой это еще новый революционный акт. Он говорит все сильнее и сильнее..."
По приведенному отрывку можно уже судить, куда были направлены усилия Качалова в процессе нового воплощения Чацкого.
"Чацкий гордится тем, что он русский, и поэтому так строго судит всех вокруг, он требователен _о_т_ _л_ю_б_в_и_ _к_ _р_о_д_и_н_е, а не от раздражения на весь мир из-за неудачной любви. В этом единственном пункте я расхожусь с Владимиром Ивановичем и... пожалуй, уж лет 30!" – с присущим ему юмором признается своим молодым товарищам по работе на одной из репетиций Василий Иванович.
Патриотизм Чацкого подчеркивал и К. С. Станиславский, возобновляя "Горе от ума" в 1924–1925 годах. Патриотизм был самой глубокой чертой в образе Качалова, верно раскрывшего за этой чертой Чацкого главный идейный и художественный замысел Грибоедова.
30 октября 1938 года Качалов сыграл своего нового Чацкого.
Внешне он мало чем отличался от Чацкого 1924–1925 годов. Внутренние сдвиги были значительны. Самый придирчивый взгляд критика не смог бы отделить теперь Чацкого – влюбленного молодого человека от Чацкого – общественника, борца-протестанта. То и другое органически сочеталось у Качалова в целостный образ. Это был человек нового склада ума, человек большой души, горячего сердца, нового отношения к миру, передовой человек, смело разрывающий путы, связывающие его с миром ветхозаветных понятий и представлений. _В_о_л_я_ _и_ _у_м_ стали ведущими чертами характера нового Чацкого – Качалова.








