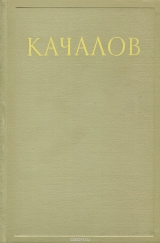
Текст книги "Сборник статей, воспоминаний, писем"
Автор книги: Василий Качалов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 48 страниц)
"Простите (или прости), что я прерываю. Не то... не то... не так у меня получается, как я хочу. Повторим еще раз".
Из всех работ периода 1910–1917 годов, пожалуй, самой трудной для Художественного театра был "Гамлет".
Однажды, помню, начав первую генеральную репетицию в 11 часов утра, мы закончили ее в 5 часов вечера. И прямо с большой сцены перешли на малую репетиционную сцену, по дороге наскоро что-то проглотив в буфете. Продолжали работу до 2 Ґ часов ночи. А репетиция днем была очень трудная. На ней произошло то, чего никогда не бывало на протяжении всей жизни Московского Художественного театра.
В то время, когда Василий Иванович вел сцену с Офелией, перед знаменитыми словами: "Оленя ранили стрелой...", мы услышали из зрительного зала шум, какие-то выкрики и возгласы.
Объясняя все это какой-то неприятной случайностью, мы продолжали репетировать, "не выходя из круга", по тогдашнему определению "системы".
Однако шум и возгласы не прекращались. До нашего слуха долетело наконец совершенно явственно слово: "stupid!" {Stupid – глупо (англ.).}, и мы поняли, что виновником шума в зрительном зале был Гордон Крэг; его приезд в Москву ожидался с минуты на минуту.
Несмотря на совершенно необычный в стенах Художественного театра беспорядок, да еще во время репетиции, да еще репетиции генеральной, несмотря на то, что крики взволновали нас, никто из актеров не прервал работы, и Василий Иванович довел сцену до конца.
Впоследствии мы узнали, что произошло. Во время сцены так называемой "Мышеловки" (представление во дворце) Гордон Крэг, приехавший из-за границы, прямо с вокзала буквально ворвался в зрительный зал, криками и воплями выражая свое возмущение: как это вдруг без него, не дождавшись его, репетируют?!
Все мы были возмущены поведением Крэга, позволившего себе скандал в присутствии Константина Сергеевича Станиславского, в стенах того театра, в котором особенно бережно и внимательно охранялась творческая атмосфера во время работы.
Репетиция продолжалась на малой сцене, в гримах и костюмах. С той же силой, не жалея себя, продолжал работу Василий Иванович. Константин Сергеевич, весь горя, вдохновенно следил за ним. Прошли один кусок... Константин Сергеевич просит повторить. Повторяем вновь и вновь... А время бежит. И вдруг Василий Иванович, умоляюще посмотрев на Станиславского, тихо и сдержанно говорит: "Не могу больше!.."
Константин Сергеевич смутился, заволновался, – он не привык слышать слова "не могу" от Качалова – и быстро посмотрел на часы: они показывали половину третьего ночи.
Константин Сергеевич стал извиняться перед Василием Ивановичем, который ничего не отвечал, но всем нам было видно, как он побледнел под гримом,– так он был переутомлен.
– Репетиция окончена, – сказал Станиславский взволнованно.
Мы встали и двинулись к выходу, а Станиславский взял Василия Ивановича под руку, и они вместе последними покинули репетиционный зал.
За всю многолетнюю работу Василия Ивановича это был, кажется, единственный раз, когда он прервал репетицию.
В работе над пьесой Тургенева "Где тонко, там и рвется", которую тоже ставил Станиславский, Василий Иванович был на репетициях совсем не таким, каким мы видели его в работе над "Гамлетом". На репетициях за столом при разборе пьесы и образов очень интересны были высказывания Василия Ивановича. Одно из них я привожу здесь. Это то, что записано у меня на экземпляре моей роли Верочки.
Когда Константин Сергеевич подходил к тому, как надо играть Тургенева, он требовал от актеров, чтобы они не увлекались лирикой Тургенева, не впадали в сентиментальность, а стремились насыщать роли тургеневских героев энергичным внутренним действием. И вот во время этих бесед и исканий Василий Иванович сказал:
"Автор не дает целиком человека, он дает только основные отдельные черты и столкновения действующих лиц. Поэтому надо искать ключ к роли совершенно субъективно,– у одного может сразу найтись все, у другого надо постепенно распахивать в душе чувства, итти и от литературных, и от психологических, и от бытовых кусков, и тогда получится целое "я".
"За столом", в фойе мы искали и жесты и манеру общаться друг с другом очень сдержанно, но так, чтобы в этой сдержанности не было сухости и холода. И не сразу пришла эта легкость диалога, эта живая комедийная речь и быстрая смена разнообразных красок. Много вдохновенного, а иногда и очень кропотливого труда потратил Василий Иванович, прежде чем он, во всеоружии своего сценического рисунка, перенес на сцену все то, что было найдено за столом.
Походка Качалова – Горского была совсем не качаловской походкой. Еще только сняв пальто и шляпу, Качалов превращался в Горского. Его походка становилась легкой, быстрой. Это уже был не Василий Иванович, а Горский, который торопится потому, что его ждет Вера, а он опаздывает. Беспечный, смеющиеся глаза с каким-то лукавым огоньком во взгляде.
Блестящее комедийное дарование, благородный юмор, легкость и четкость диалога – все это в тургеневской пьесе прекрасно проявил Василий Иванович. Но не только это. Он раскрывал в Горском отсутствие настоящих, больших стремлений, эгоизм человека, желающего жить беззаботно, весело, не считаясь с чувствами других и даже с чувством Веры, честной, прямой, раскрывшей перед ним свою девичью любовь.
Очень интересно было видеть, как на репетициях "Где тонко, там и рвется" Василий Иванович подходил к своей роли, ломая традиции обычного исполнения тургеневских героев типа Горского. Они всегда изображались лирически-сладкими, сентиментально-мечтательными; все подавалось на "красивости".
Василий Иванович наполнял образ Тургенева живой жизнью. Убирая нежность, элегическую мягкость, сладость, он был мужествен и искал в Горском внутреннюю энергию, увлеченность, даже когда он строит свои "воздушные замки", чтобы убедить Веру в искренности своих чувств. И чем искреннее и проще говорил он, тем яснее обнаруживалась вся пустота души этого человека. Таков был замысел и режиссера Станиславского, и тут между актером и режиссером был полный контакт. Оба настолько увлекались работой, что от репетиции к репетиция находились все новые и новые краски, приспособления, и щедро разбрасывались блестки комедийного дарования Качалова, какого-то особенного юмора, которым он обличал этого "барича".
Ироническое отношение Василия Ивановича к герою особенно ясно сказывалось в монологах. Они у Тургенева очень длинные; произнося их, легко впасть в резонерство,– но вот тут-то и проявлялись огромное мастерство, тонкость, буквально кружевной рисунок чувств, передаваемых Качаловым. Его Горский не рассуждал холодно и спокойно. Оставшись один, после ухода Веры, когда Горский почти сделал ей предложение, он чувствует, что запутался. Он и досадует на себя и убеждает себя, что еще не все потеряно; он не рассуждает о браке, а высмеивает брак; он пугается женитьбы,– словом, полон самых различных чувств и как бы спорит сам с собой. И все это у Качалова взволнованно, горячо, все дышит легкостью тончайших внутренних переходов. От этого и получалась чудесная комедийность, вызывавшая улыбку у зрителя.
Но далось это не сразу. Василий Иванович немало репетиций потратил на борьбу с резонерством, на которое как будто тянет автор.
Знаменитая "сказка", которую Горский рассказывает, высмеивая брак и любовь, передавалась им как экспромт, рожденный вот здесь, сейчас, а не придуманный заранее; легко, но вместе с тем с большим разнообразием переходов и красок. При этом мимика его была естественна, без тени театральности или нажима. Глаза, смотревшие на Веру, как бы желали упрекнуть ее,– он был раздосадован: как это его не оценили, предпочли другого. Он быстро переводил взгляд на Мухина (приятель Горского), и глаза его меняли выражение, мгновенно становились испытующими, как бы спрашивая: хорошо ли я уколол Веру? – и потом мягко и насмешливо смотрели на старую деву, француженку – гувернантку Веры, точно желая ей сказать: "Эх, глупая, ничего-то ты не поймешь!" И вдруг в конце "сказки" в его глазах зажигался неожиданно злой огонек, такой злой и жестокий, что понятны были слезы на глазах Веры – такой взгляд может оскорбить, и остается только одно: защитить себя от оскорбления, прервать Горского резко, встать из-за стола, как это и делает Вера, прекратить эту "сказку", пока окружающие не заметили насмешки Горского над ней. Забывая светское приличие и воспитанность, я жила в этот момент только одним: этого Горского надо поставить на место!
Станиславский, гениально угадывая все движения души актера, подсказывал и сочинял мизансцену так, что она рождалась естественно, как будто мы были не на сцене, а в зале Либановых, ощущая полную свободу переходов и общаясь друг с другом, как живые люди.
Эти репетиции были поистине полны вдохновенного творчества. Был бы в роли Горского не Качалов, а другой актер, вряд ли могло получиться такое гармоничное и цельное впечатление.
Во внешнем рисунке роли у Василия Ивановича никогда не было ничего лишнего, ничего подчеркнутого ради сценического эффекта. Жестом он владел в совершенстве. Вот, например, сцена Горского с Верой в первом явлении. Горский опоздал на условленное свидание. Стоя у стола, он опраздывается перед ней, лукавит, но от ее прямоты не спрячешься. Вера держит в руке розу, она сорвала ее для Горского, но эту розу теперь она уже отдать не может... Руки Горского – Качалова свободно сложены вместе. Кисти рук лежат одна на другой. Вот Вера уличает его, он хочет загладить свою вину. Рука Горского осторожно тянется за цветком. Лицо спокойно, глаза смотрят на нее, движение только в руке Качалова, но Вера осторожно отводит розу в сторону,– рука Горского растерянно опустилась, опускается, разомкнувшись, и другая рука и выпрямляется вдоль тела. Вся фигура выражает смущение уличенного в неискренности, виноватого человека.
Все это Василий Иванович делал четко, с осторожной постепенностью, так, что игра рук не отвлекала от главного, а дополняла внутренний рисунок органично и естественно. Но сколько репетиций ушло на то, чтобы найти этот контакт в сцене с Верой! Часами искали мы этого взаимного общения и живой передачи тонких переходов человеческих чувств.
Так же Василий Иванович владел и словом, речью на сцене. Он дорожил словом и умел с ним обращаться. Каждая "точка", "запятая", "многоточие" в его передаче текста были не только просто логичны, они были действенны, они выражали чувства, были ступеньками, переходами от одного чувства к другому. Оттого речь его была такой живой, диалог – таким разнообразным и ярким.
Как долго Василий Иванович искал заключительную фразу Горского, когда он уже знает, что Вера дала согласие на брак со Станицыным. Свою фразу: "Какую жемчужину я отбросил" он произносил сперва с каким-то сожалением, идя от прямого смысла слов, а в процессе репетиций она стала звучать как восклицание досады, злости на самого себя. И если на первых репетициях его голос звучал здесь в среднем регистре, то на последующих и на спектакле он переводил его на высокие теноровые ноты.
И походка его в финале пьесы и движения менялись по сравнению с первыми репетициями. Это тоже был результат большой работы. Расставляя всех в пары на прогулку, празднуя помолвку Веры, Горский – Качалов, такой уверенный, легкий и беспечный в своих движениях в начале пьесы, был суетлив и возбужден. И ритм, которым он жил, становился стремительным, очень юношеским, передавая смятение его чувств.
Моя память могла сохранить так четко всю работу над комедией "Где тонко, там и рвется" только потому, что образ Горского складывался у Василия Ивановича постепенно, от репетиции к репетиции. И когда я сейчас перечитала роль Веры со всеми записями, которые я тогда сделала на ней, эта работа ожила передо мной.
Мне хочется еще рассказать о "Каменном госте" Пушкина. Когда я получила роль Лауры, Василий Иванович уже играл Дон Гуана с другой Лаурой. Работа была у меня спешная – всего пять репетиций. Режиссировал Владимир Иванович Немирович-Данченко. Две репетиции Владимир Иванович провел без Василия Ивановича, на третью он пришел. Сначала мы прошли все за столом, и когда контакт за столом был найден, сразу приступили к мизансцене. Сцена Лауры и Дон Гуана не очень большая, поэтому она не требовала много времени. Я думала, что должна буду точно сохранять мизансцены прежней Лауры – В. В. Барановской. Но вдруг Василий Иванович обратился к Вл. И. Немировичу-Данченко и сказал:
– А зачем Олечка должна делать так, как делала Барановская? Она совсем другая Лаура, так давайте сделаем и встречу по-другому.
И мизансцены возникли совершенно новые. Места, на которых мы играли, оставались теми же, то есть режиссерская планировка не нарушалась, но движения, переходы Василий Иванович все переменил. Так, например, когда Лаура бежит навстречу Дон Гуану и падает в его объятия, Качалов – Гуан подхватывал меня на руки и сажал в кресло на авансцене. Потом, во время спектаклей, он продолжал находить в живом общении с партнерами множество неожиданных приспособлений и красок, правдивых, очень ярких и смелых, и вел со мной эту сцену в гораздо более стремительном ритме, чем раньше.
Бережно относясь к стиху Пушкина, он хранил его внимательно, но никогда не впадал в холодно-ритмизованное чтение, "декламацию" стиха. Сохраняя заданную форму, он вливал в нее содержание живого чувства, и стихотворная речь его была естественна, проста и музыкальна. Качалов не "бытовил" стиха, не лишал его музыкально-поэтической прелести. Помню хорошо, как Валерий Брюсов, придя за кулисы после одного из спектаклей, выражал свои восторги, говоря:
– Да, вот это настоящий Пушкин. Большие чувства и страсти в лаконичной форме, стих звучит полноценно, свободно, льется, не сковывает актеров и не мешает им.
Такой отзыв поэта был очень ценен в то время, так как часто драматические актеры обращались со стихами более чем вольно, произносили их так, как было им удобно для выражения их чувств.
В гриме и костюме Дон Гуана Качалов, казалось, сошел со старинной картины. Как блестяще владел он шпагой и как замечательно обыгрывал и носил плащ, словно этот костюм был его естественной и привычной одеждой. Все его движения были необыкновенно пластичны. Но Дон Гуан Качалова не носил на себе отпечатка западных Дон Жуанов. Он был русский душой, играя Пушкина. В Дон Гуане Качалова звучал какой-то человеческий, благородный бунт: вызывая Карлоса, он вызывал не соперника, а одного из тех праздных меценатов, которым не место подле Лауры, близкой ему по духу, свободной, независимой, талантливой художницы, чуждой банальных светских условностей.
Его фраза, обращенная к Лауре: "Лаура, и давно его ты любишь?" – отнюдь не звучала вопросом ревнивца, а именно подчеркивала то отношение к Карлосу, о котором я сказала выше.
Следующей моей работой с Василием Ивановичем Качаловым было "Горе от ума". О том, какой был Чацкий – Качалов, написано и сказано очень много. Я хочу сказать о том, как готовился Качалов за кулисами к знаменитому монологу третьего акта. Сыграв эту роль много раз, Василий Иванович всегда перед третьим актом был взволнован и собран так, как будто он играл премьеру. За кулисами было много действующих лиц. Василий Иванович всегда держался в стороне от всех, к нему нельзя было подойти, обратиться с каким-нибудь вопросом. Не слова он вспоминал, а проверял, готовил тот внутренний рисунок чувств Чацкого, который потом так насыщенно, так ярко звучал на сцене.
В четвертом акте он так произносил свой монолог перед уходом, что нельзя было слушать его без слез. И от этого исполнения монолога Качаловым у Софьи рождались слезы – она понимала, кого она теряла в лице Чацкого. Этих слез Софьи требовал в своем замысле режиссер Станиславский, но на репетициях, когда Константин Сергеевич работал со мной, они у меня никак не появлялись. Только после того, как я встретилась с Качаловым – Чацким, они родились сами собой. Василий Иванович так произносил слова Чацкого, обращая их через Софью к публике, что пробуждал в Софье ее лучшие, настоящие человеческие чувства.
Я не могу обойти молчанием работу в театре над пьесой Блока "Роза и Крест", где Василию Ивановичу была поручена роль Гаэтана.
Так же, как и все мыслящие, живые люди передовой интеллигенции тогдашней России, мы, актеры Художественного театра, жили в предчувствии прихода чего-то нового, настоящего, что выведет всех из темноты, безысходности к свету и радости. После таких постановок, как "Осенние скрипки" Сургучева, "Будет радость" Мережковского, заводивших МХТ в репертуарный тупик, театр непрерывно искал пьесу современного писателя, новую по форме и содержанию, с глубокими чувствами и значительными мыслями, не из мещанской и обывательской жизни, пьесу русского автора. Театр метался в поисках настоящей хорошей современной пьесы, способной отразить волнующую действительность. Но такой пьесы не было.
В пьесе Блока "Роза и Крест" Вл. И. Немировича-Данченко привлекали к себе преимущественно два образа: слуга – рыцарь Бертран и певец Гаэтан. В этих образах Владимир Иванович хотел дать хотя бы отзвук того, что волновало и тревожило людей искусства. Гаэтан трактовался им как предвестник чего-то настоящего, сильного, смелых и больших чувств. Конечно, эта пьеса далеко не соответствовала тому, что происходило в нашей стране в предреволюционный период, но материал пьесы давал, по мнению Немировича-Данченко, возможность в центральных образах Бертрана и Гаэтана отразить искания нового, стремление к раскрытию той правды, которая вот-вот придет.
Сам автор, читавший актерам свою пьесу, очень помог в этом направлении Владимиру Ивановичу. С большим волнением встретили актеры появление Блока в стенах театра.
Весеннее утро, ярко освещенное солнцем фойе Художественного театра. У всех пришедших на репетицию приподнятое настроение от предстоящей встречи с Блоком. И без минуты опоздания появился он, очень скромный и приветливый. Видно было, что он взволнован. И как-то не сразу приступил к чтению. Протокольно сухо произнес название пьесы, перечислил действующих лиц. Потом посмотрел поверх всех нас, сидевших вокруг него за столом, и точно унесясь куда-то далеко в своих мыслях, будто вспоминая что-то, не заглядывая в лежащую перед ним раскрытую книгу, отрывисто произнес: "Двор замка. Сумерки".
И зазвучал первый монолог Бертрана. Кругом царила напряженная тишина, все глаза были устремлены на этого человека, стоявшего с поднятой головой, с лучистыми глазами, и какое-то особое внимание было на лицах всех слушавших. Боялись пропустить хоть одно слово, хоть одну интонацию автора, впитывали в себя его голос, стремились проникнуть в глубину произведения. Хотели почувствовать текст, почувствовать автора.
Читал Блок очень просто, ярко и четко. Театральность, декламация совершенно отсутствовали в его чтении. В передаче Блока казалось, что это не один человек говорит за всех, а что оживает перед нами то одно, то другое действующее лицо. Он читал не для слушающих, но точно переносясь в мир своего произведения, заставлял жить и действовать своих героев, наполняя их живыми чувствами и страстями. Они рождались естественно и просто, так же, как и переход от стихов к прозе. Прозой говорили в пьесе персонажи с пошлой и низкой душой. Блок не играл за них, а вызывал в них жизнь, и они жили. Это было настолько убедительно, что нельзя было себе представить, как бы иначе могли говорить эти люди.
Блок окончил чтение. Некоторое время в фойе царила какая-то особенная тишина. Блок сел и опустил глаза, спокойно закрыв книгу. Глухо произнес: "Конец". Потом начались восторженные высказывания, и актеры окружили автора. Пьеса всех увлекла. Блок, смущенный и радостный, принимал как-то сконфуженно все эти похвалы. Станиславский, взволнованный, подошел к нему, а Василий Иванович стоял уже около Блока и крепко жал ему руку, улыбаясь своей чудесной светлой улыбкой. И тут же Василий Иванович, обратившись к Станиславскому и Немировичу-Данченко, заявил о своем желании получить роль Бертрана.
На другой же день начались репетиции. Василию Ивановичу дали роль Бертрана.
Очень интересно воспринимал Качалов эту роль. Он трактовал этого "Рыцаря-Несчастие", ставшего по воле графа простым сторожем замка после неудачи в одном из турниров, как смелого человека из народа. Бертран, униженный и презираемый всеми, был для него человеком живой благородной души, настоящим рыцарем духа, сильным, смелым, крепко стоящим на земле, не похожим на сладких и пошлых рыцарей в латах и с перьями на шлемах, внешне вылощенных, но внутренно ничтожных и опустошенных. Василий Иванович говорил, что Бертран похож на ту яблоню, под которой он стоит на страже в саду замка, – весь какой-то широкий, крепкий, как эта низкая яблоня. Он связан с землей, с природой.
Обращаясь к Блоку, Василий Иванович говорил, что, конечно, любимец автора – Бертран. В этом образе сказывается любовь Блока к людям из народа, с их мудростью, с их большим сердцем.
"Недаром же о Бертране вы говорите, Александр Александрович, что у него, у этого "рыцаря" – "разум простой", и он постигает, в противовес окружающим его людям, весь глубокий смысл призывной песни Гаэтана. Он очень глубоко чувствует душу Изоры. Ведь Изора – тоже дитя народа. Оттого между Изорой и Бертраном существует такая настоящая, большая дружба. Для Изоры отправляется Бертран в далекое опасное путешествие,– не потому, что он хочет исполнить каприз молоденькой графини, а потому, что для живой души Изоры нужна эта освежающая струя, которую принесет с собой песнь Гаэтана в затхлый, сумрачный, ненавистный Бертрану замок самодура графа".
Таковы были высказывания Василия Ивановича о Бертране.
Роль Гаэтана была поручена артисту А. Э. Шахалову. Но, к сожалению, во время репетиций выяснилось, что Шахалов напевно декламирует ее, увлекается только формой, не постигает и не вскрывает того глубокого смысла, который вложен в этот образ, и притом несколько упрямится, не желая подчиниться замыслу автора и режиссера. Было решено просить Качалова взять роль Гаэтана. И Василий Иванович, идя навстречу интересам постановки, желая способствовать успеху пьесы, начал репетировать Гаэтана, расставаясь с той ролью, которая была ему особенно близка и увлекала его творчески.
Качалов любил дело больше, чем себя. Он не раз приносил такие и еще большие жертвы любимому театру.
На репетициях пьесы "Роза и Крест" попутно много говорилось в присутствии Блока о его поэзии. Так, на одной из репетиций зашел разговор о стихотворении Блока "Россия", и Василий Иванович говорил ему с возмущением: "Как неверно читает это стихотворение целый ряд исполнителей!" Василий Иванович считал, что это стихотворение совсем не пессимистическое и не упадочное, что в нем должна чувствоваться любовь поэта к своей родине, что ему дорога "глухая песня ямщика" – и глубокая вера в то, что перед родиной огромное будущее. И как сейчас слышу я чудесный голос Василия Ивановича, который светло, с проникновенным взглядом своих прекрасных глаз произносит строки этого стихотворения:
...Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...
...И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка...
Особым звоном, словно колокол из серебра, звучали эти строки о России. С горящими глазами слушал Качалова Блок и потом сказал Василию Ивановичу: «Если бы все понимали меня так, как _в_ы_ понимаете, то не было бы песенок Вертинского на слова Блока...»
Не часто приходилось актерам Художественного театра работать над пьесой большого русского поэта. Блок для всех нас был настоящим русским поэтом. Василий Иванович, превосходно владевший стихотворной формой Блока, наполнял его стихи ощущением глубоких человеческих страстей и передавал их с предельной выразительной силой.
Очень интересно звучало у Василия Ивановича начало второй сцены второго действия. Это диалог Бертрана и Гаэтана, когда Бертран находит наконец "певца-странника" на берегу шумящего океана, среди скал и камней. Бертран слушал сказку Гаэтана о злой и коварной фее Моргане, дочери короля Граллона, похитившей певца и бросившей его в темницу за песни о правде и свободе. Эта сцена начинается с многоточия Подъем, с которым Василий Иванович начинал рассказ Гаэтана, как бы раскрывая это многоточие, создавал впечатление продолжающейся бурной сказки, начавшейся задолго до поднятия занавеса. Полночь, и Бертран все еще слушает сказку.
Горячо, по-юношески звучал голос Василия Ивановича. Он призывал разорвать цепи феи Морганы,– а не лирически-сладко рассказывал сказку о злой фее. Образ феи Морганы говорил в трактовке Качалова о насилии, о темных силах, враждебных духу свободы, и к освобождению настоящих живых человеческих чувств звал Гаэтан – Качалов.
Становилось понятным определение внешнего облика Гаэтана, данное автором. У Гаэтана _с_е_д_ы_е_ волосы и _м_о_л_о_д_о_е, _ю_н_о_ш_е_с_к_о_е_ лицо. Эти седые волосы – от перенесенных страданий, а дух Гаэтана молод и силен, оттого лицо его свежо и молодо. Глубокий бархатный голос Качалова пленял слух. Настоящую правду Гаэтана понимали и юная Изора, и Бертран, и крестьяне, собравшиеся на майский праздник в замке графа Арчимбаута. Исполнение Василия Ивановича было естественно и просто. Стих не сковывал артиста, образ был живой, а не театральный – все призрачное, все отвлеченное в нем Василий Иванович превращал в действительность своим исполнением. Это был живой человек, без всякой мистики.
Начало песни, которое повторяется часто Изорой и Бертраном, по желанию автора и замыслу режиссера Вл. И. Немировича-Данченко должно было звучать очень сильно, мужественно, как призыв, а не как лирическое описание природы, и если бы певец Гаэтан – Качалов передавал ее иначе, то весь смысл пьесы стал бы совсем иным. Слова этой песни таковы:
Ревет ураган,
Поет океан.
Кружится снег,
Мчится мгновенный век.
Снится блаженный брег!
Пошлой придворной даме Алисе не разобраться в смысле "той песни. Она и характеризует ее примитивно и пошло:
"Нет, о розе и о соловье там нет ни слова. Я совсем не понимаю песни, хотя госпожа не раз повторяла ее..."
Но Изора и Бертран слушают ее по-другому. Недаром Блок говорил, что три его героя – Гаэтан, Бертран и Изора – живые, настоящие люди, живут полноценными, глубокими чувствами, в них должна ощущаться "земля, почва, что-то душистое" (из письма А. А. Блока ко мне).
Незабываемо произносил Василий Иванович последние слова третьей сцены второго действия: "Не медли, друг! Через туман – вперед!" Мощный призыв к свету, к правде, несмотря на все опасности и трудности пути, слышался в них.
Гаэтан – Качалов был таким, какого желал видеть Блок. Блок говорил: "Придайте несколько простонародных черт – и все найдется тогда. Все, что, в конце концов, одной психологией заполнить мудрено и скучно. А от настоящего выйдет земное, крепкое и сильное".
Все это было в образе Качалова. На репетициях он своим исполнением захватывал не только режиссера, но и всех участников спектакля. Когда, бывало, посмотришь на всех окружающих и на Владимира Ивановича, на их лицах можно было прочитать такую увлеченность, такое внимание...
Василий Иванович даже становился как-то выше ростом, светлые глаза его сверкали, как два луча. Этот странник-певец шел через страдания к радости, и, несмотря на то, что на груди его был крест, не к молитве звала его песня. Своей песней он открывал новый мир ощущений, чувств, порывов к свободе.
Пламенного Гаэтана и благородного смелого рыцаря Берграна, воплощенных Качаловым, забыть невозможно. Только большой актер-художник может достичь таких высот.
Я встречалась с Василием Ивановичем не только на сцене, я очень часто выступала с ним и в концертах. Одним из самых необычных и совершенно новых его созданий был образ Телятева в "Бешеных деньгах" Островского. Мы выступали в концертах, играя сцену, когда Лидия почти напрашивается на то, чтобы Телятев сделал ей предложение и женился на ней. Василий Иванович по-новому подошел к трактовке образа Телятева, разрушая все традиции исполнения этой роли. Его Телятев не был умным; это был увлекающийся светский болтун, привыкший срывать в жизни только цветы удовольствия. Он обличал этого "героя", как никчемного барина. В его исполнении чувствовалась праздность, беспринципность того круга, к которому принадлежит Телятев. Я очень хорошо помню, как Василий Иванович просил меня как можно искреннее и по-девичьи, без кокетства говорить слова Лидии, обращенные к Телятеву:
"Будьте искренни со мной, не говорите того, чего вы не чувствуете, и не любезничайте со мной, если я вам не нравлюсь". Он просил об этом потому, что Телятев–Качалов на искренность Лидии отвечал почти утрированной пылкостью. Если же Лидия говорила это с кокетством, то получалась просто легкая светская болтовня.
В этой работе для концертов Василий Иванович был не только исполнителем, но и режиссером. Он искал очень внимательно и с большой фантазией мизансцену, в расчете на эстраду, не признавал обилия движений, переходов, а старался все концентрировать на разнообразии внутреннего рисунка, голосовых переходов и, поскольку это была комедия, добивался очень быстрой смены внутренних кусков и задач. От этого рождался стремительный темп, и смех в зале, как реакция, возникал не потому, что мы стремились своим исполнением развлекать и веселить зрителя, а потому, что на сцене были живые люди с живыми чувствами, с богатством неожиданных контрастов и переходов, раскрывавших образы Островского. На репетиции для концертных выступлений тратилось не меньше времени, чем на работу над ролью в театре. Василий Иванович находил время между репетициями и спектаклями, чтобы поехать в то помещение, в котором предстояло выступать, и мы на месте проверяли нашу работу, приноравливаясь к размерам эстрады и акустическим условиям зрительного зала,– все равно, был ли это концерт в Колонном зале, большой и парадный, или совсем скромный – для студенческой аудитории.
Василий Иванович никогда не отказывал молодежи. В течение долгих лет он был постоянным участником концертов в пользу студентов виленского землячества. Как раз в концерте для виленского землячества Василий Иванович впервые прочитал стихотворение Блока "На железной дороге" ("Под насыпью, во рву некошенном..."). Тогда еще эти стихи не были напечатаны. В его трактовке они звучали так, что вставал перед нами образ загубленной талантливой женской натуры, не нашедшей себе выхода, не отдавшей своего душевного богатства, по условиям тогдашней жизни, чему-то большому, настоящему. Трагически звучало это стихотворение; грозно и гневно произносил Качалов последнюю строфу, обращая ее к публике:








