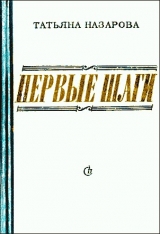
Текст книги "Первые шаги"
Автор книги: Татьяна Назарова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 39 страниц)
«Видно, Анастасия Миновна просила его, детей да старуху жалеючи», – подумала она.
– Не обвинил меня Демьян Петрович, хоть и всю правду сказал, спас меня с детьми, и хочу я клятву свою выполнить. Прости меня, подлую, свою вину заглажу перед тобой, все сделаю для тебя, Оксенька! – говорила Наталья и как подкошенная упала к ногам Аксюты, рыдая во весь голос. Ей казалось, что если Аксюта ее не простит, то она нарушит свою клятву и лишится навсегда счастья.
Слушая Мурашеву, Аксюта вспомнила слова отца о том, что богатство, нажитое нечестным путем, всегда развращает. «Вот и Наталья из-за боязни потерять богатство не выдержала, пала. Может, и правда, если не оттолкнуть, и лучше станет, коль не из совести, так из страха, меньше зла будет делать», – думала она. В том, что свекор и муж не рассказывали Наталье свои тайны, Аксюта не сомневалась.
– Встань, Наталья Михайловна! Верю, в горе моем ты меньше всех виновата. И коль тебе так хочется, прощаю за то, что своим молчанием помогла ты Павлу травить меня, – сказала она.
Наталья покраснела.
– Грязь, что лили на тебя враги наши, с тебя смыть, жизнь облегчить должна я, и хочу того, – тихо заговорила она. – Никитиной слово веско, но и мое чего-нибудь стоит. Берись-ка ты, Аксинья Федоровна, за шитье, швейную машину я тебе дам, руки у тебя золотые, не губи здоровья…
– Подарков мне от тебя не надо, – прервала Аксюта, вставая.
– Пусть не в подарок будет. Сошьешь мне три платья – в расчете будем. А потом другим шить станешь. Коль, правду, простила, от этого не откажешься.
Аксюта задумалась. Взять взаймы можно, раз не считает ее виноватой в аресте отца и мужа. Пожалуй, этим она Наталье одолжение сделает, а не Наталья ей. Потом – зима близко, на салотопке работа кончится до следующей весны, а кормить четырех. Свекровь слабенькая стала. Легко ли ей целый день с детьми да с коровой возиться, если придется днями пропадать на уборке да стирке? Кроме того, это будет мешать и в главном, думала она. И решилась:
– Хорошо, Наталья Михайловна, возьму я у тебя машину, привози и работу.
Наталья оживилась:
– В сенках машина стоит! Пойдем заберем!
Скоро зингеровская швейная машина с ножным и ручным приводом стояла у окна в горнице.
– В долг, мамынька, беру. Шитьем отработаю. Шитье-то ведь не только богатые понесут, работа всегда будет, – сказала Аксюта свекрови.
– Евдокия Васильевна! Не равняй меня с вашими лиходеями. От них и я немало горя перенесла, Оксенька все теперь знает, – говорила Наталья Евдохе, сурово смотревшей на нее. – А этот сверток возьмите, – махнула рукой в сторону сундука. – Демьян Петрович кое-что просил вам отвезти. До свидания. Сыновья-то меня заждались, поди, – попрощалась она с хозяйками.
Аксюта, накинув платок, проводила купчиху и сразу же побежала в мастерскую к Антонычу. Ей хотелось скорей услышать от него, правильно ли она поступила.
Выслушав рассказ Аксюты, Антоныч сказал:
– Что машину взяла, сделала хорошо. Шитье – специальность, оно всегда обеспечит тебя заработком, и времени больше свободного будешь иметь. Потом, мне кажется, Наталья в этом случае была искрення…
* * *
Дня через три после посещения Натальи Мурашевой к Аксюте заехала Анастасия Миновна. Ей первой похвасталась, умело и к слову, Наталья своей добротой.
– Удивляюсь я своей сношельнице: как это она не может понять, что ее от горя честность Аксюты спасает? Ведь если бы Аксюта пожелала, Павел ей весь капитал под ноги кинул бы, – сказала она. – Повторяет по глупости везде мужнины сплетни…
– Шить Аксюта большая мастерица. Я собираюсь ей отвезти заранее все, чтоб к новому году пошила, а то завалят работой и не попадешь, – говорила Наталья в другом доме своим приятельницам. – А уже честна, ниткой чужой не польстится…
Впечатление от постановки, в которой так гласно высмеяли Павла Мурашева с женой, было еще свежо в памяти всех, и поэтому любая хитрая фраза Натальи, порочащая его, попадала в цель. Многие дамы, отвернувшиеся от Аксюты из-за сплетен, вдруг сразу пожелали снова видеть красивую и скромную вышивальщицу и, оказывается, еще и опытную швею. Но каждая выжидала, чтобы кто-нибудь первый поехал к ней.
Никитина, узнав от Натальи, что Аксюта умеет шить, никого не стала ждать. Она привезла ей несколько платьев для горничных, для себя и для восьмилетней дочки Анночки.
– Вон ведь ты какая скромная! Сказала бы, что шьешь, я бы тебе сразу машинку дала и заказы, – попеняла она Аксюте. – Неча у корыта гнуться да полы мыть. Принимайся за шитье. Скоро тебе навезут работы, не придется и на салотопню ходить, – говорила купчиха, усевшись на сундук, как и в первый раз.
Приказав Анке играть с ребятами и угощать их конфетами, Анастасия Миновна разговорилась с Евдохой.
Анка, белобрысая, длиннолицая, с бесцветными глазами, характером, видно, была не в мать. Сунув конфеты Танюшке и маленькому Алеше, она стояла, свысока поглядывая на бедно одетых ребятишек.
Танюшка, всегда живая, веселая, прижавшись к лежанке, глядела исподлобья на чужую неласковую девочку. Двухлетний Алеша, держась одной рукой за платье сестренки, вертел в другой конфетку.
Когда Аксюта сняла мерки с матери и дочери – для платьев горничным Никитина привезла готовый образец, – купчиха сказала:
– Убирать и стирать к нам больше не ходи, а платья, как сметаешь, не поленись, приди сама померить, время зачту.
Вслед за Никитиной появились и другие заказчицы. Привезла и Наталья.
– А ты, Аксинья Федоровна, с моими не спеши. Абы к новому году. Других приучай, – говорила она.
Отказавшись от резки сала, Аксюта дружбы с работницами салотопни не потеряла. Марийка с подругами забегали к ней поговорить. Аксюта помогла им сшить платья к новому году.
Зашла наконец и Валя Соловьева, принесла шить платье. Оставшись наедине с Аксютой, девушка неожиданно заплакала.
– Простите меня! Я была глупой…
– Не плачь, Валюша! – Аксюта обняла и поцеловала ее. – Все будет хорошо, и ты будешь счастлива с тем, кого любишь. Мой любимый в далекой ссылке, но всегда со мной! – сказала она ласково.
Глава тридцать четвертая
1
Зима тысяча девятьсот одиннадцатого года в Петропавловске была снежной и морозной. Все избушки на выселках чуть не до крыш засыпало снегом.
Чистить дорожки и раскапывать сугробы возле Потаповых и Мухиных взялись младшие сыновья – четырнадцатилетний Мишка и тринадцатилетний Ванятка. Работали вместе, очищая снег по очереди, то около одной, то около другой избы. Иногда помогала и Маня, Ваняткина сестра. Ее помощь они принимали с удовольствием, а вот старшим братьям не позволили совсем вмешиваться.
– Без вас обойдется! Вам своей работы хватит! – твердо заявил Мишка, признанный товарищами за командира.
– Ишь ты шиш какой! – снисходительно смеялся Сашка. – Еще командует!
Миша было обиделся: «Никакой не шиш…»
Старший брат ласково схватил его в охапку, и они забарахтались в снегу. Обида прошла.
– Стенька, давай горку делать, все будем кататься. Тут уж Мишка нас не погонит, – сказал Саша и запустил снежком в Манечку.
Маня ответила, и началась общая баталия.
Возле Потаповых сделали высокую гору, наморозили ледянок, и ребята в свободные часы с криком и визгом летали на ледянках до самой улицы. В праздничные дни вокруг снежной горки собиралась молодежь чуть не со всех выселков. Приходили и матери посмотреть на детей да поговорить с Максимовной; иногда и отцы заглядывали.
В одно из воскресений, когда темнота разогнала молодых и старых и сыновья заснули, Катя, не зажигая огня, села у окна, разрисованного морозом фантастическими узорами. Хотелось не спеша многое обдумать. Неожиданно стекло потемнело, и раздался тихий, дробный стук. Она испуганно вскочила и прильнула к стеклу. Барабанная дробь продолжалась.
«Да ведь так только Гриша выстукивал», – вдруг вспомнилось ей, и, не помня себя от волнения, Катя кинулась в сени.
– Кто там?
– Я, Катерина Максимовна. Тише! – послышался за дверью голос Колышкина.
– Ты, Фома Афанасьич? – удивленно и разочарованно протянула Катя. – Чего это ночью…
– С радостью к тебе, – перебил ее старый проводник. – Тише только! Гриша твой сейчас придет, упредить пришел…
Катя выдернула засов и распахнула дверь.
– Где, где он? – громким шепотом требовала она, готовая немедленно куда-то бежать, искать…
Колышкин чуть отступил и оглянулся назад, поманив рукой, и через минуту перед Катей оказался Григорий. Она почти без памяти повисла у него на шее.
– Ты, Гриша, не торопись, побудь до света дома-то, мы покараулим, – шепнул Колышкин Григорию, кивнув головой в сторону забора. – Никого близко нет, мы все осмотрели. А коль сунется… – он жестом показал, что шпиону не сдобровать.
Григорий поднял жену и с ней вместе вошел в сени. Прижимая ее к себе одной рукой, он другой закрыл дверь, запер засов, в темноте нашел губы жены и жадно прильнул к ним.
– Радость моя, счастье, как же долго я не видел тебя! – шептал он.
–. Ну, пойдем в избу, пойдем! Замерз, поди, голодный? – торопила Катя, прижимаясь к мужу и не давая ему идти вперед.
Григорий рассмеялся.
– Сама же не пускаешь!
Катя ответила радостным смехом. Она еще не успела подумать о том, как явился Гриша домой, почему надо тише говорить. Радость горячей волной захлестнула сознание.
– Поди, Катюша, закрой плотнее окна, зажги свет, тогда и я войду, – шепотом говорил Григорий, по-прежнему не разжимая рук.
– Сейчас! Пусти только! – прошептала Катя. – Ты убёгом? – вдруг поняв все, спросила она.
– Да, разрешения у начальства не спрашивал…
Катя кинулась в кухню, завесила окна и зажгла свет. Григорий, войдя в комнату, пристально огляделся вокруг. Пять лет не был, а ничего не изменилось.
С лежанки свешивались ноги сыновей. Он было кинулся к ним, но сразу остановился. Надо прежде обо всем договориться с Катей. Катя хлопотливо собирала на стол. Потом налила воды в умывальник и с полотенцем, вынутым из сундука, подошла к мужу.
– Умойся, Гришенька, да сядем, поедим и поговорим обо всем, а потом их разбудим. Да ты еще и не разделся?
– Сейчас, Катенька!
Григорий снял армяк из грубошерстного сукна. Под ним оказалась серая крестьянская рубаха, подпоясанная шнурком, и бумажные темные порты. Он долго гремел рукомойником, смывая с наслаждением застарелую грязь. Затем, сев за стол, сказал:
– Убежали мы с Алешей. Он подался в Россию, а я – сюда. С Федотом не могли связаться, далеко его загнали…
– А ты ешь вперед, потом расскажешь, – перебила Катя, подвигая ему тарелки.
– Признаться, последние дни, кроме сухого хлеба, ничего не видел. Опасался, что не удастся до вас добраться. Жить-то мне вряд ли придется здесь, а повидать больно хотелось… Ну, как жила, как дела у вас?
– Ешь, а я буду рассказывать, – просила погрустневшая Катя.
Григорий не заставил себя просить.
Катя рассказала мужу обо всем, что пережили они с того момента, как тронулся поезд со станции, увозивший его с Федотом и Семиным, но старалась смягчить особо тяжелое: Грише-то ведь не легче было. Григорий смеялся, слушая о похождениях старшего сына.
– Вот, стервец! Отцовскую честь берег крепко! – проговорил он, с любовью взглянув на торчавшие ноги Саши.
– Саша-то уж подручным вместе со Стенькой Мухиным в депо работает. Связной наш! – с гордостью сообщила Катя.
На губах Григория промелькнула прежняя задорная усмешка: много печального услышал, а вот то, что жена и сынишка все время с ним заодно шли, что Антоныч на свободе, хоть и далеко отсюда, крепко обрадовало. Наевшись досыта, он отодвинул тарелки и потянулся к жене.
– Пожди, Гришуня, самое тяжелое еще не сказала, – остановила Катя. – Прав был Антоныч, Вавилов-то предатель в охранке работал, «Вербой» звался, – сказала она.
– Как узнали? Убили ирода? – яростно вскрикнул Григорий.
– То-то, что нет! В Москву уехал, – ответила Катя и подробно рассказала о ночном посещении Савина. – Первыми он продал Нюру с Надей, потом тебя, Федота и Семина, а затем Алешу и других…
– Не скроется, подлец, везде найдем! Алеша дал один адрес, туда сообщим, – уверенно бросил Григорий. – Ну, а купец-то чего ради нам помогать вздумал?
– Говорил он, что и ему злодей большое горе причинил и что верит – мы найдем и расплатимся. Жена у него перед этим неожиданно умерла, поговаривали, что отравилась, и в этом виновен был «Верба». «Вам, говорил, я чужой, а в то, что отплатите подлецу, верю».
– Правду, значит, сказал, – протянул Григорий.
– А ты сколько у нас пробудешь? – задрожавшим голосом спросила Катя.
– Часа через три уйду к Хасану. Дома-то ночевать нельзя. Вечером завтра встретимся у Степаныча, пошли к нему Мишу известить, там обо всем посоветуемся, – задумчиво ответил Григорий и попросил: – Побуди ребят. Да чтоб не закричали.
Катя пошла за печку.
– Сашенька, Миша! Проснитесь! Радость у нас… Да только потише.
Саша открыл глаза, взглянул на мать и сразу скользнул из-за печи.
– Тише, чтоб кто не услышал! – задерживая его за руку, шепнула мать.
Увидев отца, Саша кинулся к нему на грудь; рядом с отцом он тонкий, как молодое деревцо, но почти ровный с ним ростом.
– Папаня! Я знал, что ты к нам приедешь, – шептал он, весь дрожа от волнения.
– Пока, сынок, ненадолго, а после и совсем вместе будем. Хороший мой, товарищ! – целуя русую голову сына, тихо говорил Григорий.
В слово «товарищ» он вложил все: и что знает о работе сына, одобряет его, гордится им. И Саша понял. Он спрятал на груди отца покрасневшее от счастья лицо.
– Папанюшка! А я во сне видел тебя, и ты пришел, – зашептал Миша, кидаясь к отцу, беленький, вихрастый, разгоревшийся от сна и радости.
Григорий выпустил из объятий старшего сына и, как когда-то давно, подхватив Мишу, поднял его. Миша счастливо засмеялся и сейчас же ладошкой прикрыл рот: нельзя!
Погасив свет, все вместе сидели на теплой лежанке и шептались. Миша не выпускал руки отца. Сейчас он чувствовал себя равным со всеми: хоть и маленький, а тоже революционер. Теперь он может сказать и про себя: «Рабочие не сдаются». Пусть его разрежут на кусочки, но тайны он никому не выдаст.
2
К появлению в Петропавловске Потапова в подпольной организации было шестнадцать человек. Организация выросла исключительно за счет рабочих железнодорожного депо, и все товарищи считались надежными. Клинца уже не было. После разоблачения Вавилова рабочие быстро выжили его.
Ему подсунули записку: «Если завтра не смоешься вслед за своим начальником, считай себя мертвым». Тот не стал ждать вторичного предупреждения.
Однако, по указанию Антоныча, соблюдалась строжайшая конспирация. Поручения передавались по цепочке, каждый знал только двух-трех товарищей. Всех знали Степаныч, Катя и Карим – комитет партийной организации.
На следующий день, как только стемнело, Григорий пошел к Мезину. За пять лет он изменился. Короткие волосы уже не вились кудрями, верхняя губа закрылась усами, плечи расширились, слесарь постарел, но прежние друзья могли легко узнать – следовало беречься.
О возвращении Потапова Степанычу сообщил утром Миша, гордый тем, что ему доверили важную тайну.
Услышав неожиданную весть, Степаныч далеко отшвырнул грабли – он убирал в сеннике, – схватил мальчика за плечи и закружил вокруг себя, восклицая: «Ай, молодец! Вот уж молодец!» – и Мише было непонятно, кого хвалит высокий дяденька – его или отца.
Степаныч, не утерпев, поделился своей бурной радостью с Феоной Семеновной и дочкой Дуняшей; им можно сказать – не подведут, но больше кому скажешь? А волнение требовало выхода, до вечера далеко, и он, бодрый, возбужденный, крутился по дому, не находя себе места. Ведь только после встречи с Григорием нашел свою дорогу! Антоныча, Шохина, Катю Степаныч уважал, а Григория Потапова по-настоящему любил.
После обеда он заперся в угловой комнате – надо подумать, о чем рассказать сразу же Грише, посоветоваться…
До сих пор он чувствовал на себе всю ответственность за подпольную организацию. Ведь весточку от Антоныча можно было получить только раз в месяц, а положение требовало иногда решить вопрос немедленно. Помощница одна – Катя, сам-то он не больно грамотен.
Когда стемнело, Степаныч не выдержал, вышел на улицу, закрыл ставни на болты и остался сидеть на скамейке.
Григория он узнал издали, по походке, и, оглядев улицу, пусто ли, еле заметно кивнул другу и скрылся за калиткой, оставив ее полуоткрытой. Григорий вошел вслед за ним. Задвинув засов, Степаныч сжал друга в объятиях.
– Гриша, друг мой! Уж как кстати ты вернулся! – взволнованно шептал казак.
Спустив с цепи барбоса, он повел гостя в дом.
После первых коротких, торопливых вопросов, на которые не всегда можно было сразу ответить, друзья немного успокоились и, сев рядом, было заговорили связно. Но залаял барбос, и Степаныч выскочил во двор. Пришли Катя, Володя Белов и Карим.
– Да ты Хатиза уже перерос, – смеялся Григорий, похлопывая Карима по плечу. Тот поднял на него карие узкие глаза: «Товарищ Григорий помнил еще мальчишкой…»
– Ну, Григорий Иванович, рассказывай, что нового на свете, – попросил Степаныч, когда уселись вокруг стола.
– Может, и не много расскажу, товарищи, – заговорил Григорий. – Но одним могу порадовать вас: рабочий класс начал распрямляться, поднимать голову. В центре опять начались забастовки. Алексей, как доберется до места, пришлет тебе, Степаныч, письмо от «племянника» со всеми новостями. Расскажет и про «дядю Володю». Мы, в нашем захолустье, слышали, что Владимир Ильич воюет с меньшевиками и всеми их прихвостнями…
Рассказав о политических новостях, дошедших до ссыльных иль услышанных во время пути, Григорий, по просьбе друзей, подробно поведал о годах ссылки.
– Полиция всех разогнала по болотам, да мы находили способ сообщаться, мужички помогали, – с прежней задорной усмешкой говорил он. – Мужики теперь другие, даже в вологодской глухомани…
В юмористических тонах рассказывал Григорий о том, как сумели они соединиться с Алешей Шохиным и одновременно бежать. Только при воспоминании о Федоте Мухине он сурово нахмурился и вздохнул: жаль товарища, загнали его в недоступные дебри…
Потом Григорию подпольщики рассказывали о событиях в Петропавловске. Память о прошлом лучше сохраняет хорошее, чем плохое, и в комнате часто слышался смех. Наконец Степаныч спросил, что им сейчас делать. Вон из Кривозерного допытываются, когда же опять листовки печатать начнут…
– Нужно хорошенько все продумать, Егор Степанович, – ответил Григорий. – Главное указал вам в своем письме «наш товарищ», вы, пожалуй, чересчур робко выполняете его советы. По-моему, надо быть смелее: растить борцов не только на железной дороге, но и в городе, нельзя забывать и о мелких ремесленниках, и о крестьянах. Над прокламациями мы вместе поработаем, в Кривозерном печатать можно. Но долго мне под носом господина Илюхина не следует болтаться. Как считаете, товарищи?
Григорий оглянул сидящих и прищурился.
– А что, если мне уехать в Акмолинск? Возможно, там я займу место Антоныча, а он нелегально вернется сюда… – вопросительно произнес он.
Степаныч оживился, Катя пристально смотрела на мужа, о чем-то думая.
– Коль его тут, в Петропавловске и поймают, так ведь выйдет, что он на месте ссылки живет, – сказала она.
– А меня там никто не знает. Липа надежная, – подхватил Григорий.
– Неплохо придумал, – отозвался Мезин. – Недельки через две жду оттуда своего паренька, с ним и уедешь. А пока больше будешь у меня или у Хасана и нам поможешь. О твоем возвращении никто, кроме нас, знать пока не должен. Может, сам в Кривозерное съездишь.
Все приняли предложенный план и разошлись. Григорий шел вслед за женой, но к ней не подходил. Если схватят, она пойдет вперед, не оглядываясь. Документы у него были надежные. Вышлют Клима Галкина, а Катерина Потапова будет ни при чем. Добрались благополучно. Сыновья с волнением ожидали родителей. Маленькие рабочие были готовы ко всему…
Зато как сияли лица ребят, когда мать, а затем отец появились в доме! Быстро поужинав, потушили свет, и опять вся семья собралась вместе на лежанке. Столько хотелось рассказать друг другу!
3
Через несколько дней после встречи с Григорием, выехавшим в Кривозерное, чтобы на месте наладить печатание листовок, к Степанычу днем зашел незнакомый человек. С первого взгляда он не понравился старому казаку. Невысокий, но широкоплечий, по виду лет около тридцати, с плутовато щурившимися карими глазами, в одежде явно с чужого плеча, незнакомец показался жуликом. Увидев Степаныча, вышедшего к калитке на громкий стук, и услышав бешеный лай барбоса, он сказал:
– Ишь пес-то у вас какой, незваным не войдешь, – и подмигнул левым глазом.
– Что надо? – неласково спросил Мезин.
Неизвестный значительно мигнул и спросил:
– Вас зовут Егор Степанович Мезин?
– Будто так, – внимательно всматриваясь, ответил Степаныч.
– Дружка своего Палыча с его зятем Кириллом не забыли?
– А вы отколь их знаете? – неожиданно для себя спросил Мезин, сразу заволновавшись.
Не походил гость на товарищей, но, услышав имена друзей, Степаныч забыл про осторожность. Два года от них не было весточки.
– В одном доме жили, – щуря правый глаз, ответил незнакомец и, сунув руки в карманы истрепанного пальто, принял надменную позу. – Видно, Кирюшка ошибся. Не больно ты мне обрадовался, у ворот держишь, – сказал он, делая вид, что хочет уйти.
– Что ты, что ты! – тоже перейдя на «ты», горячо заговорил Степаныч, схватив его за рукав. – Айда в дом! «Видно, с Палычем и Кирюшкой в тюрьме одной сидел, уголовник, поди», – подумал он.
Когда вошли в кухню, гость, поздоровавшись с хозяйкой, сразу же снял пальто и бросился к печке.
– Ой, и замерз! От Омска на тендере ехал, а шуба моя рыбьим мехом подбита, – сказал он добродушно.
Феона Семеновна кинулась ставить самовар.
– Звать-то как тебя? – спросил Степаныч.
– Васька Кулагин! К вашим услугам! – с дурашливой важностью крикнул гость, прильнув к печи.
– Может, Вася, с дороги щец поешь, чай-то потом? – предложила хозяйка.
По-женски наблюдательная, Феона Семеновна прежде мужа заметила, какой у гостя истощенный вид. «Оголодал, видно, да и замерз», – думала она с жалостью, быстро накрывая на стол.
– Садись кушай, – пригласил и Степаныч. – У тебя от них ничего нет?
– Как же! Кирюшка неделю писал, сколь бумаги я ему собирал по камерам, а от Палыча одна записочка.
Кулагин, оторвавшись от горячей печки, схватил пальто.
Семеновна уже поставила на стол миску с дымящимися щами. Василий, вытаскивая из разных мест исписанные клочки бумаги, потянул носом вкусный запах.
На первом клочке Мезин увидел почерк Карпова и чуть не вырывал каждую писульку. Передав хозяину восьмой листок, Кулагин сказал: «Все!» – и жадно поглядел на стол.
– Садись, Вася, друг ты мой любезный, подкрепляйся, – ласково предложил ему Степаныч. – Мать, корми вкусней, а я пойду почитаю. Да стопочку с дорожки поднеси гостю дорогому!
– Нет, Кирюша не обманул меня, вижу, – плутовски подмигнул Кулагин, садясь за стол.
Казак поспешно ушел в соседнюю комнату. Хотелось скорей прочитать письма друзей. «Душа изболелась. Увезли жандармы – и как в воду канули. Если бы с Омском связь не порвалась, давно бы знали про них», – думал он, стараясь разобрать местами стертые слова.
«Дорогой друг! Мне писать трудно, следят очень. Кирюше легче. Скоро мы будем с ним вместе. Посланному верь! Хоть в воровстве его обвинили, а парень добрый…» – прочитал он наспех нацарапанные строчки на грязном обрывке бумаги. Ни его, ни своего имени Федор не писал.
«Знает, что почерк его не забуду, – взволнованно подумал Мезин, перечитав несколько раз записочку и бережно свертывая. – Аксюте надо переслать – пусть своими глазами прочитает отцовы слова…»
Из семи записок Кирилла пять предназначались Аксюте. Прочитав на маленьком листочке первые слова: «Любушка моя, солнышко ясное», Степаныч бережно откладывал его в сторону, понимая, кого так называет молодой друг.
В двух последних, адресованных друзьям, Кирилл сообщал, что после двухлетнего терзания в тюрьме их осудили на ссылку в Нарым и с первым этапом отправят. Он просил не беспокоиться о них: закалились и в тюрьме тоже нашли друзей, с некоторыми вместе и в далекий край пойдут.
«От нас добивались, кто из Петропавловска посылал нам прокламацию. Многое вам расскажет В. Нужда загнала его в тюрьму. Поддержите парня, человеком станет…» – писал Кирилл.
Не один раз прочитал Степаныч скупые слова записок, стараясь понять сказанное между строк, пока Кулагин пришел к нему из кухни, разомлевший от сытного обеда и тепла. Он начал было рассказывать про Федора и Кирилла, но глаза у него помимо воли закрывались.
– Вот что, паря! Ложись-ка, поспи малость. Устал, видно, а потом поговорим, – сказал Степаныч, заметив его состояние.
– Как вышел, не спал еще. Боялся с письмами попасть к легавым в руки, – совсем засыпая, прошептал Кулагин.
Семеновна раскрыла постель, и, поддерживаемый хозяином, Василий, дойдя до кровати, свалился, как сноп. Мезин заботливо снял с него дырявые валенки и прикрыл теплым одеялом.
Кулагин проспал мертвым сном подряд четырнадцать часов.
Утром следующего дня Степаныч подошел и тронул его за плечо. Вася мгновенно вскочил со словами: «Сейчас, сейчас, ваше благородие, все будет сделано!» – и, уже стоя, открыл глаза, взглянул на Степаныча и рассмеялся.
– Фу, черт! Приснилось, что опять в тюрьме и надзиратель будит, – говорил он, заразительно смеясь. – Пять лет ведь оттрубил…
Мезин добродушно улыбался, глядя на него. «Чего это он мне вчера жуликом показался? – думал. – Человек как человек».
Василий сейчас не кривлялся и почти не подмигивал. На щеках пробивался слабый румянец, губы из синих стали бледно-розовыми. Хороший обед и спокойный сон подкрепили парня, и выглядел он теперь значительно моложе, чем вчера.
– А лет-то тебе сколько? – спросил Степаныч.
– Недавно двадцать пять стукнуло. Как раз двадцать лет исполнилось, когда прокурор в тюрьму засунул… – Лицо его омрачилось, вспомнил, как без вины в воры попал.
Нужда из родного села мальчонкой выгнала сироту. Чего он не перенес до двадцати лет. А потом эта беда случилась: вор из кармана толстопузого кошелек потащил, а он, Васька, стоял смотрел, разинув рот от изумления. Поднялся крик, городовой подбежал, воришка вырвался, толкнул его к городовому и сам закричал:
– Вот этот по карманам лазит…
Схватили его, избили до полусмерти, как нашли в кармане кошелек, тот, видно, пихнул незаметно. Пять лет дали, и в тюрьму…
– Ну, ступай умойся, позавтракай, а потом говорить будем. Баньку к вечеру Семеновна истопит, – сказал Степаныч, выслушав его короткий и немного сбивчивый рассказ о давних годах.
– Как привезли их из Акмолинска, так поначалу в нашу камеру сунули, а нас там было пятнадцать, почти все за воровство, – говорил Василий, часто вскидывая живой взгляд на Мезина. – Я уже «стариком» считался, три года отдежурил, новенькие все меня слушались. Ну, как водится, начали спрашивать, за что попали. «Живоглотам на шею себе садиться не давали», – сказал младший, Кирилл то есть. А старший, Палыч, добавил: «Сколь могли, и других от того берегли». И так на всех ласково взглянул, что все сразу утихомирились, а Санька Нож – это его прозвище, фамилию он никому не говорил – закричал: «Что ж это к нам политиков засунули?» Мне они сразу понравились оба, особенно Кирилка. Я и гаркнул на Саньку: «Прикуси язык, коль не хочешь, чтобы голова заболела!» Никто их не обижал у нас. Через неделю обоих из нашей камеры забрали и в одиночки для политических посадили. И на прогулку выводили их врозь. А я с надзирателями дружил: коль что сделать им надо – без отказа, а то и развеселю когда…
Васька неожиданно состроил такую рожу, что как ни взволнован был Степаныч, все же не мог сдержать улыбки.
– По двору и коридорам я ходил свободно и вот, когда кого из них выводили, обязательно себе дело во дворе находил. Переглядывались мы, глазами разговаривали, – с простодушным хвастовством продолжал Кулагин. – Месяца через три разрешили мне у них в камерах убирать, тут мы с Кирюшкой и вовсе дружками стали…
Василий рассказал, что его вызывали к начальнику тюрьмы, Синькову, – «ух, и зверюга!..» Там следователь учил его, как выспросить у Кирилла секреты.
– Я для виду согласился, чтобы подольше с дружком в камере быть. Через него и Палыча любить стал. Рассказал я Кирюше о хитростях следователишки… – Васька лукаво прищурил карие глаза и забавно сморщил вздернутый слегка нос.
За тысячи, полученные от Павла Мурашева, начальник Акмолинского уездного жандармского управления охарактеризовал арестантов как «важных и опасных для государства преступников», направляя с ними дело «Об организации бунта в селе Родионовке». Рапорт подкреплялся актами, состряпанными Нехорошко, и вещественными доказательствами – изъятыми прокламациями. Следователь, ознакомившись с делом, решил, что карьера его обеспечена. Раскрыв бунтовщиков по всей Акмолинской области – ведь не сами же эти мужики печатали прокламации, – он имел основания рассчитывать на выдвижение.
Вначале все внимание жандарм сосредоточил на Федоре. Тот сам признался, что большевик. Но Федор на первом же допросе ответил:
– Листки я на базаре нашел, да не эти, эти мне подсунули. Прочитал и думками стал с большевиками, но до ареста о том ни с кем не говорил. Больше ничего не знаю. Зятя взяли совсем зря…
К этому показанию он до конца следствия ничего не добавил. Большей частью на допросах Федор молчал. Лишь изредка, когда его беспощадно избивали, говорил:
– Я вам давно все сказал. Делайте что хотите!
Карцер, побои, лишение прогулок на месяцы – ничто не помогало. Бледный, худой, Карпов по-прежнему держался твердо. Его на время оставили в покое и принялись за Кирилла.
К молодому парню следователь сначала применял более тонкие методы.
– Пойми: у тебя вся жизнь впереди – стоит ли за чужие грехи отвечать? Расскажи откровенно все, что знаешь про бунтовщиков, и вернешься к жене, к матери, – участливо говорил он Кириллу. Тот молчал.
– Ну, иди, подумай, потом вызову, – сдерживая злость, приказывал следователь, не теряя надежды выжать из этого парня все, что надо. Ему хотелось установить связь обвиняемых с петропавловскими революционерами. Там все еще что-то есть!
Другим методом была подсылка к Кириллу Василия, который считался уголовником. Но и тут палач просчитался. Дружба Кулагина и Железнова возрастала с каждой встречей. Задушевные беседы с молодым революционером разбудили в Кулагине все лучшие чувства; кроме того, обманывать ненавистного «легавого» доставляло ему большое удовольствие.
Убирая в одиночках, Василий передавал весточки от Кирилла Палычу и обратно. Потом ему удалось сообщить о них политическим, сидящим в левом крыле, в общих камерах. Время от времени Василия вызывали к начальнику тюрьмы, и он рассказывал следователю о своих разговорах с Кириллом – о доме, об Аксютке, дочке, матери… Так он договорился с Палычем и Кирюшей.




