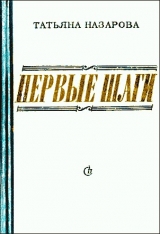
Текст книги "Первые шаги"
Автор книги: Татьяна Назарова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 39 страниц)
Взгляд Секлетеи смягчился.
– Верю, сынок! – просто ответила она. – А теперь пойди к отцу.
О чем говорили между собой будущие тесть и зять, никто не знал. Когда Сергей ушел, Семен Данилович приказал жене:
– Готовься к свадьбе. На пасху сваты приедут, а на красную горку обвенчаем их. Вашу половину готовь для молодых, сама перейдешь в мою. Денег не жалей, чтобы все было краше, чем у Савиных. Такую свадьбу справлю, что все купцы рот разинут. Дашку пошли ко мне, поговорить с ней хочу!
Глава двадцать вторая
1
Царскому правительству пришлось сделать вид, что оно забыло предательскую роль Англии в русско-японской войне. В тысяча девятьсот седьмом году подставной хозяин господин Карно «уступил» свои права на Спасский завод, Успенский рудник и угольную Караганду английскому акционерному обществу спасских медных руд и, получив солидный дивиденд, отбыл в Париж.
Господин Фелль стал главным директором и занял на Спасском заводе дом, в котором прежде жил «владелец» Клод-Эрнест Карно. Ни в чем другом не сказалась смена владельцев. Как и прежде, Фелль был озабочен одним – побольше выкачать прибыли для лондонских хозяев.
Куцый устав по горным работам и разъяснение к нему государственного департамента в части охраны прав рабочих систематически не выполнялись. Особенно угнетали рабочих из коренного населения на копях и заводе.
Несколько легче жилось рабочим Успенского рудника. Страх, пережитый Феллем на руднике в забастовку тысяча девятьсот пятого года, по-видимому, внушил ему должное уважение к горнякам.
Сказывалось и то, что под влиянием подпольной организации там укрепилась дружба между русскими и казахами. Топорков и Исхак неустанно расширяли влияние партийной подпольной организации на всех рабочих, в ней уже насчитывалось больше двадцати членов партии.
Ивана огорчало только то, что за последнее время его первый друг на руднике Андрей Лескин все дальше и дальше уходил от рабочих.
Тогда, сразу после забастовки, Фелль выполнил свое намерение – назначил Лескина мастером вместо уволенного Кривого. Сначала на Андрея перемена положения, казалось, не влияла, по-прежнему он дружески шутил с товарищами.
– Берегись! Начальство идет! – басил, входя в барак, и так забавно подмигивал, что все катились со смеху.
Защищал новый мастер шахтеров и от «англичанских палок». Авторитет его среди рабочих все больше возрастал. Но и Феллю Андрей также умел угождать – «дипломатическим разговором и обхождением», как, смеясь, говорил он Топоркову.
Когда Лескин перешел из барака в квартиру, предоставленную администрацией, он начал, под предлогом занятости, реже являться на собрания подпольной организации.
– Мастер-то я скороспелый, – объяснил он Ивану, – всему учиться надо. Больше буду знать – больше пользы сделать смогу для рабочего класса…
Против этого возразить было нечего, но Иван чувствовал, что его друг на другую дорожку свернул.
Андрей стал щеголевато одеваться. Вечера он проводил у фельдшера Костенко, которого накануне забастовки угрозами заставил прийти в барак к Исхаку. Его частенько видели с дочерью фельдшера, Ольгой, чинно гуляющими по центру рудничного поселка.
Ольга, девица лет девятнадцати, хорошенькая и веселая, висела на его руке и поминутно смеялась. Один раз, идя вслед за парочкой, Топорков услышал, как она сказала:
– Ой, Андрюша! Пойдем назад. Здесь эти вонючие живут, не передохнешь.
И молодой мастер беспрекословно повернул в сторону.
Постепенно Андрей перестал вмешиваться, когда кто-нибудь из старых мастеров попусту орал на рабочих, и когда ему жаловались на неправильный штраф, вздыхая, говорил:
– Что с ними сделаешь? Ну, скажу я, а он мне ответит: «Не лезь не в свое дело», – и все. Был бы смотрителем – другое дело. Сам-то я уж никого зря не обижу, видите, поди?
Шахтеры соглашались с ним. И верно, Андрей не обижает, а если когда и покричит, так ведь теперь такое его дело. Пока что Лескина считали своим, но многие, разговаривая с ним, начали снимать шапки, и он делал вид, что не замечает этого.
Иван пробовал вызвать друга на откровенный разговор, но Андрей уклонялся, отделывался шутками, а припертый к стене, говорил с обиженным видом:
– Не понимаю, Ваня! В чем ты меня винишь? Разве я обижаю ребят? Или партийным нельзя работать мастерами? Так почему ты этого не сказал, когда меня Фелль только назначил? Ведь Петр Михайлович смотрителем даже был!
– А так ли он себя вел с администрацией? – спросил Топорков.
– Мне с ним равняться рано. Я мастер без году неделя, – вспыхнув, ответил Лескин и под предлогом неотложного дела прервал разговор и ушел.
Однажды, придя к Топоркову необычно важный и разнаряженный, Андрей пригласил его на свою свадьбу.
– Женюсь на Ольге Костенковой, – сообщил он, широко улыбаясь.
– Ну, желаю счастья. Тебе виднее, – ответил Иван. – А Исхака тоже позовешь?
Лескин замялся и покраснел до корней волос.
– Неловко ему будет среди администрации… – наконец выдавил он смущенно.
– Ну, коли так, гуляй, парень, со своими без меня, – жестко проговорил Топорков и, не удержавшись, добавил: – Партию ты сменял на Ольгу. Я слышал сам, как она называла киргизов вонючими, а ты не возражал. Иди гуляй, мастер. О твоем поведении поговорим после свадьбы.
Опустив голову, Лескин молча пошел из барака.
Когда невеста спросила, будет ли на свадьбе его друг, Андрей хмуро ответил:
– Не хочет один идти…
На душе у него было невесело. Резкие слова Топоркова задели что-то глубоко спрятанное, но еще живое. Глядя прищуренными глазами на Ольгу, он словно оценивал: выгодна ли мена? Ольга, бойкая, задорная, всегда нарядная, ему нравилась, и, вдобавок… лестно было жениться на барышне.
«Значит, прав Иван! Изменил я партии, хочу откреститься от рабочих», – думал он.
Стало нестерпимо стыдно, жаль до слез того времени, когда не начальником был для рабочих, а своим, и они шли за ним не задумываясь. Теперь не пойдут – не туда он позвал бы их, куда звал раньше. На мгновение мелькнуло желание – убежать сейчас же к ним в барак, вернуть прошлое.
«Как же я оставлю Олю?» – подумал он, погладив пушистую головку невесты, прижавшуюся к его плечу, бессознательно лицемеря с собой.
Не хотел Андрей снова по двенадцати часов работать в шахте, ютиться в грязном бараке. Было бы лучше, если бы все его товарищи жили, как он, но всем так нельзя, а только немногим, лучшим! К ним начальство отнесло и его, Андрея, ему виднее. Вздохнув, он наклонился к Ольге и поцеловал в губы.
«Поздно! Я не могу обидеть Олю. Она меня любит…»
– Не огорчайся, Андрюша! Оно и лучше, что не пошел. Пора тебе забывать старое, ты же мастер, а потом смотрителем станешь. Господин Фелль тебя любит, – щебетала Ольга, глядя с обожанием на жениха. – Ты совсем им не пара!
И Андрей, сам втайне считавший себя выше других рабочих, развеселился.
Свадьба прошла, и молодые поселились в уютном гнездышке. Не один год мать копила приданое для своей Оленьки, было чем убрать маленькие комнатки.
– Надо прямо смотреть правде в глаза, – сурово говорил Иван Кокобаеву перед заседанием руководящей группы подпольной организации. – Лескин стал чужим. Он согласен платить членские взносы, но и только. А что про таких сказал Ильич? Только тот, кто готов, если потребуется, и жизнь отдать за дело партии, достоин быть в ее рядах. Из таких, как Андрей, меньшевики вырастают. Я тебе рассказывал – они вон зовут мириться с царем, тепленьких мест ищут для себя, чтобы потом нам на шею сесть…
Мастер пришел, когда уже все были в сборе. Собирались по-прежнему там, где жили Исхак с Топорковым, а раньше и Лескин.
– Андрей, ты знаешь, зачем тебя вызвали? – спросил Иван. – Сам-то давно не являешься, хоть медовый месяц и прошел.
Лескин взглянул на него. Левое веко задергалось. Идя сюда, он хотел сказать просто: «Не могу я сейчас работать в партии, не хочу лгать жене, а правду ей говорить нельзя».
А вот сейчас, чувствуя на себе суровые взгляды Друзей, Андрей понял, как трудно объяснить им свое поведение. Его, конечно, исключат. Значит, станет отщепенцем. «Одно остается – просить начальство, чтобы перевели отсюда. Но какая же причина? Правду сказать – станешь предателем», – думал он, низко опустив кудрявую голову.
– Что ж молчишь? Иль не хочешь разговаривать с нами? – жестко проговорил Иван.
– Не остановили вы меня, когда я в болото лез, а теперь потонул в нем по маковку, сами видите, – глухо произнес Андрей, не глядя на товарищей. – Исключайте, того достоин. Только верьте: предателем не буду, не бойтесь. И помехой большой не стану, а работать, как нужно члену партии, теперь не могу. О себе больше думаю.
Андрей смолк. Молчали и все. В искренности его никто не сомневался, и не гнев, а глубокое сожаление вызывал этот кудрявый богатырь, бессильно поникший сейчас.
«Не поддержал парня вовремя, допустил ошибку. Андрей прав», – с болью думал Иван.
Быстро вынесли решение и разошлись, не глядя друг на друга. Андрей ушел первым. Дома он не ответил на вопрос жены: «Где так долго задержался?», подошел к буфету, вынул графин с водкой и выпил подряд два чайных стакана.
– Да что с тобой, Андрюшенька? Иль беда какая случилась? – спрашивала Ольга, испуганно глядя на мужа.
– Беда? – переспросил Андрей. – Беда не велика! Совесть, свою рабочую совесть, в болоте утопил. Что ж, без нее легче жить, богатеть теперь с тобой будем, женушка! – пьяно пробормотал он и свалился на кровать.
Встревоженная Ольга осторожно разула его.
2
Давно убран урожай с полей, и на токах не слышно стука цепов. Но солнце, к удивлению людей, с восхода до заката слепит яркими лучами, небесная синь не закрывается осенними хмарами. Лишь желто-бурая трава за околицей да багряные листья на осинах напоминают вязовцам об осенней поре.
В теплые, тихие вечера и стар и млад спешат из душных изб на улицу: девушки с парнями – за селом хороводы водить, а кто постарше – на завалинках посидеть, ясным закатом полюбоваться, словом перемолвиться.
Еще хозяйки звонко выкликают: «Пестравка! Лысуха! Чернявка!», встречая стадо коров, а мужики уже группками расселись возле белых хат, ведут неторопливые разговоры между собой.
В центре Вязовки хаты большие, под стать им и хозяева – дородные, в новых рубахах, иные в пиджаках или жилетках. Они разговаривают негромко, медленно, важно.
Ближе к краю – хаты ниже, с одним-двумя крошечными оконцами. Возле них собираются посидеть мужики сухощавые, сгорбившиеся. Ни пиджаков, ни картузов с твердыми, блестящими козырьками здесь не видно. Говорят они не стесняясь. То громко засмеются над складной прибауткой, то крепко выругаются, обсуждая свои горькие дела и перенесенные за день обиды.
Возле крайней хатенки, у самой околицы села, группа человек в десять. В середине на завалинке сидел пожилой, судя по одежде – мастеровой. Возле него расположились мужики – кто на завалинке, кто присел на корточки, а один, с льняной непокрытой головой, в рубашке, испещренной многочисленными заплатами настолько, что и не разберешь, из какой материи рубашка когда-то шилась, прилег на траву и, опершись на согнутый локоть, испытующе смотрел очень светлыми глазами, глубоко ушедшими под сильно развитые надбровные дуги, на горожанина.
– Вот ты, Семен Гурьич, сказываешь, что рабочему человеку трудно жить в городе, дескать, выпили всю кровь заводчики да фабриканты, – заговорил он. – А думаешь, в селе лучше? У нас свои живоглоты есть, не хуже городских…
– Робишь на них лето целое с рассвета до темной ноченьки, часов не считаешь, а зима придет – клади зубы на полку, – перебил его тщедушный мужичонка, придвигаясь ближе к завалинке.
– Только и то, что хозяевами считаемся, – произнес со вздохом пожилой мужик, сидящий рядом с Антонычем. – Земли куцый надел, во дворе дохлая лошаденка, похозяйствуй тут! Собрал я нынче большим свалом семь мешков, а у меня и ртов семь. Хоть и девчонки, а кормить надо. Поневоле пойдешь толстопузым кланяться, – в голосе мужика прозвучала тоска.
Одни сочувственно вздохнули, а кто-то забористо выругался.
– Что правда, то правда! Поглядел я, ездючи с молотком да зубилом по селам, и понял: не легче нашего иным мужикам, – тихо сказал Антоныч. – Мне вот в одном селе служивый листок дал, складно в нем написано про нашу горькую жизнь. Почитал бы вам, да только смотрите, чтоб кто из богачей не узнал иль начальство, – беды не оберешься…
– Читай, читай, Гурьич! Никто не узнает, – раздалось сразу несколько голосов.
Все придвинулись ближе к нему. Лежавший на траве поднялся и сел, подогнув ноги.
– «…Помещикам царь обеспечивает все права, сохранность имущества, нажитого потом, кровью батраков, работников, арендаторов, на защиту их он посылает войско и полицию, – голодным крестьянам он грозит смертью и тюрьмой. Каждого манифеста крестьяне ждут с трепетом и волнением: не будет ли чего насчет прирезки земли, насчет сбавки аренды, уравнения прав крестьян с другими сословиями? И каждый раз они обманываются в своих ожиданиях», – читал медленно Антоныч.
– Наши пузаны не хуже помещиков, – угрюмо, сквозь зубы, выдавил светлоглазый мужик.
– Помалкивай, слушай! – толкнул его в бок отец пятерых дочерей.
– «…царский манифест от времени до времени возвещал крестьянам одну милость – сложение недоимок, когда скотина недоимщиков была продана, хлеба не осталось, сколько ни секи, сколько ни сажай в холодную – от этого денег не добудешь…» – прочитал Антоныч и остановился.
– Эх, мать честная! Ну, будто про нас писано! – вскочив на ноги, вскрикнул тщедушный мужичонка и хлопнул шапку о землю.
– Да что вы мешаете читать? – недовольно заворчал другой, широкоплечий, чернявый.
– Темно стало, не вижу ничего, а тут еще много написано, – проговорил слесарь, складывая листок.
– Отдай мне! – быстро проговорил светлоглазый. – Грамотный я, без тебя мужикам прочитаю, – и широкой ладонью накрыл листовку вместе с рукой слесаря.
– И то, Гурьич! Ты ж утром уедешь, на что тебе листок-то? Про хрестьян там правда сказана, – заговорили мужики.
– Да мне что, могу оставить. Только как бы беды не нажить: узнают, что я дал, – еще с кутузкой познакомишься…
– Христос с тобой! Пошто такое про нас думаешь? Никто из лиходеев не увидит и не услышит. А коль и дойдет, присягу примем: нашли на базаре – и весь сказ! – поднявшись с завалинки, сказал пожилой мужик, хозяин землянки. У него слесарь жил всю неделю на постое.
Антоныч выпустил листовку, и образованный мужик немедленно спрятал ее за пазуху.
– Ты, Филат, приходи ужо вечерком, почитаем да обмозгуем, что к чему, – предложил ему хозяин дома.
…Федулов выехал из Родионовки в Ольгинку и, проработав там две недели, перебрался оттуда в Борисовку, потом – в Андреевку и так до самой осени бродил по селам, изучая обстановку, осторожно беседуя с мужиками, которые победнее, а где было удобно, оставлял при уходе и листовки.
Наутро, после завтрака, тронулись из Вязовки и к закату были в Родионовке. По старому знакомству, Антоныч заехал прямо к Полагутиным, к своему ученику.
Андрей за лето стал настоящим слесарем. Мастерскую он устроил у себя в сарае – про то знало все село, и работу несли к ним на дом. Случалось, что некоторые заезжали и из окрестных сел со старыми ведрами да поломанными замками. Работы хватало.
– Уж до чего кстати приехал, Семен Гурьич! – радостно говорил Полагутин гостю. – Андрей ведь завтра именинник. Погуляешь с нами. На ноги парня поставил. Начал молотком стучать – так всю тоску с него как рукой сняло. Тебе за то великая благодарность!
Хозяйки готовили угощение. Им помогали сестры Татьяны – Аксюта и Машенька. Аксюта, поздоровавшись с гостем, блеснула глазами и заявила, что надо идти Танюшку кормить, но, выйдя от сватов, побежала к Карповым.
Федор строгал за верстаком, делая грабли. Услышав новость, он быстро убрал инструмент и, зайдя на минутку в избу, тотчас же ушел, сказав дочери:
– А ты, Аксюта, немного посиди у нас, потом пойдешь.
Летние и осенние работы в селе были окончены, и Прасковья сидела за кроснами. Лен не удалось вырастить в Родионовке, но конопля росла. Грубоват холст из конопли, а на полотенца и скатерти годится. Ведь третья невеста подрастает, Машеньке десятый год идет, уж книжки читает, грамотейка.
Склонившись над бердами, мать с дочерью рассматривали полотно. Когда Федор вышел, Прасковья спросила дочь:
– Куда пошел отец, не знаешь? Ты, что ль, какую новость принесла?
Аксюта улыбнулась матери. Она верила теперь ей, но отец запретил кому бы то ни было говорить правду об Антоныче.
– К сватам приехал тот слесарь, что учил Андрея работать. Я сказала тятеньке, – ответила она матери.
– Дай ему бог здоровья! – с ласковой улыбкой промолвила Прасковья. – Кабы не он, так не знай, что бы Андрей и делал. Он, поди, скоро не уедет? Больно хочу увидеть его…
– А как же! Сват ни за что не пустит… Ну, я побегу, мама! Танюшка давно, наверно, кричит.
Аксюта направилась к дверям. Мать проводила ее до ворот.
Вернувшись, Прасковья села за стан, но долго не притрагивалась к бердам, задумчиво глядя на нити основы.
– Из-за своей дурости два года мучилась не знай как, – произнесла она вслух и покачала головой.
«Уж как же сейчас хорошо живем с Федором, душа в душу! И тот ирод будто отстал, – подумала Прасковья и засмеялась. – Как его тогда одурачили! Бог дал и дочкам счастливую долю, поглядишь – сердце радуется. Пострадал Андрюша, да и то сказать – с одной ногой трех двуногих стоит. Кабы дождаться, чтобы и третью дочку определить так же…»
Мечтая о будущем, она забыла про тканье, но вдруг спохватилась:
– Ой, да что ж это я сижу сложа руки! – и проворно застучала бердами, засновала челноком.
«Скорей бы пришло то время, о каком отец говорит! Тогда бы и вовсе ни о чем душой не болел…» – вились, как уток, мысли.
Федор, доверяя жене, все же говорил ей мало о том, что считал для себя главным, – не хотел волновать. Еще, может, придется горя вдоволь хлебнуть за него в будущем. Зачем же сейчас беспокоить? Его радовало, что жена последний год не мучилась от удушья, посвежела.
Сам он был все время настороже. Чувствовал, что чем больше мужиков узнавало правду, тем опаснее становилось: росла к нему вражда не только Мурашева, ко и всех его дружков.
Говорил ему Антоныч, чтобы шпиков остерегался, а как их узнать? Во всякие обличья рядятся. А будешь чересчур беречься – как же правду людям расскажешь…
Идя к Полагутиным, Федор подытоживал сделанное за лето. Рассказать Антонычу надо и спросить, что дальше делать. Приезжал к нему летом Мамед два раза. От Ивана первый раз весточку привез радостную. Федор тогда еще передал на рудник, что самый большой друг к ним из Петропавловска приехал. Топорков поймет, о ком идет речь. А вот неделю назад опять был Мамед с запиской от Ивана. Просят, чтобы друг к ним приехал, в помощи нуждаются, неприятности какие-то начались. Хорошо сделал Антоныч, что заехал. Они с Кирюшей думали, что Федулов давно в городе.
– Здорово живете! – сказал Федор, входя к сватам. – Ой, да у вас гость! Здравствуй, Семен Гурьич! – Он крепко сдавил руку слесаря.
– Уж до чего обрадовал! Прямо к именинам подоспел! – отозвался весело Денис Лукич.
– Семен Гурьич, тятя, идемте в мою мастерскую, покажу вам, что удумал. Не будем хозяйкам мешать, – позвал гостя и тестя Андрей.
Втроем они вышли из комнаты. Отец Андрея остался в избе, продолжая возиться с хомутом. Аграфена Митревна, распрямившись возле печи, улыбчиво посмотрела вслед уходящим. Она гордилась сыном: «Не долго учил слесарь, а он все делает не хуже его, да, вишь, свое еще удумал…»
3
– Долго ты ездил, Гурьич! Я уже беспокоиться начал, – взволнованно говорил Дмитрий, сидя в слесарной мастерской «Каткова С. Г.».
Антоныч, возвратившись из Родионовки, сразу же открыл мастерскую. Увидев на улице знакомого городового, он зазвал его к себе и напоил так, что тот еле-еле на ногах держался.
– Чего мне не пить! – бахвалился слесарь. – Поездил, копейку зашиб.
Городовой опрокидывал стакан за стаканом и поддакивал хозяину.
– Я завсегда тебя, Гурьич, поддержу, – говорил он. – Ты человек смирный, не то что некоторые. Я так и его благородию господину приставу говорил и еще скажу. Меня не проведешь…
К Трифонову Антоныч сам не пошел. На другое утро после гулянки с городовым он, притворяясь пьяненьким, прошел мимо окон его квартиры, распевая во все горло: «Ой, да ты калинушка!..» А на следующий день пришел Дмитрий со сломанным замком.
– У меня много новостей, – рассказывал он торопливо, вертя в руках замок. – В кружке теперь мы читаем «Мать» Горького. Ребята горят желанием работать, как Павел. Приходится сдерживать и самому заставлять ходить на вечера время от времени, чтобы не догадались родители Вали. Приходил ко мне из слободки Виктор Осоков, просил книжечку: «Дай вроде той, что мне Семен Гурьич давал». Возчики сейчас уехали в Петропавловск, и знаешь, Михаил Антоныч, – забывшись, Трифонов назвал слесаря настоящим именем и, густо покраснев, оглянулся на входную дверь, – я дал ему прокламации. Парень он надежный. Просил очень! «Мы теперь возле сел останавливаемся, незаметно оставим там, мужички прочитают. Ведь Семен Гурьич в другую сторону поехал, на него не подумают, да и на вас тоже. В Алексеевке и далее. От Акмолов далеко», – говорил он.
Дмитрий смолк и тревожно посмотрел на Федулова. Правильно ли поступил?
– Ну что же. Палыч вон говорит: «Коль рисковать не будем, как до мужиков правда дойдет?» Правильно говорит! – отвечая на вопросительный взгляд Дмитрия, задумчиво промолвил Антоныч.
– Главную новость я приберег под конец, Гурьич, – продолжал успокоенный Дмитрий. – Из Иркутска вернулся здешний старожил Мокотин Трофим. Член партии и большевик! – голос Дмитрия зазвенел радостью. – Нашего полку прибыло!
– Ты где с ним встречаешься? – быстро спросил Антоныч.
– У одного служащего переселенческого управления, члена нашего кружка.
– Поосторожнее будьте! За Мокотиным, наверное, хвост таскается. Мне тоже следует с ним увидеться. Придумать надо, как. У меня нельзя. Будем эту явку беречь от подозрений, – сказал Антоныч и смолк, задумавшись.
Молчал и Трифонов.
– Знаешь, что? – оживившись, заговорил слесарь. – Скажи ему, пусть в пятницу к вечеру зайдет к возчику Романову в слободку. Можно сказать, что ищет дольщика к весне на пахоту. Я там буду. Поговорим о делах. На рудники ехать нужно кому-то. Ему, пожалуй, легче всех, а может, и тебе придется. Наделал ошибок Иван, все развалится, если не помочь вовремя…
4
«…За последнее время в городе появился бывший акмолинский казак, сосланный в Иркутскую губернию, Мокотин Трофим Данилович, прибывший, по агентурным сведениям, в Акмолы по поручению революционных организаций в Иркутске с целью агитации в Акмолинском уезде и в Акмолинске. Сошелся с проживающим здесь частным поверенным Трифоновым, административно высланным из Омска. Лица эти вошли в сношения со служащими переселенческого управления. Первого февраля Мокотин выехал на Спасский завод, завтра туда же едет Трифонов.
Цель поездки – поднять и подготовить рабочих ввиду предстоящих будто бы в будущем мае каких-то важных событий…
Прошу ускорить назначение на завод пристава. Обстоятельства могут осложниться. Присутствие на заводе ответственного полицейского чиновника является необходимым.
Подробное донесение представляется почтой.
4. II. – 1907 г.
Уездный начальник Нехорошко».
Подписав телеграмму и передав ее своему помощнику для отправки в Омск, Нехорошко, откинувшись на спинку стула, забарабанил пальцами по столу.
«Черт его знает, что творится в уезде, – раздраженно думал он. – Из центра сообщают, будто революционные организации везде разгромлены, а у нас в захолустье поднимают голову…»
Протянув руку, он взял лист, исписанный печатными буквами, и начал читать, то хмурясь, то кусая губы.
«…Пусть же голодный, бесправный, борющийся деревенский бедняк пристанет к борьбе городского пролетариата. Пусть скорее осознает все крестьянство, что царское правительство мешает добиться ему лучшей доли, что только всенародное восстание освободит угнетенный народ, что судьба народа должна быть в руках народа. Пусть же крепнет и растет связь деревенской бедноты с борющимся рабочим классом, пусть общей будет борьба, общим путь к недалекой победе…»
Нехорошко швырнул листок на стол.
«Прокламации обнаружены в Алексеевке и в Борисовке, на разных концах от города. Писали, конечно, городские. „Пролетариев“ в селах не знают. Но кто же разбрасывает листовки?
Эти двое в села еще не ездили. Значит, есть у них помощники. В Борисовку могли прокламации попасть из Родионовки – там шайка Карпова действует. А в Алексеевку как? Зятек Карпова летом в Петропавловск не ездил.
Надо выявить крамолу, а то сам за них сядешь. Вон как смело пишут, подлецы!»
Уездный вновь потянул к себе прокламацию.
– «…Ни одного рекрута, ни одной копейки налогов, никаких повинностей…», – прочитал он с раздражением вслух.
Его помощник удивленно на него оглянулся.
– К бунту, сволочи, призывают крестьян, – пояснил ему Нехорошко.
Тот сочувственно посмотрел на своего начальника: «Кто-то безобразничает, а вам беспокойство!» – говорил его заискивающий взгляд.
– Пора с этим Карповым кончать, да и его дружков бы надо прихватить, особенно зятька, – заговорил опять уездный начальник, то ли обращаясь к помощнику, то ли рассуждая сам с собой. – Мурашев не дурак, правильно подметил сразу – вся Родионовка стала роем разозленных ос. Хозяевам рот раскрыть мужики не дают. А всему голова этот Палыч со своими дружками. Всем понятно, и Бориска об этом рапортует, а с поличным поймать не могут…
Нехорошко быстро заходил по кабинету, нервно похрустывая суставами пальцев.
«Несомненно, по ближним от Родионовки селам прокламации идут через Карпова, – размышлял он. – Значит, они у него есть. Но как поймать? Давно живет Борис у Коробченко, будто дружит с ним Кирюшка Железнов, зять Карпова, а до сих пор ни одним словом не проболтался. Видно, раскусили, в чем дело. Хитер бестия этот Федор! Грамотей, книжки читает…»
Внезапно он круто остановился и с просветлевшим лицом вновь взял в руки прокламацию. Порылся в ящике стола и нашел еще несколько листовок, свернул их аккуратно и перевязал бечевкой. Посмотрев на сверток, он весело, раскатисто захохотал.
– Эврика! Решил задачу. – Сказал и лукаво подмигнул помощнику. – Пара месяцев терпения – и будут все в мышеловке! – Быстрым движением рук он показал, как прихлопнет мышеловка родионовских бунтарей.
Еще не поняв замысла, помощник подобострастно засмеялся, глядя с восхищением на своего шефа.
– Вернется со Спасского Николка – сразу же позовите ко мне. Он это дело обтяпает в два счета. Карманники на такие штучки большие мастера, – распорядился Нехорошко и, простившись с помощником, вышел из кабинета.
В успехе задуманного был уверен, можно и к приставу на пульку пойти.







