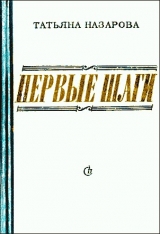
Текст книги "Первые шаги"
Автор книги: Татьяна Назарова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 39 страниц)
– Ты что, Наташа? – взволнованно спрашивал Аким. Никогда еще жена так не плакала.
– Без тебя больно скучать буду, – прошептала Наталья.
– Не плачь? Уж таких те гостинцев привезу! – целуя жену, говорил Аким.
Мурашев издали хмуро наблюдал эту сцену и, не выдержав, закричал:
– С богом, трогай!
Аким оторвался от жены и поехал вокруг стада. Наталья, сжав руки, с отчаянием смотрела ему вслед.
– Мамынька! Пойдем к нашим. Чего тебе скучать-то одной! – говорила ласково Аксюта свекрови, собираясь к своим.
Аксюта и в самом деле не сердилась на свекровь. Сбили старуху с толку, она и наговорила бог знает что. Теперь они с Кириллом старались не оставлять мать одну. Коль что, так отводили ее к Прасковье. Той никогда не надоедало разговаривать со свахой, да с ней и молчать можно было. Евдоха сама любила поговорить, а слушать ее не обязательно: она ведь быстро забывала сказанное, невпопад с ней не влетишь! Когда к Карповым собирались мужики поговорить о секретном, тогда Прасковья сама шла к свахе.
Аксюта часто сидела в одном платочке, повязанном сверх уложенных венцом кос, но Евдоха на это не обращала внимания. Галька к брату не ходила, а Параська зашла лишь недели через три. Черные тени вновь появились у ней под глазами.
– Опять грызут? – с жалостью спросила Аксюта.
Параська безнадежно махнула рукой.
– Черти всегда чертями останутся, – сказала она с горечью.
А когда Аксюта пошла провожать ее до ворот, Параська шепотом предупредила:
– Этого Борьку берегитесь. Больно ласково и долго с ним свекор разговаривает. Только не гоните, привечайте, а то опять меня бить будут. Из-за него и к вам-то пустили.
Аксюта обняла и поцеловала золовку.
– Не бойсь, не узнают, – шепнула она.
…На покосе Аксюта еще работала наравне со всеми, а во время жнитва ей уже стало трудно наклоняться. Но со стороны ничего не было заметно, сказать же хотя бы матери она стеснялась.
– Ох, и раздобрела Окся замужем! – судачили молодые бабы, подруги Аксюты. – Любо-дорого смотреть!
Когда увезли последние снопы к овину, Аксюта, корчась от боли, едва до дому дошла.
– Ты, дочечка ж моя милая, что ж это ты побелела вся, как мука? – растерянно говорила Евдоха, суетясь возле снохи, свалившейся на кровать. Никогда Аксюта не хворала, и свекровь не знала, на что и подумать.
Неожиданно забежала Параська. Глянув на Аксюту, она провела рукой по ее животу, выдавшемуся оттого, что Аксюта лежала, запрокинувшись, на спине.
– Уж не сглазили ли, помилуй бог? – сказала Евдоха дочери.
Параська положила ноги Аксюты на кровать, подсунула ей подушку под голову, бросив матери:
– Какой там сглаз! Родит она. Давно я догадывалась, да не знала, что так близко.
Евдоха совсем растерялась.
– Вода горячая в печке есть? Ставь самовар, – приказала Параська и кинулась к Аксюте.
– Кричи, не кусай губы, – учила она. – Кончится скоро. Что ж ты молчала доси?
Аксюта не отвечала. Невыносимая боль разрывала ей все внутренности. Из прокушенной губы струилась кровь. Параська что-то делала, склонившись над ее ногами, ей было стыдно, но мука заглушала чувство стыда. Наконец, когда она подумала, что, может, уже ее смерть пришла, сразу стало легко, и сейчас же послышался детский крик.
– Мама, дай нитку! – крикнула Параська, перевязала пуповину и поднесла к глазам Аксюты красненькое, сморщенное, громко кричавшее тельце.
– Ну вот и слава богу! Поздравляю, Аксюта, с дочкой, тебя, мама, со внучкой, а у меня теперь есть племянница, – промолвила взволнованно она. – Завернуть есть во что?
Евдоха кинулась было к своему сундуку, но Аксюта, через силу пошевелив губами, прошептала:
– Все есть! Сверху в сундуке.
Евдоха достала большой сверток, и Параська выхватила из него белую пеленку, ловко завернула крошечный красный комочек, передала матери. Когда пришел Кирилл, Аксюта, вымытая, лежала на чистой постели и глядела на него бездонными глазами, светящимися счастьем и нежностью молодой матери.
Евдоха, сидя возле печки, качала внучку на руках и что-то без слов мурлыкала. Параська встала брату навстречу.
– Ну, братуха, поздравляю с дочкой! Мне спасибо скажи, что повитухой невзначай стала…
Кирилл на мгновение остолбенел, потом кинулся к жене.
– Аксюта! Да как же ты? Зачем ты снопы-то седни таскала?
Параська рассмеялась.
– Таскала до тех пор, пока дочка на волю не попросилась, – пошутила она. – Дочь-то посмотри да за свахой сбегай.
Но Кирилл не слушал ее, глядя с испугом на жену. Его обуял страх. А вдруг Аксюте худо будет?
Аксюта улыбнулась мужу.
– Дай мне дочку и ступай за мамой, – попросила она.
Кирилл неловко взял ребенка, открыл простынку, взглянул на крошечное сморщенное личико и вдруг заволновался. Их дочка! Подойдя к кровати, он положил малютку рядом с женой. Ему хотелось поцеловать Аксюту, но он стеснялся сестры.
Параська догадалась.
– Ну, поцелуй Оксю да ступай. Я дождусь сваху, – сказала она.
Кирилл поцеловал жену, повернулся к сестре и схватил ее за руки.
– Спасибо, Парася! Век не забуду, – прошептал он и выскочил из комнаты.
Вернулся он с тещей и Машей.
– Эх, дочка! Ну и скрытная ты, матери и то ничего не сказала, – укорила Прасковья, нежно целуя дочь. – Спаси Христос сваху, а то наделала бы беды. Вылитая мамынька! Ту, бывало, рассказывала сама покойница, тоже до родов не замечал никто. Уж как хотите, а внучку назовем Танюшей, в честь мамыньки, прабабушки ее. Клятву я дала, что первую Татьяной назову, – говорила Прасковья, взяв ребенка у Евдохи.
– Что ж! Хорошее имя, – вперед всех ответила Евдоха. Кабы Прасковьей, так ей было бы обидно, а Танюшей можно.
– Танюшенька! Правда, Кирюша, хорошо? – спросила Аксюта.
Кирилл, широко и радостно улыбнувшись, кивнул.
– Таня, Танюша! – напевала Машенька, забрав племянницу у матери, но Евдоха сейчас же отняла внучку.
Аксюта ласково улыбнулась свекрови.
– Ну, я пошла. Поди, дома меня потеряли. Смотрите, кумой я буду, – предупредила Параська, идя к дверям.
Маленькая Танюша с первого мгновения своей жизни завоевала сердце бабушки. Были у Евдохи внуки, сыновья Гальки и Параськи, но она их почти не видела, и к ним старое сердце не привязалось. Танюшка родилась у нее на глазах, с первым криком взяла она ее на руки, и всю скрытую нежность старушка отдала внучке. Даже Аксюту она любила теперь больше, сознательнее. Евдоха стала рассудительнее, ухаживала за снохой, кричала на нее, если Аксюта хотела встать.
Когда через три дня появились гостьи с подарками к роженице, Евдоха выбрала самую нарядную распашонку, вышитую простынку и одеяльце для своей ненаглядной Танюшечки.
Галька пришла на шестой день с богатыми дарами. По своей ли охоте или по указке со стороны, но она решила помириться с братом и снохой.
– Крошечка ж ты моя! Глаза-то прямо Кирюшины! – говорила она, качая племянницу на руках.
И снохе и сватье она наговорила кучу ласковых слов, но во дворе, прощаясь с матерью, сказала:
– Замучили тебя, мама! А ты не больно трясись над ней, побереги руки-то…
Евдоха рассердилась на дочь.
– Ты что мне голову морочишь опять? – закричала она громко. – Тю на тебя! Да я только жизнь узнала, как Аксюта пришла. А Танечку никому и тронуть не дам, сама вынянчу…
– Да тише, мама! – испугалась Галька. – Коль тебе хорошо, так мне больше ничего и не надо. Девчушка славная, вся в нашу породу…
Евдоха смолкла, но раз и навсегда решила, что от Гальки Таню надо беречь – еще сглазит. Когда вечером, после ухода гостей, Кирилл спросил у матери, что ей говорила Галька, Евдоха ничего не скрыла и долго про себя бубнила, качая ребенка на руках:
– О то ж мне, злыдня!
– Ой, мама и избалует Танюшу! – говорила Аксюта мужу. – С рук не спускает.
Горячая любовь свекрови к Тане покорила Аксюту. В семье Железновых настал прочный мир.
…Не то было у Мурашевых. Сопротивление Натальи, молчаливое и мягкое, разжигало Петра Андреевича, а не отталкивало. Он считал, что только страх перед окружающими заставляет красивую сноху увертываться от него. Петр Андреевич стал груб, раздражителен с семейными, никто ему не мог угодить.
Наконец начетчик придумал как уломать упрямицу. С утра он начал ругать Демьяна за то, что будто бы долго возится тот с уборкой дальнего клина на арендованной земле. До него было верст десять.
– Сейчас поеду туда, батюшка, – ответил сын.
– Сам съезжу, – ответил отец. – Наталья, приготовь несколько кусков, попутно в аул заедем. Пора тебе привыкать к торговле с киргизцами. Акиму, да и мне времени нет, – приказал он старшей снохе, не глядя на нее.
Наталья стала белее стены. Даже Демьян заметил перемену в лице жены старшего брата и пристально посмотрел на отца.
«Чтой-то с ней? Уж нет ли худа?» – подумал он.
– Может, Илюшку возьмете? Пусть привыкает, – предложил Демьян отцу. Илюшке, старшему сыну Акима, шел одиннадцатый год.
– Рано еще привыкать-то ему. В городе вперед в школе учиться будет, а потом и к торговле приучим, – ответил отец и пошел из комнаты.
Наталья, пошатываясь, ушла к себе.
«Теперь конец! – думала она. – Либо отказаться ехать, значит прямо сказать ему все, погрозить Акимом – и прощай город. Может, еще женится свекор-то… – мелькнула у нее мысль. – Тогда и вовсе шиш достанется. Либо ехать и знать, зачем… Страшно и стыдно!»
Ничего не решив, Наталья пошла в лавку, отложила несколько цветастых кусков. «А может, я уговорю его, греха побоится», – размышляла она.
– Готово? – крикнул свекор, подъехав на пролетке к дверям лавки.
– Я уговорю его, – обманывая себя, шептала Наталья и, взяв куски сатина, пошла к двери.
…Вернулись домой вечером. Петр Андреевич, сидя за ужином, рассказывал сыну:
– Пробрал их хорошенько – сразу зашевелились. А вот, – он засмеялся, – с киргизцами-то наша Наталья Михайловна совсем торговать не умеет, учить придется…
Наталья только улыбалась, как будто в гостях сидела. «Сама поехала. Если узнает Аким, убьет обоих. Скрывать надо», – решила она дорогой.
«Чтой-то вдруг больно развеселился отец?» – недоумевал Демьян.
Глава восемнадцатая
1
В день ареста Григория, Федота и Семина рабочие депо, отработав восемь часов, ушли, не слушая уговоров цеховых мастеров. Они хотели таким образом установить восьмичасовой день – это было основным требованием забастовщиков.
На совещании, проведенном в тот же день вечером, Антоныч говорил, что такая половинчатая забастовка ничего не даст, разве что увеличит число арестованных, но Вавилов и Белоконь настаивали на ее продолжении.
После ухода Вавилова с городскими товарищами и Белоконя Федулов сказал:
– Боюсь, что это уловка одного и недомыслие других. Трех большевиков арестовали, но нас с Алешей товарищи закрыли собой. А Константин, по-моему, не против, чтобы мы с тобой, Алеша, оказались рядом с Григорием.
– Зачем ему? – спросил хмуро Степаныч.
– Ну, хотя бы затем, чтобы оменьшевичить всю подпольную организацию, а возможно и хуже.
– Ты, Антоныч, по-прежнему подозреваешь Константина? После того разговора я за ним все время наблюдаю – ничего не заметил, – возразил Алексей.
Федулов покачал головой.
– Враг может быть очень хитрым. Во всяком случае, завтра не спеши вперед других к выходу, – приказал он. – Будем настороже, и если нас заберут, то помни, Степаныч: это будет его дело.
Разошлись все хмурые. Забастовка явно потерпела поражение. Четверо сидят под арестом, а тут еще подозрение Антоныча… Вавилов последнее время работал активно, меньшевистских речей не повторял, но слишком велик был авторитет старого слесаря, и его слова взволновали и насторожили членов комитета.
Алексей прямо с совещания пошел к Кате Потаповой – узнать, как она там с ребятами.
В домике Потапова светился слабенький огонек коптилки. Когда Алексей вошел в кухню, Катя сидела с какой-то починкой в руках, а ребята лепились возле огонька с книгами – готовили уроки.
– Добрый вечер, Екатерина Максимовна! Здорово, богатыри! Как дела? – подходя к столу, бодро заговорил Шохин.
– Дядя Алеша! – кинулся к нему младший. – А папа скоро вернется?
У Алексея сразу заныло сердце. Что может ответить он малышу? Когда вернется и вернется ли Гриша, кто может из них знать! «Если провокатор не выдал их, то вернется», – неожиданно для себя подумал он. Миша, не спуская с него глаз, ждал ответа; искоса поглядывал и старший брат.
– Не знаю, Мишенька! – чистосердечно признался Алексей. – Мне ваш отец рассказывал, что вы знаете про то, как борются рабочие, и даже умеете об этом молчать. Так вот, я вам скажу, что папа ваш хороший борец, а сейчас попал в плен к врагам. Когда ему удастся освободиться из этого плена, неизвестно. Но вы ведь сильные ребята, плакать не будете?
– Нет! Нет! – сразу ответили Саша и Миша, но у Миши слезами заволокло глаза.
Мать поглядела на них и, подавляя вздох, улыбнулась.
– Они вон говорят, что как подрастут, так всех полицейских побьют, – сказала она.
– Что ж, до тех пор, когда они на наше место встанут, это будет правдой, а может быть, им уже и драться не с кем будет, до них врагов разобьем, – серьезно и задумчиво произнес Шохин. – Только помните ребята: об этом говорить никому нельзя.
Братья закивали головами.
– Вам, Екатерина Максимовна, может, чем помочь надо, пока Гриши нет?
– Спасибо, Алеша! Пока ни в чем нужды нет. А уж если… – Она не договорила, но Алексей понял ее. – Тогда работать начну, белье стирать буду, ребята большие, помогут мне. Вот Федотовой жене сейчас помочь надо, к ней сходите.
– К ней и к Семиной товарищи уже пошли, – сообщил Шохин.
Катя ласково посмотрела на него. «Хорошо, что товарищи про семьи арестованных не забывают», – говорил ее взгляд. Алексей посидел еще минут двадцать, послушал чтение Гришиных сыновей, задушевно поговорил с его женой и встал, собираясь уходить.
– Мы с Полей Мухиной завтра пойдем с передачей в полицию. Коль увидим их, так я вечерком забегу к вам, – пообещала Катя.
…На следующий день рабочие хотели уйти тоже после восьми часов работы, но у всех выходов оказались полицейские. Федулов и Алексей, ожидавшие с утра какой-нибудь провокации, вполголоса передали работавшим за ними:
– Ни с места! Оставайтесь у станков!
Из слесарей захватили трех человек, подошедших к дверям, а из соседних – токарного и кузнечного – восемь. Арестованных немедленно отправили в полицию, а выходы охранялись до гудка. Вооруженная охрана стояла на выходах из цехов еще три дня. Большевики разъяснили рабочим причины поражения забастовки и предложили отказаться от явочного установления восьмичасового дня, так как из этого ничего не выйдет. Работать под надзором полиции, давать возможность продолжать аресты не стоит, и рабочие прекратили свои попытки.
Восемнадцатого полицейские не явились, а девятнадцатого в Петропавловске был обнародован манифест царя. Вечером члены подпольной организации железнодорожной и городской собрались за монастырским кладбищем.
– А где же Костя? – спросил Белоконь.
– Его сегодня не удалось предупредить, – ответил Хатиз. – Он все время был у своего хозяина.
Федулов быстро взглянул на Хатиза, тот опустил глаза.
«Сутюшев подозревает по-прежнему Вавилова и, вероятно, просто не сообщил ему», – подумал он.
Открывая собрание, слесарь сказал:
– Товарищи! Царь обещает неприкосновенность личности, а пятнадцать наших товарищей томятся в тюрьме. Почему же полиция, вперед нас узнавшая о манифесте, до сих пор не выпустила их на свободу? Царь испугался стачек и поэтому щедр на посулы, но поверьте, это только уловка, попытка расколоть наши ряды, обмануть легковерных…
Активным противником его на этот раз оказался Белоконь.
– Тебе что-то, Антоныч, все в черном свете кажется. Победе радоваться надо! – кричал он. – Пойдем завтра все к полиции, потребуем – освободят…
После бурных споров решили немедленно организовать демонстрацию. Участники демонстрации должны были встретиться возле городского сада, дойти до полиции и потребовать освобождения арестованных товарищей, потом пройти до конца Вознесенского проспекта и возвратиться к железнодорожному вокзалу. Рабочих менового двора обещал привести Хатиз, городских и молодежь – Абдурашитов…
Лозунги железнодорожники написали крупными буквами на кумачовой полосе, прикрепленной с двух сторон к длинным древкам.
«Мы требуем действительной неприкосновенности личности, свободы слова, печати, собраний и союзов», – можно было издалека прочитать на ярко-красной полосе. За исключением первых слов, остальные были взяты из царского манифеста, поэтому когда железнодорожные рабочие с этим лозунгом шли стройными рядами, полицейские косились на них издали, но близко не подходили. Возле городского сада железнодорожников уже ждала толпа городских рабочих, служащих, учащихся… Всего демонстрантов собралось около четырех тысяч человек. Длинная колонна, занявшая всю ширину мостовой, производила внушительное впечатление. На тротуарах возле домов толпились городские обыватели. Они громко читали лозунги, обменивались впечатлениями, немногие переходили на мостовую и присоединялись к демонстрантам. Против управления полиции колонна остановилась и повернулась лицом к зданию. Передние ряды начали громко повторять:
– Мы требуем действительной неприкосновенности личности…
Скоро вся четырехтысячная колонна грозно повторяла:
– Требуем действительной неприкосновенности личности…
Плюхин, сидевший в своем кабинете, явно нервничал. Что, собственно, он может сделать? Требуют то, что написано в царском манифесте, и хотя данные обещания несомненно не будут выполнены, но нельзя же сейчас об этом им сказать. Вызвав своего помощника, полицмейстер приказал ему:
– Выйдите через двор и немедленно предложите Маслакову организовать демонстрацию членов Союза Михаила Архангела с царским портретом. Пусть встретят этих у вокзала. Без подталкивания никогда сам не догадается, – брезгливым тоном добавил он, прислушиваясь к гулу, становившемуся с каждой минутой громче и грознее.
Выждав несколько минут после ухода помощника, Плюхин обдернул мундир и вышел на парадное крыльцо. Колонка смолкла.
– Что вы хотите, господа, от управления полиции? – громко спросил полицмейстер, заложив пальцы левой руки за отворот мундира.
– Полиция лишила свободы пятнадцать железнодорожных рабочих только за то, что они вместе с нами хотели улучшить свое положение, – раздался молодой голос из задних рядов.
Говорил Шохин, но полицмейстер не мог его разглядеть, так как несколько молчаливых рабочих стояли плотной стеной перед говорящим: так было условлено заранее.
– Рассмотрение дела закончено сегодня, и завтра их уже не будет в полиции, господа, – ответил полицмейстер.
– Вы точно выполните ваше обещание? – спросил тот же голос.
– Для всех нас манифест его императорского величества закон, – высокомерно ответил Плюхин, повернулся и ушел в здание.
Колонна двинулась по проспекту. Все так же присоединялись одиночки, но вдруг многие начали отставать. Когда демонстрация, возвращаясь, дошла до городского сада, число демонстрантов уменьшилось вдвое. Антоныч уловил сзади шепот: «Черносотенцы нападут на демонстрантов…» – и сразу понял, почему столько отсеялось по пути. Подозвав Хатиза Сутюшева, слесарь предложил ему свернуть с городскими рабочими и молодежью к меновому двору, а железнодорожников предупредил, чтобы не поддавались на провокацию, не вступали в драку и возле вокзала немедленно разошлись по домам.
Черносотенцев железнодорожники увидели, повернув к вокзалу. Это были самые подонки городского населения. Они несли портрет Николая Второго и нестройно ревели: «Боже, царя храни!» Впереди шел огромный, растрепанный Егор Маслаков, известный в Петропавловске драчун и пьяница, за ним – два его компаньона. Все трое занимались подрядами и жестоко грабили городских возчиков и грузчиков.
Маслаков вел своих головорезов так, чтобы столкнуться с железнодорожниками.
– Сверните направо, по другую сторону сквера, и расходитесь по домам, – скомандовал Антоныч, пробираясь в передние ряды.
– Шапки долой перед портретом его царского величества! – заревел Маслаков.
– Иди ты к дьяволу со своей черной сотней! – послышались голоса рабочих.
– А, ты так! – размахивая кулаками, заорал «полицейский архангел».
Его оттолкнули. Начиналась драка. Несколько городовых стояли у вокзала и равнодушно смотрели на происходящее.
– Товарищи, защищайтесь, отходя! Не поддавайтесь провокаторам! – кричал Алексей.
Железнодорожники, выставив заслоны из наиболее сильных, быстро уходили в разные стороны.
Неожиданно прогремел выстрел. Пуля пронзила портрет царя.
– Бунтовщики! Стреляют в портрет государя-императора! – завопил Маслаков.
Полицейские кинулись на его крик. Но железнодорожников уже не было. Выстрелил кто-то из черносотенцев.
– Дурачье! Ничего толком не могут сделать. Арестовать, конечно, кое-кого можно, но попробуй докажи! – ворчал Плюхин, выслушивая Маслакова. – Надо было избить несколько человек и потом сунуть кому-нибудь пистолет…
Маслаков чесал кудлатую голову. Уж очень они скоро все ушли, да и кулаки у некоторых из них покрепче его – слесари, кузнецы…
…Двенадцать железнодорожников пришли в депо на следующий день к обеду. Белоконь, забежав в слесарный цех, торжествующе закричал.
– Ну, что скажешь? Манифест-то правдой оказался…
– А где еще трое? – мрачно спросил Федулов.
Белоконь растерянно оглянулся: и верно, троих нет.
– Их тоже освободили, – сказал токарь Иванченков.
Но его перебил высокий рябой рабочий:
– Освободили, да не отпустили. В ссылку, в Вологду, отправляют сегодня.
Иванчиков густо покраснел. Обычно молчаливый токарь после пятидневного пребывания в арестантской почувствовал потребность общения, захотел говорить так же свободно, как и другие. Последние два дня его держали в одиночке и вывели к товарищам, когда те стояли во дворе. Там он увидел Григория, Федота и Семина, но говорить с ними не пришлось, потому что его выгнал полицейский. Считая всех освобожденными, Иванчиков быстро побежал домой, чтобы успокоить жену, а потом кинулся в депо. Услышав неожиданно, что тех ребят гонят в ссылку, токарь смутился.
Трое рабочих сразу же побежали к семьям ссыльных – надо помочь им увидеть на прощание близких. Другие кинулись подготовить необходимое на дорогу для товарищей.
– Видел, как господин полицмейстер нас вчера обманул? – говорил расстроенный Федулов Белоконю. – Их действительно не будет в полиции сегодня. Без суда и следствия гонят сразу же в ссылку.
– Д-да! – протянул Белоконь растерянно.
Катя Потапова со своими сыновьями, Мухина и Семина в сопровождении товарищей прибежали к полиции, когда там уже стояла подвода для отправки ссыльных на вокзал.
– Ваше благородие, дайте нам проститься со своими кормильцами и проводить их. В таком и убийцам не отказывают, – смело говорила Катя, ворвавшись в кабинет Плюхина.
– Ваши мужья – государственные преступники, это похуже убийства. А впрочем, разрешите поговорить им со ссыльными, и пусть проводят, – обернулся он помощнику, желая, чтобы о его гуманности знали в городе. – Бедные женщины не виновны…
– Ну, богатыри, помогайте матери, пока я вернусь! – весело наказывал Григорий своим сынкам, но глаза его были полны тоски.
Катя изо всех сил крепилась, чтобы не заплакать. Она гладила мужа по плечу, разбирала дрожащими пальцами его русые кудри. Увидятся ли они еще когда?
– Тебе, Катя, будут помогать товарищи, а ты – им. Верно?
И Катя взглядом подтвердила, что верно, вместе или врозь, но она всегда будет идти с ним по одной дороге.
Пелагея Мухина, пригорюнившись, молча стояла возле мужа: с троими ведь остается, как их воспитать без отца? Уже четвертый десяток к концу идет… Но она не упрекала мужа: добра хотел себе и всем.
– Полюшка, не горюй! Товарищи не оставят. А потом я стану помогать. Найдется, поди, и там работа, – шептал Федот жене. – Ты ребят-то на вокзал приведи, охота взглянуть на них…
Семин, еще молодой парень, обняв жену, стоял и молчал. Не ждал он, что, едва начав жить вместе, им придется расстаться. Жена беззвучно плакала. Слезы капали, она их не вытирала.
– Свидание кончилось, – сказал полицейский, подходя ближе. Ему впервые пришлось отправлять арестованных, разрывать семьи, и у него кошки скребли па сердце. В чем вина этих ребят, он не понимал. – Поскорей поезжайте на вокзал, там еще поговорите. Я не буду мешать, – шепнул он, проходя мимо Григория.
– Слыхали? Быстрей ступайте на вокзал, – сказал Григорий женщинам.
Послышались всхлипывания, поцелуи, и посетители кинулись из двора полиции. Наконец и подвода двинулась.
– Мы, ваше благородие, пешечком пройдем, посмотрим на родной город, – может, долго не увидим. Наш поезд не скоро пойдет, – попросил Григорий.
Городовой кивнул головой – Плюхин не узнает.
Железнодорожники приготовились к проводам своих товарищей. По одному просочились они на перрон, охраняемый отрядом полицейских. Там же были и семьи высылаемых. Проводнику вагона передали для ссыльных вещи, продукты, деньги, письмо. Это был первый случай, что из Петропавловска, города, избранного царским правительством для ссылки революционеров, высылали политических.
Когда на вокзал под конвоем прибыли трое железнодорожников, волнение рабочих усилилось. Полиция пыталась удалить их от поезда, но они разбегались по путям и вновь собирались у вагона. Григорий, Федот и Семин глядели на провожающих через стекло. Спокойнее других держал себя Потапов, хотя и его глаза с трудом отрывались от жены и детей, стоящих на перроне. Когда поезд тронулся, он закричал:
– Мы вернемся, товарищи!
А на следующий день администрация преподнесла рабочим депо новый сюрприз – за исключением Иванчикова, уволили всех бывших арестованных.
– Интересно, почему такое предпочтение оказано токарю Иванчикову? – спросил Федулова Алексей.
– Его и арестовали-то по ошибке, он ведь не из активных. Наверно, разобрались, – ответил Антоныч.
Через два дня полиция предложила уволенным немедленно выехать из Петропавловска.
– Да! Царская «милость» быстро начала проявляться. Как считаешь, Белоконь? – спросил Федулов.
Тот молчал. Одиннадцать железнодорожников выехали в ближайшие села, пока без семей. Надо еще устроиться на новом месте, найти способ добывать кусок хлеба…
2
– Видишь, Антоныч, хотя стачечная борьба и продолжается еще в центральных районах страны, но революция пошла на спад. Об этом пишет Владимир Ильич. Но отсюда не следует, что мы должны опускать руки: работа должна быть усилена, только формы ее следует изменить, – тихо говорил молодой человек в тужурке студента, наклоняясь к старому слесарю, сидевшему за столом. – Нужно углублять и расширять революционную работу, втягивать в кружки учащуюся молодежь, накапливать силы…
Собеседник Федулова, студент Максим Ружин, всего неделю назад прибыл в Петропавловск из омской партийной организации. После проезда карательного поезда генерала Меллер-Закомельского ряды большевиков на Петропавловской станции очень поредели. Многих арестовали, многим пришлось уйти на нелегальное положение. Из Петропавловска в числе других поехал в Вологду и Алексей Шохин. Антоныч избежал ареста только потому, что, предупрежденный Вавиловым, в последнюю минуту перед приходом жандармов ушел с квартиры.
Слушая Максима, Антоныч вновь и вновь раздумывал: кто же Вавилов? Сейчас, когда он уезжал, ему стало страшно при мысли о возможной ошибке. Он вспоминал события, предшествовавшие аресту Алексея. Его забрали в конце рабочего дня, совершенно неожиданно. Вызвали на допрос – и больше не вернулся. Перед ним вызывали токаря Иванчикова, и когда тот возвратился, сразу же увели Шохина.
Вавилов прибежал к Федулову ночью, взволнованный.
– Антоныч! – жарким шепотом заговорил он сразу. – Экспедитор хозяина – он все время толчется на вокзале, отправляет товары, – сказал мне, будто кто-то из железнодорожников выдал тебя и Алешу. Ему каратель рассказал. Вам с Алексеем нужно немедленно скрыться. Где Алеша?
Когда Федулов сообщил, что Алексея вызвали и он не вернулся, Константин даже застонал:
– Опоздал я! – И заторопил Антоныча: – Скорей уходи, мне тоже надо бежать…
Антоныч немедленно ушел с квартиры. И вовремя: ночью за ним приходили. Почему первого взяли Алексея? Федулов вспомнил, что в кружке, в который ходил токарь Иванчиков, вел работу Алексей. Если токарь предатель, то понятно. Одно несомненно: Вавилов с карателями связи не имел, а Иванчиков только после ареста начал интересоваться политическими вопросами…
Уже две недели Федулов был на нелегальном положении. Вавилов считал, что он уехал в Омск. Антоныч сообщил в Омский партийный комитет о разгроме – и вот прислали Максима. Ружин – революционер-профессионал, и за работу Антоныч не беспокоился. Всю неделю они встречаются с ним на разных квартирах, обо всем переговорили. Антоныч свел его с надежными товарищами и сразу предупредил о своих подозрениях.
– Значит, Вавилову о моем приезде говорить не нужно, – решил Максим. – Так легче будет проверить, и если ты прав, не будет опасности.
Сегодня они говорили последний раз перед отъездом Антоныча в Акмолинск. Документы готовы, есть и надежные попутчики и явка на новом месте. Туда несколько месяцев назад выслали из Омска одного большевика, присяжного поверенного Дмитрия Трифонова. Ссыльный уже легализирован там, можно с ним связаться и связать в свою очередь его с подпольщиками на рудниках, Палычем. Трифонов попал в ссылку из тюрьмы, явок у него нет.
Когда Ружин подробно объяснил, каких методов следует держаться сейчас в работе с крестьянами, как поддерживать связь с рудниками и Петропавловском, Федулов вновь заговорил о Вавилове.
Максим, подумав, ответил:
– Видишь, Антоныч… хотя ведь ты уже не Антоныч и не Федулов, – невесело усмехнулся он, – и жандармы и полиция любят пользоваться услугами провокаторов. Тактика их хитра. Вавилова мы проверим, не оскорбляя подозрением, а осторожность никогда не мешает.
На следующий день Антоныч уезжал с акмолинскими возчиками. Он вез с собой листовки и прокламации. Степаныч долго мудрил, подшивая ему сапоги «новыми подметками». Последнюю ночь Федулов провел у Мезина, и они проговорили до утра.
– Всех старых рассеяли, – с горечью говорил Степаныч, – теперь и ты уезжаешь…
– Такая наша работа, друг! – сказал Антоныч. – А голову ты напрасно вешаешь. Мы отступаем временно, чтобы с еще большей силой потом наступать. Говоришь «всех старых рассеяли», но ведь партийная-то организация у нас выросла за счет вновь вступивших, а не уменьшилась… – Он немного помолчал, задумчиво и ласково глядя на своего друга, и продолжал: – Максим опытный, развернет работу. Ему помогай и учись от него. Тебе сейчас можно открыто говорить с казаками о выборах во вторую думу. Из них многие имеют голос. Надо, чтобы от Акмолинской области прошел большевик. Не мириться с царем да с кадетами будут в думе большевики, а бороться.







