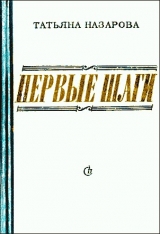
Текст книги "Первые шаги"
Автор книги: Татьяна Назарова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 39 страниц)
Глава шестнадцатая
1
– Черт! Совсем мокрый стал. Под ногами вода, сверху капает не переставая, – ворчал Иван Топорков, выйдя из забоя. – Быстрей пошли, а то обледенеем! – поторопил он Исхака.
– Знаешь, Ваня, нас чуть совсем не придавило, – сообщил Исхак, с трудом вылезая по крутым ступеням. – Давно предупреждал Кривого, плохой крепление, может треснуть – слушать не хочет. Сегодня бревно лопнул, меня по плечу стукнул. Думал, конец будет, – говорил казах, сверкая белками глаз словно из-под маски, – посыпавшаяся при обвале порода облепила его лицо.
Иван помрачнел.
– Пойдем, пойдем, – потянул он Исхака, – в бараке подумаем, что делать, а то еще простудимся.
Не спрашивая разрешения начальства, рабочие разделили перегородками огромный барак по числу окон. Крайние клетушки отдали семейным, а в средних ютились холостяки. В каждой загородке сложили каменные очажки с трубами из самодельного сырца. Узкая полоса в длину всего барака, со стороны входа, служила общим коридором, от которого семейные отделялись занавесками из одеял.
Сняв в коридорчике мокрую, грязную одежду, Топорков и Исхак вошли в свою «комнату», как говорил Иван. В ней с обеих сторон, в два этажа, громоздились нары на восьмерых, а посредине протянулся длинный на козлах стол. В очажке ярко пылал огонь, согревая и освещая помещение. Остальные жильцы уже лежали на нарах, отдыхая в ожидании запоздавших товарищей.
– Все целы? – спросил Иван.
– Целы! А что? – отозвался Андрей Лескин, поднимаясь на нарах.
– А то, что вот Исхака сегодня треснуло бревном по плечу так, что чуть навсегда в шахте не остался…
Кто-то из лежавших матерно выругался, кто-то крикнул:
– Сволочи! На грошах экономят, а нам головы разбивают!
Соскочив с нар, все окружили казаха и принялись снимать с него рубаху. Когда притронулись к левому плечу, Исхак застонал. Плечо распухло и было багрово-синее. Андрей, накинув полушубок, сказал, что пойдет за фельдшером.
– Не придет он вечером, Костенко-то, – отозвался один из рабочих.
– Пусть попробует отказаться! Я его, сукина сына, силой притащу! – откликнулся Андрей уже из коридора.
На шум начали приходить рабочие из других загородок.
– Что тут случилось у вас? – спрашивали вновь вошедшие, и шахтеры, указывая на плечо Исхака, сидевшего возле печурки, кляли администрацию рудника, рассказывая про обвал в забое из-за плохого крепления.
Иван сидел молча, обдумывая, как лучше использовать происшествие с Исхаком, чтобы ускорить забастовку, которую их подпольная группа готовила давно. Много еще есть отсталых, боязливых. С ними надо работать настойчиво, терпеливо, не торопя их… Перед глазами Топоркова всплывали события, ставшие вехами на его пути здесь, на руднике.
…После нескольких встреч со штейгером Топорниным Иван убедился, что с ним можно говорить обо всем. Ему первому и прочитал листовку, присланную из Петропавловска.
– У меня, Ваня, словно глаза открылись, – признался тот. – Дай-ка я сам почитаю! – И Топорнин дважды перечитал горячий призыв большевиков. – Жил я по совести, защищал, сколько мог, рабочих, не боясь гнева начальства, волновался, понимая, что мало помогаю, – промолвил он задумчиво, опустив руку с листовкой. – А вот о том, что дело не только в заводчиках, ни разу еще не подумал. Неоткуда было правду узнать… – Топорнин помолчал, еще раз прочитал листовку и вернул ему.
В октябре к ним в гости приехал Мамед. Он привез в подарок муки, баурсаков, баранью тушку. Рассказывал весело про свадьбу Аксюты Карповой, про неудачный обыск у Федора, про свой оседлый аул. Барана сварили в казахском бараке и мясо разделили на всех. Когда выпили шурпу[6]6
Шурпа – национальное блюдо казахов, вроде крепкого бульона.
[Закрыть], Мамед спел сородичам песню отца, добавив к ней немало и своего.
Все сосредоточенно слушали, даже не перебивая обычными восклицаниями, подбадривающими певца. Песня Мамеда подтверждала им слышанное от Исхака, от их русского друга Ивана…
– Твой Подор, наш Вана – одинаково, – задумчиво говорил старый казах.
Вспоминали и Топорнина: ласково разговаривает он с казахами, ругает Кривого, если тот ударит кого плетью: «Кривой собака, как толстый купса…»
Но Мамед привез не только подарки и песни, а и новую листовку, и номер «Новой жизни», и новости от далеких петропавловских друзей. В первый же день, оставшись вдвоем с Иваном, он сказал ему шепотом:
– Тебе письмо привез, – и, проворно отпоров подкладку малахая, передал тоненькие листки.
Работа в подпольной группе сразу оживилась. Копии листовок они послали на Спасский завод и в Караганду. На обратном пути Мамед отдал их верным жигитам, а те отвезли: для них сотни верст – верховая прогулка…
Иван так задумался, что не сразу услышал крики и ругань в коридоре. Только встав, он понял, что ругается фельдшер Костенко, проталкиваясь через толпу рабочих, плотно заполнивших коридор.
– Товарищи, посторонитесь, – попросил он и зажег коптилку.
Фельдшер, маленький, толстый, с одутловатым лицом, был очень рассержен и сразу закричал:
– Ну, кого здесь ночью холера забрала?
Стоявший сзади фельдшера высокий Андрей, через его голову насмешливо подмигнул Топоркову: смотри, мол, притащил-таки!
– Шахтеру Кокобаеву плечо бревном в забое расшибло, посмотрите, – Иван указал на раздетого Исхака.
Костенко, чуть глянув в сторону протянутой руки, обернулся и заорал на Андрея:
– Так ты из-за кыргызца меня ночью тащил?
Рабочие в коридоре возмущенно загудели.
– Киргиз такой же человек, как и вы. Его чуть не убило по вине хозяев. А по-вашему, господни фельдшер, мы должны были ждать утра? – строго, но сдержанно сказал Иван. – Окажите помощь и напишите справку…
– Ты что за начальник такой распоряжаться тут? – окрысился фельдшер на Ивана.
– Я не начальник, но Исхак наш товарищ, и мы требуем: окажите немедленно помощь. Несчастье случилось с ним по вине владельцев рудника…
– Да что ты с ним разговариваешь? Это ж англичанска палка, а не фельдшер! Мы с ним сейчас сами поговорим по-иностранному, а то он русский язык не понимает, шахтера за собаку считает, – послышался грозный голос из коридора.
Фельдшер сразу сник. У него мурашки по спине побежали от мысли, что, рассердившись, рабочие могут изувечить его. Сняв полушубок, он подошел к Исхаку и стал внимательно осматривать плечо, зная, что за ним следят десятки глаз. «Какая опухоль страшная! Неужели кость раздроблена?» – думал он. Тихонько поворачивая руку, отчего у Исхака, сдерживавшего стон, ручьем полился пот с лица, фельдшер прощупывал кость и сустав. Наконец, опустив руку, он мирно сообщил:
– Кость цела, и сустав на месте. Опухоль от ушиба, надо перевязку сделать, а я ничего не взял.
– Тут недалеко, мы проводим. Делай перевязку, – послышался тот же голос из коридора.
Костенко, уже не возражая, оделся и под конвоем рабочих сходил за бинтами и примочкой. Перевязав плечо Исхаку, он спросил:
– Ну, все, ребята, можно идти?
– Напишите справку, что с рукой и сколько дней нельзя выходить на работу, – вежливо попросил Иван.
– С недельку, не меньше, посидит дома, – говорил фельдшер, черкая что-то на листе бумаги, пододвинутом Топорковым.
– Ироды проклятые, калечат людей! – возмущались рабочие в коридоре. – Тут не неделей пахнет…
Выйдя из барака в сопровождении Лескина, фельдшер облегченно вздохнул. Будут его завтра ругать за эту справку, но от ругани ребра не затрещат. Интересно, кто это его англичанской палкой назвал? «Завтра надо сообщить управляющему, – думал он, идя рядом с провожатым. – Тот выяснит…»
Но когда, прощаясь у крыльца, Андрей с угрозой сказал ему: «Не вздумайте на рабочих жаловаться, начальство вас не убережет», – Костенко так испугался, что решил и не заикаться о ночном инциденте: он фельдшер и обязан помогать больным, рабочие позвали – и все.
А в бараке развертывались события, не предвиденные администрацией рудников.
– Товарищи! До каких пор будем терпеть издевательства? – сразу же после ухода фельдшера заговорил Топорков. – Нас обирают в лавке, платят гроши, мы мокнем в забоях. Из-за жадности хозяев крепи никудышные. Сегодня Исхаку руку искалечило, а завтра кто-нибудь голову оставит в забое. Наши товарищи зимой живут в землянках без стекол. Когда же станем требовать, чтобы и нас за людей считали? Вон и фельдшер только из-за страху перевязал плечо Кокобаеву…
– До тех пор будут издеваться, пока не начнем с ними разговаривать, как Иван с Кривым говорил, с киркой в руках, – яростно закричал коренастый шахтер, прорываясь вперед. Изношенная рубашка разорвалась на плече, он тяжело и шумно дышал.
– Давно пора забастовку объявлять, долго трусов слушаем! – раздались возбужденные голоса в коридоре.
Все торопились высказать накопившееся возмущение Самые робкие вдруг расхрабрились. Страшный вид вздувшегося плеча Исхака будоражил всех. Ведь с каждым из них может случиться такое…
– Сходи за Петром Михайловичем, – шепнул Топорков Андрею, когда тот вернулся.
Собрание затянулось до полуночи. Андрей, как настоящий связной, обежал все бараки и казахские землянки, вызывая шахтеров. Решили немедленно предъявить петицию от рабочих и служащих рудника и дать администрации срок пять дней для выполнения требований, а не согласятся – остановить рудник, объявить забастовку.
Петицию поручили составить Топорнину, Топоркову, Кокобаеву… всего десяти человекам, и сразу же отправить ее негласному директору, а копию – в столичные газеты.
Когда после собрания Иван пошел провожать штейгера, Петр Михайлович сказал ему:
– Вы с Исхаком не очень выпячивайте себя при разговорах с администрацией. Меня так и так уволят, а вам надо остаться здесь, продолжать работу. Рабочие сейчас загорелись как будто все, но стойких-то еще не очень много. Нельзя вам рудники оставлять…
Иван согласился. Они с Исхаком и при победе и при поражении все равно останутся.
2
Нельсон Фелль, негласный директор горных промыслов господина Карно, прибыл на Успенский рудник шестого декабря и заявил, что будет разговаривать с делегацией рабочих утром следующего дня.
Вечером делегаты собрались, чтобы еще раз обсудить, какие добавочные требования, кроме изложенных в петиции, предъявить ненавистному англичанину.
В петицию, подписанную всеми рабочими и служащими рудника, за исключением мастеров, прозванных рабочими «англичанскими палками», и фельдшера Костенко, были включены шесть пунктов: немедленно снизить цены в лавке, повысить заработную плату от пятнадцати до двадцати пяти процентов, снабдить непромокаемой одеждой и обувью работающих в мокрых забоях, улучшить казармы для рабочих-казахов, устроить постоянное трехклассное русско-киргизское училище и уволить мастера Кривого, зверски обращавшегося с казахами.
– По-моему, товарищи, – говорил Иван, – надо потребовать провести настоящее крепление в шахтах, а также оплатить Исхаку время болезни…
– Об этом обязательно скажем, – прервал его Топорнин, – не беспокойся. Я обо всем скажу, мне все равно. Меня вон, бухгалтер говорит, начальство уже намерилось уволить, да и остальные товарищи делегаты после окончания забастовки не останутся – все равно съедят. Давайте поговорим о другом. Возможно, этот тип завтра совсем не захочет добром говорить, а мне сразу объявит об увольнении – тогда что?
– Тогда немедленно начнем забастовку, – ответил Топорков.
– Придем все к конторе, заставим при нас снять штрафные и заплатить за месяц, если хочет, чтобы машины были целы, – поднимаясь, добавил Андрей Лескин. – Дадим продолжительный свисток паровой машиной…
На этом и порешили. Делегаты разошлись. Остались только члены подпольной группы, жившие вместе с Иваном и Исхаком в одной клетушке, да штейгер Топорнин.
– Главное, что удалось поднять всех рабочих и служащих, – говорил Иван. – Думаю, многого добьемся, и это запомнят. Второй раз будет легче поднять, да и революционная пропаганда пойдет лучше теперь. Сознательность рабочих растет…
– Верно, друг! Я еще вам не сказал: ведь на Спасском заводе и в Карагандинских копях тоже неспокойно, мне кучер Фелля сказывал, – вполголоса сообщил Топорнин. – А узнают ребята о наших событиях – он же и расскажет им, как вернется, – тогда и вовсе голову подымут.
Долго обсуждали будущую работу подпольщиков, вспоминали далеких товарищей, говорили о том, что сейчас творится в России.
– Куда, Петр Михайлович, отсюда? – спросил под конец Топорков.
– В Нижний Тагил, на родину. Там, Ваня, найдется такая же работа, как и здесь, – ответил штейгер, задумчиво глядя на пламя в очаге.
…Когда делегаты вошли, господин Фелль сидел за письменным столом. Не приглашая садиться, он смерил холодным взглядом делегатов, на мгновение задержался на штейгере и, презрительно цедя слова сквозь зубы, спросил:
– Что скажете?
– Наши требования мы изложили в петиции, она лежит перед вами, господин Фелль. К этому можем прибавить еще требование: крепить шахты лесом, а не гнилью. Один несчастный случай уже произошел у нас. Рабочему Кокобаеву разбило плечо, и он пять дней не работает и еще долго не сможет работать. Ему вы обязаны заплатить за все время болезни, – вежливо ответил Топорнин.
Фелль исподлобья глянул на него и принялся читать петицию.
– Почему мы должны прибавлять вам плату? – буркнул он себе под нос.
– Потому что у рабочих и служащих рудников очень низкий заработок.
– По работе и плата, – бросил заносчиво Фелль, продолжая читать.
– Если бы этого принципа придерживался господин Карно, хозяин рудника, то вам не платили бы шестьдесят тысяч, тогда как управляющему заводов господину Павловичу всего две с половиной платят, – с иронией произнес штейгер.
Фелль вскочил, побледнев от негодования.
– Вы молшайт! Я вас увольняйт немедленно! – закричал он в бешенстве.
– Не кричите, господин Фелль, не испугаете. Скажите нам: удовлетворите вы наши требования? – подчеркнуто спокойно спросил Топорнин.
– Я не желайт с вами говорил! Вы увольняйт! – от волнения Фелль коверкал русский язык, хотя обычно говорил без акцента. – Пиши приказ, – обернулся он к сидящему здесь же бухгалтеру.
Тот взглянул на Топорнина и, уловив его незаметный кивок, начал писать.
– Тогда ответьте мне, господин Фелль, но учтите, что к требованиям, изложенным в петиции и дополненным нашим товарищем здесь, мы добавим еще одно: восстановить уволенного вами штейгера Топорнина на работе, – вмешался заведующий алмазным бурением.
Англичанин от злости почти потерял дар речи. Он махнул рукой, указывая на дверь, и твердил одно слово: «Пошел, пошел…» Его, Фелля, равнять с каким-то Павловичем!..
Делегаты повернулись к дверям. Топорнин, проходя мимо бухгалтера, шепнул:
– Сейчас загудит, начнется забастовка. Вы пока сидите здесь, понадобитесь нам.
Бухгалтер наклонил голову, показывая, что понял.
Когда вышли из конторы, один из шахтеров побежал в машинное отделение. Через минуту раздался долгий, резкий гудок, потом все смолкло. Со всех сторон бежали группы людей. Скоро все рабочие и служащие окружили контору.
– Товарищи! Господин Фелль оскорбил и выгнал нас, ваших делегатов, меня уволил! – громко закричал Топорнин с крыльца, сначала по-русски, затем по-казахски.
Рабочие грозно зашумели. Негодование против англичан, пренебрежительно относившихся к русским и особенно к казахам, копилось давно и сейчас грозило вырваться наружу.
Лескин вскочил на крыльцо.
– Слушайте меня! – закричал он. – Мы научим его вежливости. Эй вы, господин хороший! Если не выйдете к нам, от машин останутся одни щепки! – оборачиваясь к окну конторы, громко прокричал Андрей.
После ухода делегатов Фелль, что-то бурча по-английски, прошелся по комнате, потом подошел к окну. Увидев огромную толпу, он испуганно отпрянул в глубь комнаты. Когда гул усилился, англичанин начал растерянно оглядываться вокруг. Полиции нет – кто защитит его? Угроза Андрея потрясла его. Что ответит он тогда лондонским хозяевам? Фелль беспомощно взглянул на спокойно сидящего бухгалтера.
– Выйдите, поговорите! – посоветовал тот в ответ на немой вопрос.
– А это не опасно? – спросил, заикаясь, Фелль.
– Там и здесь одинаково опасно. Лучше выслушайте их требования…
– Пойдемте со мной!
Выйдя на крыльцо, Фелль увидел раздраженные лица рабочих, и его охватил настоящий ужас.
– Что вы хотите? – с трудом выговорил он.
– Поскольку вы наших делегатов оскорбили и выгнали, то вот наш ультиматум, – задорно заговорил Андрей, щегольнув вычитанным в газете словцом. – Немедленно подпишите приказ о снятии с нас долгов по конторе и лавке, выплатите каждому за месяц вперед, и мы все тихо разойдемся по домам. Потом вы будете договариваться с делегацией об условиях окончания забастовки. Когда договоритесь, тогда встанем на работу. Если не выполните сию минуту это требование, не обижайтесь! – с угрозой закончил он.
Фелль невольно попятился.
– Правильно я сказал, товарищи? – спросил Андрей, оборачиваясь к молчаливой, выжидающей толпе.
В ответ раздались гневные возгласы, угрожающие выкрики.
– Я согласен! – испуганно произнес Фелль. – Денег хватит?
– Да, господин Фелль, – услужливо ответил бухгалтер.
Выборные рабочие пришли в помещение вместе с бухгалтером и Феллем. Толпа молча стояла вокруг конторы, пока бухгалтер, согласно приказу, подписанному негласным директором, погашал задолженность, затем составил ведомость и начал выплачивать всем бастующим месячный заработок. Фелль сидел тут же. Рабочие вежливо, но твердо дали понять, что ему пока незачем уходить. Когда бухгалтер, уже в сумерках, последним расписался в ведомости и отсчитал себе деньги, Лескин, подмигнув товарищам, поклонился Феллю и посоветовал ему не спеша обдумать, когда назначить встречу с делегатами и как с ними разговаривать. Машины будут целы, пар спустили. Ушли рабочие, за ними бухгалтер, а Фелль долго еще сидел один в конторе, размышляя над случившимся. «Дикари! Будут работать за гроши», – вспомнил он слова Джона Бутса и невесело усмехнулся. Непонятная страна, непонятный народ!
Что теперь делать? Советоваться не с кем. Карно ничего не понимает. Господин Павлович, наверное, в душе будет доволен, он завидует ему, ненавидит его. Требовать, чтобы Карно жаловался русским властям, признаться, что он, Нельсон Фелль, под угрозой выплатил деньги…
Его британское высокомерие запротестовало против этого. Будут говорить, будто он струсил. Потом – разве они признаются, что угрожали ему? Вон все мирно ушли. Они ничего не сломали, не разбили. Черт с ними, с деньгами! Не будет он жаловаться. Надо скорей кончать забастовку – каждый день даст большие потери. Но как? Не может он исполнить все их требования и, конечно, этого штейгера на работу не возьмет. Возможно, тот сам уедет. Плата киргизцу за прогул отпадает – уже уплатил. За стеклом и лесом можно сегодня послать: завалит забои – себе больше убытку. Главное – сделать так, чтобы никто не мог сказать, что он удовлетворил петицию. Нельзя давать дурной пример для рабочих на Спасском заводе и в Караганде.
Если он сам наведет порядок до разговора с делегатами, то можно сказать им, будто этот Топорнин, наглец, оскорбивший его, работал плохо. «Сейчас они довольны и легко пойдут на уступки», – решил он и пошел по поселку.
Из бараков неслись песни, рассыпались переливы гармошек, звучал смех.
«Русские опасны, когда их выведут из терпения, а так они очень добродушны и уступчивы. Их нельзя сравнить с твердыми, устойчивыми англичанами», – философствовал Фелль. Страх его прошел, и он по-прежнему относился с презрением к хозяевам страны.
Найдя правильный, как ему казалось, путь для укрощения рабочих, без ущерба для своего престижа, Фелль принялся энергично выполнять свой план. Через два дня привезли лес и стекло. Пока стеклили рамы в казахских бараках, мастера, не участвующие в забастовке, ставили новые крепи в шахтах, заведующий магазином пересматривал цены на товары.
Забастовщики, собравшись группами, горячо обсуждали происходящие перемены на руднике. Подпольщики ходили по баракам, вели беседы о том, как важны сплоченность и организованность, рассказывали про рабочие союзы в России, про стачки…
Исхак, плечо которого почти зажило, не выходил из землянок казахов.
– Рабочие, русские и казахи, как два родные брата, – говорил он. – Надо всегда идти вместе с русскими. Видите, теперь у вас светло: вы, как и все, получили деньги. Об этом позаботились ваши русские братья…
– Да, да! – говорили казахи, одобрительно прищелкивая языками. – Правду говоришь!
– Начнем работать – не позволяйте себя бить англичанским палкам камчой, – учил он. – Говорите: «Не будем работать, если будешь драться». Мне пожалуйтесь, Ване… Собака Кривой Фелль прогонит, требовать будем…
На третий день в лавке объявили новые цены, значительно сниженные, особенно на муку: вместо рубля за пуд она теперь стоила пятьдесят копеек, всего на десять копеек дороже, чем в Акмолинске.
– Хитер! Он хочет прежде ряд наших требований выполнить, а потом уже говорить с делегатами, – смеясь говорил Топорнин, собиравшийся уезжать. – Ты, Ваня, направляй, а сам к нему не ходи, чтобы, когда уездная власть нагрянет, тебя не зацапали. Я уеду, пусть на меня валит побольше. К Феллю направь Андрюшу Лескина. Видал, какой он мастер с начальством разговаривать?
…Делегатов Фелль пригласил на четвертый день и, когда те вошли в комнату, сразу же предложил им сесть. Шахтеры переглянулись и, скрывая улыбки, свободно расселись возле стола.
– Когда работать начнете? – спросил директор. – По-моему, вам не на что больше жаловаться. Беспорядки были по вине смотрителя, я его уволил, сам порядок навел…
– Спасибо, господин Фелль! Порядку действительно стало больше с вашей помощью, – дипломатично начал Андрей. – Но кое-что еще надо сделать, и мы тотчас же все станем на работу.
– Что еще вы требуете? – поинтересовался Фелль.
– Одежду непромокаемую и обувь тем, кто в мокрых забоях работает.
– Через неделю пришлю, даю слово. Опять вина смотрителя…
– Спасибо! Слову мы вашему верим. Потом – рабочие требуют уволить Кривого. Плохой мастер и грубиян.
– Пишите приказ, я подпишу, – немного подумав, приказал Фелль конторщику. «Черт с ним, с мастером! Хватит их. Рудники четыре дня стоят!..»
– Теперь только два пункта осталось – и все, – весело сказал Андрей. – Прибавьте плату и обещайте с будущего года школу открыть.
– Школу ваша власть должна открыть, а не горнозаводчик. Если надо будет помещение, предоставим. Прибавить настолько заработок я не могу.
– А сколько же вы предлагаете? – спросил Андрей.
– Не больше пяти процентов. И то я беру на себя большую ответственность перед господином Карно.
– Больше не можете? – с лукавой улыбкой переспросил Андрей. Рабочие знали, что Карно и не пикнет против Фелля.
– Нет! Я во всем вам шел навстречу…
– Хорошо, господин Фелль! Мы доложим о вашем предложении всем рабочим и завтра сообщим их решение.
Делегаты простились и ушли.
«Черт! Еще день пропадает! – злился Фелль. – Но этот рабочий разумный, – думал он про Лескина, плененный его тоном. – Захочет – уговорит этих…»
…Собрание рабочих проходило бурно, но в конце концов верх взяли желающие вернуться на работу, принять условия, предложенные Феллем.
– За месяц заплатил, обратно не просит, да еще пять процентов дает. Чего зря лодырничать? Мука вдвое стала дешевле. Не все сразу, – говорили они.
На следующий день делегаты сообщили, что рабочие согласны с тринадцатого приступить к работе на предложенных условиях, только господин Фелль должен запретить мастерам ходить с плеткой и давать волю рукам.
– Фу, безобразие! Немедленно запрещу! Я не знал про это, – сказал Фелль.
Он был рад, что забастовка кончилась. Соглашение оформили, делегаты ушли, и тогда Фелль сел писать докладную записку уездному о забастовке.
«…организатором забастовки был смотритель рудника Топорнин П. М., допустивший много беспорядков на руднике, за что был мной уволен и выехал с рудника двенадцатого декабря в Нижне-Тагильск. По устранении беспорядков рабочие приступили к работе совершенно спокойно…» – писал он.
Закончив сообщение, Фелль приложил к нему петицию рабочих и велел отправить начальнику Акмолинского уезда.
3
– Ничего не понимаю! – говорил Нехорошко своему помощнику, взволнованно шагая по кабинету взад и вперед. – Господин Фелль самым благодушным тоном сообщает, что у них на руднике была пять дней забастовка и закончилась, но ни слова не пишет о том, какие требования из изложенных в петиции администрация выполнила. «По устранении беспорядков рабочие приступили к работе…» – прочитал он вслух. – Не верится мне, что все так гладко обошлось в нынешнее беспокойное время. Однако Фелль уверяет, что забастовка на завод и копи не повлияла. Придется самому съездить проверить. Вы следите здесь повнимательнее за событиями. В случае чего не церемоньтесь – за шиворот и в кутузку. Военное положение введено, хотя его императорское величество и предоставил свободу слова, печати и неприкосновенность личности! – Он засмеялся визгливым смешком.
Помощник, сухопарый и белобрысый немец, откинувшись на спинку стула, захохотал.
В самом деле, семнадцатого октября царь, перепуганный всеобщей забастовкой, подписал манифест, гарантирующий народу «незыблемые основы гражданской свободы: действительную неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний, союзов».
Начальство Акмолинского уезда вначале тоже попалось в ловушку, приняло обещание царя к руководству. Нехорошко даже отозвал было из Родионовки посланного «человечка»: раз царь разрешает, пусть мужики о чем хотят говорят. Либерально настроенные местные интеллигенты торжествовали. Все ждали широкой политической амнистии. Богатые купцы, сторонники твердой царской власти, приуныли. «Теперь босота голову поднимет. Горлопаны наорут, – только слушай», – говорили они между собой. Особенно обозлило их то, что приказчики организовали свой союз и начали вырабатывать требования к хозяевам о повышении заработной платы и десятичасовом рабочем дне.
Когда до Акмолинска дошла весть о куцой амнистии двадцать первого октября, воротилы города с облегчением вздохнули. Начальство уезда и города тоже поняло, что «пишется по-одному, а выговаривается по-другому».
Однажды озорной Витька Осоков, слободский возчик и гармонист, попробовал, идя с друзьями по центру города, спеть:
Царь испугался, издал манифест:
Мертвым – свобода, живых под арест.
Полицейские всю компанию забрали в кутузку и продержали неделю «для вытрезвления». Если бы в это время не начались вооруженные восстания рабочих, не только в Москве, но и в ряде других городов, пожалуй, Виктор так легко не отделался бы.
Все окончательно стало ясным для руководителей огромного уезда, когда в ответ на ходатайство генерал-губернатора в период забастовки железнодорожников в Петропавловске, двадцать третьего декабря, телеграф принес сообщение о введении военного положения на всей территории Акмолинской области.
Можно было арестовать любого, не говоря причины, и держать под стражей сколько угодно или выслать «куда Макар телят не гоняет», никого не спрашивая.
Стачки в России, правда, продолжались, но в Акмолинске их не могло быть – город торговый, а не промышленный. Приказчицкий союз, не закончив составление петиции с требованием сокращения рабочего дня, распался.
Начальство беспокоилось только за горные промыслы господина Карно: кто-то там будоражил рабочих, да еще нельдинские киргизцы баловали, захватывая самовольно земли господина горнопромышленника.
Следовало всюду проявить твердость власти, а тут этот идиот Фелль пишет: «Рабочие мирно стали на работу, на Спасском заводе и Карагандинских угольных копях все спокойно». Уездный начальник с нескрываемым раздражением прочитал выдержку из доклада негласного директора горных промыслов и со злостью бросил лист на стол. Даже военному губернатору рапортовать нечего.
Нехорошко поехал на Успенский рудник: на месте виднее. По пути он прихватил «опытного человечка» и оставил его в соседней с Родионовной Ольгинке: в Родионовку сам доберется, даже лучше – совсем не будет подозрений. Василию Моисеевичу до смерти хотелось самолично открыть крамолу где-нибудь в уезде, использовать военное положение и выдвинуться в глазах губернатора своей распорядительностью. Он был не лишен честолюбия.
Вернулся с рудников начальник уезда, заглянув и на Спасский завод, недели через две и в плохом настроении.
– Господин Павлович меня информировал, что стачка вызвана этим чванливым иностранцем, негласным директором. Совсем зазнался англичанишка и знать никого не хочет, – сказал он своему помощнику.
Его глубоко обидел прием господина Фелля. Будучи на руднике, Нехорошко разговаривал со многими рабочими и мастерами. Рабочие отвечали начальству вежливо, объясняли, что причиной забастовки были тяжелые условия, созданные администрацией, не вдаваясь в излишние подробности. Но один из мастеров, не участвовавший в забастовке, рассказал ему, как забастовщики заставили Фелля – угрозой разгромить рудник – списать долги и заплатить за месяц, хотя бастовали только пять дней. Он показал на Андрея Лескина как главного бунтовщика.
Василий Моисеевич разлетелся к Феллю с выражением сочувствия, решив заняться бунтовщиками на обратном пути.
– Деньги, которые вырвали у вас бунтовщики, пользуясь вашим испугом, вы можете с них полностью удержать, – говорил он, сидя в кабинете директора.
– Кто вам сказал, что я испугался? – багровея больше обычного, спросил Фелль.
Не поняв настроения хозяина, начальник уезда назвал мастера и конфиденциально сообщил, что на обратном пути бунтовщика, угрожавшего ему, Андрея Лескина, он арестует.
– Надо было вам сразу же подробнее сообщить о бунте, я немедленно принял бы меры, – попенял он.
Фелль, уверивший себя, что он нисколько не был испуган и все сделал по собственной воле, как хороший хозяин, словами незваного гостя был дважды оскорблен: и тем, что его, подданного Великобритании, обвинили в трусости, и тем, что приезжий усомнился в его докладной, поверил какому-то мастеру.
– Мастер глюп, плохой работник, я его гнайт, – заговорил он, отдуваясь и, как всегда во время волнения, начиная говорить с акцентом. – Лескин хороший рабочий, я ставит его мастером. Я писал, так было…
Так и не договорившись друг с другом, они расстались, и Фелль даже не пригласил Василия Моисеевича на обед. Прием у управляющего Павловича и его любезное отношение несколько компенсировали обиду, но Павлович подтвердил, что во всем виноват Фелль, а рабочие их большие патриоты.
– Понимаете, Василий Моисеевич, их оскорбляет то, что Феллю платят в двадцать четыре раза больше, чем мне, русскому, – говорил управляющий горными промыслами. – Патриоты не могут быть бунтовщиками…
Отведя душу за богатым столом Павловича, начальник уезда, не заходя к иностранцам, проследовал обратно в Акмолинск. Теперь у него есть о чем писать военному губернатору – не о рабочих, а об этом надменном англичанине.







