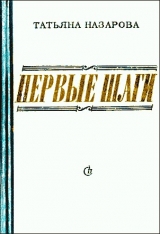
Текст книги "Первые шаги"
Автор книги: Татьяна Назарова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 39 страниц)
Глава тридцать третья
1
Затянувшуюся тяжелую паузу прервал Аким.
– Значит, Павка правду сказал? – простонал он и вскочил.
– Сядь, Аким. Правду, да не во всем. Кое-чего он не знает, и я поздно узнал, – остановил его Демьян, надавив тяжелой рукой ему на плечо. – Молчу потому, что думаю: зачем Павел сейчас тебе такое сказал, когда раньше молчал?
Аким упал обратно на скамью и, тяжело дыша, слушал брата.
– Знать, верно о нем отец сказал, что он злее его, – медленно, будто раздумывая, говорил Демьян. Подойдя к киоту, он вынул медное распятие и, вернувшись, потребовал: – Поклянись, что Наталью не обидишь, слова ей не скажешь. Нет ее вины, а твоя найдется… – Голос его звучал торжественно, и диковатые глаза смотрели строго.
– Клянусь, – шепотом ответил Аким, прикладывая губы к холодному распятию.
Демьян сейчас казался ему грозным судьей, а слова: «Нет ее вины, а твоя найдется» – прозвучали страшным приговором. Память, будто обрадовавшись, сразу выбросила перед ним сотни случаев, когда он учил жену во всем подчиняться отцу, ни в чем не перечить, повторяя: «Мы от его воли зависим». Холодные капли пота покатились с висков; почти задыхаясь, он хрипло попросил:
– Говори все сразу, нет моей моготы…
– Правда, что Еремеевна порошками стравила маманю по воле отца, сама мне призналась, но муки он принял много, сам знаешь, – заговорил Демьян. – Бог ему теперь судья. Наталья о том не знала. Убивалась она больно об маманьке, да не понял тогда я, что защиту свою оплакивала, – тихо, задумчиво рассказывал Демьян брату, спрятавшему голову в широких ладонях. – За тебя, братуха, боялся я, когда к Павке поехал с таким, верил ему, совета искал. Потому и сказал тебе, что за Матвея молебен отслужишь, – грустно глядя на брата, продолжал он. – А как кинулась Наталья в ноги да рассказала про муку свою, про то, что тебя и детей бережет, горе свое от тебя скрывая, так и пошли у меня другие думки. Вспомнил я, как побелела Наталья, когда в степь он ее повез, и понял: силком грешить заставил покойник. Вспомни-ка, как плакала она, когда он тебя с гуртами Самонова отправлял. И его и тебя боялась, да, видно, и от богатства отказаться страшно было…
Каждое слово брата жгло, разрывало грудь Акиму, но он молчал. Бешеная злоба к отцу-насильнику и отравительнице, гнев на себя терзали его, подавляя ревность. То, что Демьян оправдывал Наталью, не обижало, даже радовало: обманывала, о нем заботилась – значит одного его любила…
– Вот ведь оно как, богатство-то, портит людей, совесть отнимает, – не глядя на брата и почти забыв про его присутствие, рассуждал вслух Демьян. – Любил ведь Павка Аксюту-то парнем, а теперь травит ее, в грязь толкнуть хочет, ровно бы покойный отец. Тебя разорить хотел – не вышло, взял да укусил. Видно, в досаду ему стало, что ты с ним равняешься богатством, а жена-то твоя краше, чем его.
Аким при последних словах поднял голову и помутневшими глазами посмотрел на брата. Верно! Последнюю радость захотел отнять, детей осиротить хотел. Много зла всем и ему отец наделал, а все же, видно, жалел его, умирая предупреждал. И вдруг среди растерянных мыслей всплыла одна ясная: не согласись эта ведьма отравить мать, ничего бы этого не случилось.
Покачиваясь, он встал и направился к дверям.
– Куда ты, Аким? – всполошился Демьян.
– Муторно мне! Пойду пройдусь, темень – не увидят. Друг ты мой единый, брат! Павел – враг злой, хоть и правду будто сказал. Отца сказнил за мать, а меня из зависти…
Демьяну вспомнилась ночь, когда после посещения знахарки метался он по снежному полю. «Пусть прохладится, легче ему станет», – подумал и не стал удерживать брата. Опустившись на скамью, Демьян задумался о Павле, которого раньше любил больше, чем старшего. Сейчас он чувствовал к нему отвращение. «Хуже отца стал», – думал он.
Аким пошел в конец села, где жила старая Еремеевна, еще не зная зачем. Подойдя к землянке знахарки, он постучал в окошко.
– Кабы не она, кабы не она… – шептал, направляясь к калитке.
Еремеевна после испуга долгое время вечерами никому не открывала, но постепенно страх проходил, надо было зарабатывать на жизнь, а платили больше вечерние посетительницы, и снова на легкий стук в окно она начала гостеприимно открывать двери сеней.
Услышав стук, старуха и на этот раз вышла во двор.
– Кто там? – окликнула она дребезжащим голосом.
Аким метнулся к ней.
Он заговорил с знахаркой глухим, но спокойным голосом:
– Дельце к тебе, Еремеевна, маленькое есть. Признала, поди?
Еремеевна открыла рот, но ничего не отвечала. Аким легонько втолкнул ее в сенцы и задвинул засов. Старуха, двигаясь, как лунатик, молча пошла вперед, и только когда вошли в избу, она наконец ответила, словно проснувшись:
– Признаю, батюшка Аким Петрович, признаю. А когда ж ты приехал-то?
– Вечером. И к тебе сразу с поклоном пришел, – как-то чересчур весело ответил Аким. Теперь он уже знал, что старуха утра не увидит…
– Да чем же я, батюшка, помогу тебе? В городе-то, поди, доктора лечат, – совсем оправившись от испуга, заговорила старуха.
Аким перебил ее:
– Доктора лечат, а мне тех порошков надо, коими ты маманьку стравила. Дай столько, чтоб хватило, да скажи, как давать. Я похлеще отца расплачусь.
Еремеевна оцепенела. «И этот знает!..»
– Нет у меня, не хочу душу губить, за тот грех не отмолилась, – заговорила она, отступая к выходу.
– А ты не притворяйся, коль беды не хочешь, – сказал Аким и, обогнав старуху, толкнул ее на середину избы. – Отцу давала, не моги и сыну отказать. Маманя святая душа была, и то ты не пожалела, а мне для злодейской нужно. Не дашь – сейчас к начальству увезу, на каторгу пойдешь. Отец-то ведь помер, мне жалеть некого…
Еремеевна запричитала:
– Ой, да будь он проклят, твой отец! До каких же пор меня будут мучить за него?..
– За него? – перебил ее Аким. – А ты не могла нам, сыновьям, сказать тогда? Трое ведь нас. Деньгами соблазнилась, да? – встряхнув за плечи, грозно спросил он.
Сразу обмякнув от страха, старуха горестно призналась:
– Ох, соблазнилась!
– Так вот, последний раз говорю: дай без обмана – и никто к тебе из нас больше не придет.
Еремеевна медленно двинулась в куть. Достав мешок с травами, она вытащила из него узелок, развязала и положила на стол.
«Ишь, опять для кого-то припасла, – думал Аким, глядя на сероватый мелко толченный порошок. – Избавить от нее село – доброе дело сделать».
Последний затаенный страх перед убийством исчез.
– Хватит тут? – спросил он.
– Коль все дать, сразу помрет. Надо понемногу, незаметно будет, – с профессиональной деловитостью объяснила Еремеевна и принялась распределять порошок на дольки, увеличивая постепенно каждую следующую кучку.
Аким затрясся.
– Дай водички попить! – хрипло крикнул он.
Шаркая черевиками по земляному полу, Еремеевна пошла в угол и вернулась с полной кружкой. Аким хотел отпить, но мысль об отраве удержала, и он просто вылил две трети на пол, потом подтянул к себе тряпицу, смешав вместе отделенные знахаркой кучки, высыпал все в кружку и начал разбалтывать.
Старуха наконец поняла его замысел. Глаза у нее расширились, она хотела закричать и не могла – пересохшая гортань не издавала ни звука. Кинулась было к окну, но запнулась о подставленную Акимом ногу, упала и, дернувшись несколько раз, замерла.
– Я тебя сейчас угощу! – бормотал Аким, поднимаясь с табуретки.
Он наклонился с кружкой, но, увидев остекленевшие глаза и застывший, искривленный рот, отскочил назад и уронил кружку.
– Сама подохла! – изумленно произнес он.
Потом толкнул раз-другой труп ногой и начал озираться вокруг.
– Сдохла ведьма, не успел, – пробормотал мрачно.
Он поднял и положил мертвую на кровать, закрыл одеялом, подтянул табуретку, на нее поставил кружку, бросил мешок с травами. Потом, оглянувшись, схватил серый лоскут со стола, потушил коптилку и выскочил из избы. Выйдя из сеней, он привязал тряпку к внутреннему засову, несколько раз дернул, закрывая снаружи, и пошел прочь от темной хибарки.
Пробирался задами, качаясь, как пьяный. Подойдя к дому брата, увидел свет в комнате родителей и направился прямо в нее.
– Ну, успокоился, братуха? – поднялся навстречу Демьян.
– Я ее хотел вылечить тем лекарством, каким маманю травила, а она от страха сама подохла, – глухо сообщил Аким.
Демьян смотрел на него застывшими глазами.
– Не бойся, никто не догадается, что я там был. Двух злодеев нет, Наталью я прощаю, сам виноват, а Павке его добро попомню, – будто очнувшись от сна, твердо заговорил Аким и неожиданно поклонился брату в ноги. – У тебя одного из всех нас совесть есть. Спасибо за все…
Аким гостил у брата три дня. В темных волосах его пробилась седина, но держался он ровно и спокойно. Когда на другой день Варя рассказала, что умерла Еремеевна, – видно, залечилась, – он и бровью не повел, только сказал:
– Два века никто не проживет.
Похоронили старуху быстро, плакальщиков не было. На найденные в ее сундуке деньги справили поминальный обед.
Через день Аким уехал домой.
* * *
Первые три дня после отъезда мужа Наталья металась по дому, не находя себе места, но на четвертый стала спокойнее.
«Если бы Демьян подтвердил брату Павкины слова, Аким сразу вернулся бы, – думала сна. – Видно, пожалел Дема…»
На пятый день, совсем успокоившись за себя, Наталья позаботилась о встрече мужа: кухарку заставила приготовить его любимые блюда, поучила сыновей, как следует встретить отца. Сама принарядилась к лицу.
«О маменьке, коль то правда, Дема обязательно рассказал, – размышляла она, – может, и о том, как проклятый приставал ко мне. Акимушка приедет расстроенный, успокоить надо».
Первым увидел отца старший сын, Илюша.
– Папаня приехал! – закричал он и кинулся во двор; вслед за ним побежали младшие – Афоня и Борька. Они окружили отца, хвастались пятерками, спрашивали про дядю Демьяна, двоюродных братишек…
Аким чувствовал, как потеплело у него на душе. Передавая сыновьям деревенские гостинцы, думал:
«Прав Демьян! Не обманывала, а муку терпела Наташа, скрывая все, меня и сынов жалела. Сказала бы – убил бы я его, и пропала бы вся семья».
Если дорогой при воспоминании о жене он должен был перебарывать ярость – клятву ведь дал смолчать, – то сейчас у него появилась жалость к ней.
«Измучилась, поди, вся, меня ожидая? Верила доброте Демьяна, да ведь и то не забывала, что солгать ему – меня с ножом на Павла послать», – мелькали мысли, когда шел в дом.
Наталья встретила мужа с детьми в передней. Бледность не портила ее, а от синих кругов глаза стали еще больше и ярче.
– Как съездилось, Акимушка? Здоровы ли Демьян Петрович с Варей и детками? – спрашивала она ласково, приближаясь к мужу, готовая кинуться на шею, но не зная, как он ответит на ее ласку.
Взглянув на жену, – она показалась ему красивее прежнего, – Аким мертвенно побледнел: рядом возникло лицо отца. Сделав над собою усилие, он шагнул к ней, обнял и поцеловал в губы.
Илюша потихоньку потянул братьев за собой. «Дядя Демьян спас маму!» – обрадовался мальчик.
«Сказал Демьян правду, но меня не обвиноватил, – думала Наталья, идя рядом с мужем. – Век его добра не забуду…»
Когда вошли в спальню, Аким запер дверь на ключ и, потянув жену к дивану, присел возле нее.
– Все рассказал мне Дема. Погибла маманя от их рук, но он умер здесь, а его помощница Еремеевна – там, – заговорил он тихо.
У Натальи покатились слезы из глаз. Ей казалось сейчас, что свекровь она любила, как родную мать. Взглянув на жену, Аким продолжал:
– Твоей вины тут нет, и во всем прочем он всему причина, да и я тоже. Хватила ты, бедная, горя! Демьян все понял и мне растолковал. Умнее всех нас он, только на другой лад: ему бы сыном Палыча быть, а не нашего. Видно, в маманю родился. Она тоже неправды да зла не любила…
Наталья слушала мужа затаив дыхание. Так вот как сделал деверь! Ни в чем не солгал, но сумел увидеть и муку ее и слабость, да и старшего брата заставил по-своему на все посмотреть.
«Вот кому мне сразу надо было правду сказать, – с запоздалым раскаянием подумала она. – И мамынька была бы жива, и ничего не случилось бы…»
– Павел не лгал, хоть многого и не понял. Но враг он мне отныне, а не брат, – продолжал Аким. – Сказал не ко времени и не с добра, а из злобы и зависти. Демьян говорил – добра нам желал, защищал детей наших, а Павел к убийству толкал меня, детей к сиротству…
Наталья, прижавшись к мужу, рыдала, полная благодарности к Демьяну.
– Не плачь, Наташа! Про то забудем. Дема крест меня заставил целовать, что не обижу тебя. Отца на земле покарал Павел, а знахарку наказал я. С Павлом сочтемся после. С тобой же давай уговоримся – всегда правду говорить друг другу и про дружбу Демьяна никогда не забывать…
Аким за дорогу продумал предстоящий разговор с женой и сейчас говорил как по-писаному.
– Акимушка, ничего никогда больше не потаю от тебя. Демьяна Петровича и детям закажу каждый день в молитвах поминать, а у Аксюты за все прощения попрошу: знала ведь, как лиходей наш травил ее, силком в грязь тащил, – говорила Наталья, высказывая все перечувствованное за время поездки мужа.
– Да, Натальюшка, к Оксе сходи. Дема уважает и жалеет ее. Все одно, что ему уважение сделать. Да и Никитин с женой узнают – одобрят тебя, – ответил озабоченно Аким.
У него уже появились думки, как бы с помощью Никитина обогнать Павла: тут и месть и выгода. Наталья ловкая, она сумеет подкатиться к кому надо с добром.
2
Свою салотопню Липатов выстроил верстах в пяти от города, на Ишиме, недалеко от кубринской дачи. Там перетопляли сало, чистили и мыли кишки, и липатинское предприятие звали чаще кишечной, чем салотопней, а в слободке за Липатовым закрепилась кличка «кишочник».
Вдоль берега были разбросаны мостки для чистильщиц кишок, под открытыми навесами на длинных столах резали сало и ссыпали в огромные котлы.
Только возле котлов работали мужчины – подтаскивали топливо, сливали в бочонки кипящий жир. Все остальные работы выполняли женщины и девушки, набранные Липатовым с мельниц, из слободки и со Степной улицы.
Аксюта поступила на салотопню с первой же группой резчиц. Скоро ей удалось познакомиться со всеми работницами и сдружиться с ними.
Она быстро выполняла дневную норму, а потом помогала соседкам, не справлявшимся с работой.
– Ты что, Окся, на других работаешь? За это хозяин платить тебе не станет, – сказала ей бойкая, похожая на цыганку, Марийка.
Аксюта хитро посмотрела на нее.
– Покажи хозяину, что скоро кончаешь, – он живо урок прибавит. Себе не поможешь, а других подведешь. Лучше уж подругам помочь, чем ему.
– А ведь и правда, девки! С него станется. Будешь спину гнуть без отдыха и без толку, – поддержала ее худенькая Филатовна, распрямляясь над столом.
– Правда-то правда! Так и надо делать. Только помалкивайте. Вон идет его наушник, – перебила соседка Марийки, показывая глазами на подходившего старшего рабочего – бабы всегда смеялись над ним, называя «Мочалом» за цвет растрепанных волос.
Аксюта проворно отодвинула нарезанное сало и перетянула себе два стяга от соседки. То же сделала и Марийка. Брызнул веселый смех работниц. Мочало, покосившись, прошел мимо, решив, что они скалят зубы на его счет.
Вслед за Аксютой и Марийкой и другие стали так же делать. Мочало пробовал было намекнуть, что «может, кому надо прибавить», но на него дружно закричали:
– Куда там! С этим уроком и то едва-едва справляемся…
Особенно высоко оценили резчицы сметку Аксюты, когда мойщицам увеличили дневной урок наполовину без добавки оплаты. Получали все работницы одинаково по четвертаку в день.
Любили работницы и песни Аксюты. Когда она запевала, то и рабочие старались задерживаться возле резчиц. Даже Мочало никого не подгонял, а, стоя возле столба, поддерживающего навес, слушал, не спуская глаз с певуньи.
На обед Аксюта тащила своих подруг к Ишиму, поближе к мойщицам. Работницы усаживались кружком, ели хлеб, запивая водой, потом пели печальные и раздольные русские песни, а то разговаривали о своих невеселых делах. Кто бы захотел мерить ежедневно десять верст да работать день за четвертак, коли б не нужда горькая…
Скоро все знали друг о друге все. Мойщицы сердились и ссорились. Из-за выскочек, как они говорили, хозяин большую работу навалил. К вечеру ни рук, ни ног не чувствуешь, спину не разогнешь, а в расчет по двадцать копеек получаешь.
– А вы полно-ка свариться, делайте как мы, вот и легче будет, – сказала один раз Марийка, крепко подружившаяся с Аксютой.
– А как? Как? – загалдели бабы.
– Спросите нашу Оксю, она научит, – засмеялась Марийка.
Мойщицы окружили Аксюту.
– Как мы сделали, у вас уже не выйдет, но можно по-другому, – тихо заговорила Аксюта. – Только, чур, не проболтайтесь. Съедят тогда, а у меня дети, свекровь, кормить надо.
– Ой, что ты! Никто и не узнает. Разве не понимаем! – уверяли мойщицы.
– Вы вот сегодня работайте абы как, чтоб никто половины не сделал, и завтра так же, потом скажите хозяину, что урок больно велик, а за двенадцать копеек ходить сюда резону нет, – учила Аксюта. – К нему сейчас много кишек и сала привезут, резку и по домам давать будут. Обязательно прежний урок восстановит, а вы вперед умнее будьте, не выдабривайтесь, лучше друг другу помогайте, как мы…
Обед шел дольше обычного – работницы сговаривались меж собой, как лучше выполнить совет Аксюты.
Когда дня через три Липатов согласился платить мойщицам за дневную норму по сорок копеек, а за половину двадцать – кишки могли погнить, – авторитет Аксюты среди работниц поднялся.
– Молода головушка, а ума палата! – с уважением говорили про нее пожилые работницы.
Кроме Марийки, к Аксюте часто стали забегать товарки с мельниц и из слободки.
– А как бы и нам надбавки, Аксюта, добиться? – говорили они. – Ведь мойщицам теперь за старую выработку платят по тридцать.
– Ему место надо освободить, новых набрать, так давайте завтра скажем, семейные которые, что работу домой возьмем. За работу на дому он хочет платить по пятнадцать, да выжарки остаются. А мы потребуем двадцать пять копеек, кроме выжарок, ему их девать все ровно некуда. Вот и девчатам, что сюда ходить будут, можно просить тридцать пять за урок, – сказала Аксюта. – Только надо вперед хорошенько сговориться, чтоб никто не уступал. Никитин столько сала возит, что хозяину придется разворачиваться.
Работая в салотопне, Аксюта по-прежнему ходила убирать и стирать к Никитиным. Там и узнала обо всем.
– Завтра же со всеми сговоримся. Я останусь на кишечной, – подмигнув Аксюте, сказала Марийка. – Не больно многие к нему пойдут – на уборку хлебов уехали. А тебе, Аксюта, с детьми лучше дома работать, ишь какие куклята!
Девушка растрепала Танюшкины кудри. Большеглазая девчушка совсем не дичилась чужих.
И эта маленькая битва с хозяином кончилась успехом. До зарезу нужны были ему работницы. Он даже упрашивал, чтобы приходили пораньше да уходили попоздней – перерабатывали дневной урок; платы ему не жалко…
Вместо семейных, которым развозили сало по домам, забирая топленое, Марийка набрала девчат, и они не меньше сорока копеек зарабатывали в день.
Марийка уже знала, что Аксютиного отца и мужа сослали за политику, много и еще нового для себя услышала она и теперь обещала Аксюте заменить ее на салотопне – поддерживать дружбу между работницами, чтоб не уступали хозяину.
– А которые девчата поумнее, к тебе приведу, сама с ними потолкуешь, – добавила она, лукаво прищуривая свои цыганские глаза.
Работать Аксюте дома было выгоднее и сподручнее. Она просила, чтоб ей привозили сала сразу больше, и с помощью свекрови в один день кончала два урока, освобождая себе следующий. Надо было готовиться к зиме.
В свободные вечера она забегала к Антонычу, советовалась, спрашивала новости о друзьях.
Дмитрий по-прежнему вел работу среди интеллигентной молодежи города. Ему удалось связаться с некоторыми учителями и школьниками Мариинской женской школы и мужской высше-начальной. С учителем Красновым они организовали драматический кружок и изредка ставили спектакли. В городе, не имевшем ни кинематографа, ни театра, постановки любителей шли с аншлагом. Но главное было в другом – на репетициях говорили не только о пьесах и ролях.
Дочка нотариуса Валя Соловьева исполняла роли главных героинь и пользовалась успехом у зрителей, чем отец очень гордился. Собирались в его доме. Андрей Александрович, отец Вали, был известен своей благонадежностью, поэтому уездное начальство почти не интересовалось деятельностью Трифонова в кружках, считая, что у Соловьева крамольных разговоров быть не может. Так бы и было, если бы господин нотариус не увлекался преферансом.
Шумный успех выпал на долю любителей артистов, когда, после развала компании «Самонов – Мурашевы», они сыграли комедию Островского «Свои люди – сочтемся». Пришлось спектакль повторить три раза.
– Хо-хо-хо! – не стесняясь, грохотал Никитин, сидя рядом с Самоновым в первом ряду. – Тебе все ж, Антон Афанасьевич, повезло! Зять-то в долговую яму не отправил…
Самонов побледнел, но смолчал. Братья Мурашевы со своими женами тоже приехали на спектакль. Сидели они врозь, во втором ряду.
– Ой, до чего же Липочка на нашу Зинаиду походит! – негромко сказала Наталья своей соседке, вызвав смех окружающих.
Младшая сноха бросила на нее возмущенный взгляд; впрочем, у Натальи эти слова вырвались непреднамеренно.
Действительно, гример постарался, сделал Валю похожей на Зинаиду Антоновну. Дмитрий играл роль приказчика-жениха и был загримирован под Павла Мурашева. Скопировать в спектакле зятя Самонова с женой была его идея. Много часов провел он в купеческом клубе, изучая мимику, повадки, интонации и жесты Павла.
В результате на сцене жил, мошенничал Павел Мурашев. Слова Никитина и Натальи Мурашевой быстро стали известны всем зрителям, и каждая реплика жениха с невестой, а затем супругов вызывала неудержимый хохот в зале в первую очередь именно этой схожестью.
Павел пытался принять скучающий вид, но багровое лицо выдавало его ярость. Зина едва сдерживалась, чтоб не заплакать, а Аким и Наталья вместе со всеми аплодировали молодым артистам.
Если и до спектакля Павел понял, какая большая разница торговать с тестем или одному, то после публичного осмеяния ему на каждом шагу пришлось ощущать это еще сильнее. Каждый чуть не в глаза называл мошенником. Он чувствовал себя затравленным зверем и бешено злился на всех, особенно на братьев.
То, что Аким не сделал скандала, он объяснил себе влиянием Демьяна и возненавидел его. Второй раз молчун перешел дорогу… Но еще большую ненависть питал Павел к Акиму, хотя тот перед ним не был виноват.
Павел, по существу, уже стал второразрядным купцом и не имел другого кредита, как только в банке. Аким, с помощью Никитина, стал выше его.
Запершись в кабинете, Павел сидел часами молча за столом, не откликаясь на зов жены: свое пренебрежение к Зине он теперь не скрывал. Что делать дальше? Он перебрал десятки вариантов, тотчас же отвергая каждый.
Первая мысль у него была – кинуть Зинаиду, захватить весь капитал, взять Аксюту и скрыться навсегда отсюда. «С ней бы нажил большие капиталы в любом месте. Но у нее двое детей от Кирюшки», – думал он, стараясь забыть главное: что никогда она на это не согласится, Аксюта при встрече с ним отворачивалась. «Да ведь и у меня есть сын», – мелькнуло под конец.
Как ни желанен был подобный выход, Павел скоро перестал о нем думать и с тех пор почувствовал к Аксюте ненависть. «Она обманывала меня еще в девках», – убеждал он себя, стараясь побороть страсть.
В конце концов он пришел к выводу, что в его положении есть только два пути: помириться с тестем и вновь стать его компаньоном или немедленно уехать в Петропавловск, а лучше куда подальше – в Петропавловске может вредить Аким.
Облокотившись на письменный стол и сдавливая виски, Павел старался спокойно и холодно решить, какой же из них лучше.
Мириться с тестем – придется признать себя виновным, вернуть Акиму сто тысяч, предложить тестю тридцать, тогда останется двести с хвостиком, но будет возможность быстро наживать и пользоваться прежним почетом. «Но возвращать капитал Акиму…» Павла передернуло от ненависти.
Уехать… но куда? Убытки при переезде понесет большие, и где, кроме Акмолинска и Петропавловска, найдешь такие бешеные барыши. Потом – везде есть свои богатые купцы, разве они дадут дорогу новичку…
* * *
Витя Осоков уже не состоял в артели Мохова. По совету Антоныча, он сам организовал артель возчиков в тридцать подвод, подобрал людей, которых в будущем надеялся вовлечь в революционную работу. Никаких процентов за ручательство он не брал, и возить они стали медь со Спасского завода в Петропавловск, захватывая на обратном пути груз для мелких торговцев.
В артель вошел и Митрофан Саввич Романов. Возчики доверяли друг другу и, будучи однолошадниками, обычно делили работу: один рейс на всех лошадях ехала половина хозяев, другой – вторая, а заработок делили поровну. Такой порядок давал людям отдых и возможность справиться с домашними делами. Возглавляли по очереди Романов и Виктор. Они же были связными между подпольными организациями Петропавловска, Акмолинска и Успенского рудника.
Топоркову и по-прежнему неуловимому Трофиму Мокотину удалось организовать небольшие подпольные организации на Спасском заводе и в Караганде. Связными между новыми организациями и старой – на Успенском руднике – были Бостан, Сатай и Мамед. Они же были пропагандистами среди казахской бедноты. Русские, те, у которых земли, денег мало, друзья казахов, убеждали где словом, где песней: «Наши баи, купцы, заводчики, барагер[19]19
Барагер – одинаково, все равно.
[Закрыть] – нам враги…»
Говорить приходилось осторожно. Вековечная косность, бытовые предрассудки крепко держали в своих цепях казахов, но брешь в родовом строе хоть и медленно, все же росла.
Из оседлого аула Мамеда частенько ездили гости к напарникам Карпова в Родионовку. Те помогли землепашцам купить старенький двухлемешный плуг, Андрей Полагутин отремонтировал его, а Егор Лаптев весной научил пахать им.
Песня старого Джаксыбая включила новое событие и пошла летать по степям до самых Каркаралов. Она была неуловимым действенным оружием в борьбе со старым, косным.
– Друзья мои! Мы оторваны от центра, но число революционеров растет, и когда партия прикажет, у нас здесь встанут сотни, тысячи готовых бойцов, – взволнованно говорил Антоныч подпольщикам, прочитав письма от Мокотина и Ивана – привез Виктор из очередной поездки на Спасский завод. – Постарайся узнать новости от Степаныча, Витя! Может быть, они связались с центром или Омском. Третий год мы не имеем весточки…
3
В осенние дни приходилось сало топить до позднего вечера. Когда Аксюта вытаскивала из печи последний горшок, кто-то негромко постучал в окно.
– Мамынька, открой дверь! Поди, Марийка, забежала.
Евдоха сидела с внучатами на лежанке; отодвинув от края Алешу, она, кряхтя, спустилась на пол, поправила темный платок на серебряных волосах и вышла в сенцы.
Любила старуха сноху с внучатами, не знала особых лишений, но тоска о сыне и Параське с каждым годом подрывала ее силы. Она по-прежнему копошилась по дому, пряла на веретенце, но на глазах старилась, даже зрение сильно ослабло.
Открыв дверь, Евдоха увидела женщину в зеленом пальто и шляпе с пером. Рядом с ней стоял мужик в поддевке, с большим ящиком в руках.
– Поставь в сенцах, Мокей, и жди меня, – приказала ему гостья. – Здорово живете, Евдокия Васильевна! Где тут у вас дверь-то? – И она вошла в сени вслед за Мокеем.
Аксюта, сливавшая кипящий жир, сразу же узнала Наталью Мурашеву и от изумления едва не выронила горшок.
…Наталья несколько дней обдумывала, как говорить с Аксютой Железновой. На ласковый прием она не рассчитывала, но клятву, данную в отсутствие Акима, хотела во что бы то ни стало выполнить.
Кроме страха перед богородицей, Наталью толкало и то, что Павел им обеим враг: ей хотелось помочь Аксюте, назло деверю.
Не пропал даром и намек мужа: помощь Аксюте – отплата за добро деверю Демьяну, теперь по-настоящему уважаемому Натальей, а также способ возвыситься в глазах Никитиной, а значит еще больше восстановить Терентия Егоровича против Павла, своего лютого врага.
Благодарность, расчет и чувство мести толкали купчиху на восстановление дружеских отношений с Аксютой, но не вернется ли она от порога Кирюхиной жены ни с чем?
После долгих размышлений Наталья решилась рассказать о муке, перенесенной ею от свекра, о том, что Аким, подстрекаемый Павлом, чуть не убил ее, разжалобить бабьим горем, признать и за собой вину, которую нельзя скрыть…
«Главное, чтобы сразу не выгнала, слушать стала», – думала Наталья и решила начать с упоминания имени Демьяна: его уважают дружки Федора и Кирюхи, значит и Аксюта, об этом говорил Аким.
– Здравствуйте, Аксинья Федоровна! – поклонилась Мурашева, будто не замечая взгляда хозяйки. – Не удивляйтесь моему приходу. Богом прошу, поговори со мной по тайности, хоть ради Демьяна Петровича: друг он тебе и мне. – От волнения Наталья побледнела, и на глазах у нее выступили слезы.
Аксюта невольно замялась. Первым желанием было выгнать вон жену и сноху предателей, хитро обманывавшую ее мать. Но имя Демьяна, измученный вид и слезы Натальи заставили сдержаться. Пусть скажет, зачем явилась, – указать порог всегда можно.
– Раздевайся, Наталья Михайловна, заходи в горницу, хоть и не знаю, о чем нам говорить, – холодно ответила она.
Войдя за Аксютой в горницу, Мурашева прикрыла за собой дверь. Достоинство, с каким держала себя Аксюта, покорило Наталью, и сейчас ей было стыдно, что не помешала она травле Аксюты Павлом, не возражала сплетням. Упав на колени перед иконами, Наталья заговорила сквозь слезы:
– Богородицей клянусь, Аксюта, хоть и выполняла я приказание свекра, но ничего не знала о том, как удумал он зло Палычу и мужу твоему! В том зле не виновата я перед тобой. Пришла к тебе с добром, за другую свою вину прощение выпросить. Не гони меня, выслушай…
Аксюта хорошо знала хитрость и лживость старшей снохи Мурашева, но сейчас в голосе той звучало такое искреннее горе, что она ответила мягко:
– Расскажи, Наталья Михайловна, послушаю.
Наталья поднялась с колеи и, привалившись к стене, рассказала, как надругался над ней свекор после смерти Марфы Ниловны, как Павел было подвел ее под топор мужа и только Демьян спас.
– Три дня, три ночи молила богородицу, все грехи свои вспоминала и клятву дала, что искуплю их, коль жива буду, – говорила она, плача. – Самый большой мой грех – что не вступилась я, когда Павлова Зинка на тебя грязь лила. Он ведь что-то поганое замышлял, да Никитин вступился, цыкнул на него…
Аксюта вздрогнула: какую еще гнусность придумал негодяй?
При словах Натальи о заступничестве купца Никитина она удивилась. Ведь Терентий Егорович с ней слова никогда не сказал.







