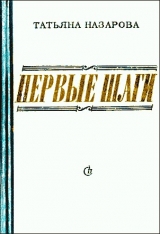
Текст книги "Первые шаги"
Автор книги: Татьяна Назарова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 39 страниц)
И в первый же день по возвращении он настрочил рапорт на трех страницах. Начальник уезда обвинял администрацию горных промыслов К. Э. Карно в том, что она грубым нарушением устава о промыслах, резким взвинчиванием цен в заводских лавках, чванливым отношением ко всему русскому толкнула на забастовку мирных рабочих и вызывает их волнение сейчас.
«Мною, по принятию лично всех необходимых мер к успокоению рабочих на горных промыслах К Э. Карно, будет выслан туда мой помощник, которому я предложу иметь неослабное наблюдение и настояние над администрацией этих горных промыслов о строгом и точном выполнении ею всего мною намеченного…» – писал он в рапорте. Пусть господин военный губернатор узнает, как заботливо следит он за политическим состоянием своего уезда, предупреждая возможность вспышки бунта. Это тоже для него хорошая характеристика.
Узнав, что через Акмолинск проезжают делегаты, ходившие к Феллю для переговоров, Нехорошко вызвал их и лично допросил, причем, к удивлению рабочих, ставил вопросы так, чтобы ярче подчеркнуть вину негласного директора. Разумеется, он получил желаемое. Протоколы допроса с собственными комментариями начальник уезда приложил к рапорту. Он покажет этому англичанину, как опасно раздражать его!
Глава семнадцатая
1
На деньги, полученные за извоз, молодые купили корову, во дворе закудахтали куры – подарок тещи, Аксютиных подруг, да десяток еще Аксюта заработала шитьем. Кирилл чувствовал себя совсем справным хозяином.
Но главное, что наливало силой и ловкостью руки, было то, что в хате, раньше пустой, а теперь похожей на уютное гнездышко, звенел голос и радостный смех Аксюты, его Аксюты!
Не умел раньше плотничать Кирилл, а сейчас сам перегородкой разделил хату на кухню и горницу. Вместо неуклюжих скамеек в горнице стоят табуретки и даже три стула – его работы.
Зимними вечерами Аксюта шьет или вышивает, а Кирилл, сидя за столом, покрытым камчатной скатертью, читает ей вслух одну из двух книжек, дорогой подарок друзей – поэму Некрасова или рассказы Толстого, – других книг пока нет. Чуть не наизусть выучил Кирилл, а все равно интересно. Каждую строчку обсуждают они, сравнивают с жизнью. Не всякую мысль вслух можно высказать – старая Евдоха тут же крутит веретенце, но они друг друга понимают с полуслова.
А то гости соберутся на огонек, тоже молодожены, сестры Кирилла забегут, иногда и с мужьями, запоют песни. Вместе со всеми поет Кирилл, но чутко прислушивается к одному голосу и с гордостью посматривает на своих «годков»: чей голос сравнится с голосом его Аксюты!
Не любит Кирюша Грицка Дубняка и Емельяна Коробченко, мужей сестер, но когда сидят они у него в гостях, поглядывая по сторонам, он доволен: пусть смотрят – у него получше, чем у них. Вышитые, с кружевами, повисли шторки на окнах, спряталась печь за белой занавеской, как невеста нарядна кровать, глиняный пол закрыт веселыми пестрыми половичками из цветных лоскутков. Все принесла Аксюта, ее руками сделано! Красивее, чем на богачах, вышитая рубаха на нем – таких вышивальщиц, как его жена, в селе больше не найти.
Весело, дружно жили молодожены. Часто вдвоем ходили на саратовский конец, к родным Аксюты. С высоко поднятой головой шел Кирилл по улице: никто теперь не назовет свинопасом, оборванцем, а жена у него такая, что у всех молодых мужиков зависть вызывает.
Искоса, смеющимися глазами, взглядывает он на Аксюту… Идет рядом с ним нарядная, пригожая, будто королевна из сказки. В лучистых глазах и ласка и лукавство. Понимает Аксюта, о чем думает ее молодой муж.
– Господи, посмотрю на вас – хоть порадуюсь, увижу, как добрые люди живут, – говорила Параська, забежав вечерком к брату.
Она была искренна. Ей по-прежнему жилось несладко. Что из того, что у свекра десять коров, полон двор быков и лошадей да три батрака! Когда тебя едят поедом, сладкий кусок кажется горьким.
Евдоха вначале тоже было попробовала, следуя обычаю, командовать снохой, но Кирилл сразу прекратил воркотню:
– Вот что, мама! Живи в спокое. В чем сможешь помочь Аксюте по дому, помоги, но чтобы ни одного худого слова я не слыхал!
Старая Железниха пожаловалась дочерям.
– Ой, мама! Да чего же тебе еще надо? Живешь как в раю. Аксюта и в доме работница и на стороне прирабатывает то шитьем, то вышиваньем. Тебе ли ее учить? – ответила возмущенно Параська. – Аль охота, чтобы и она высохла, как я?
Галька отнеслась к жалобам матери по-другому. Слушая, она скорбно поджала губы.
– Терпи, родненькая! – ласково говорила она, изображая любящую дочь. – Они же, Карповы, вон какие гордые, взять хоть и свата Федора. Хороших людей он ни во что ставит. И батя так говорит. А Аксюта вся в отца – и лицом и характером. Кирюше совсем голову заморочила. И в моленную-то раз в год по обещанию заходит, совсем бога забыл, где уж мать помнить…
После разговора со старшей дочерью Евдоха долго ходила надутая.
– И что это мамаша на меня сердится, слова не ответит добром? – спросила Аксюта мужа.
– А ты не обращай внимания. Это Галька надудела, – ответил Кирилл. – Вот я сделаю этой советчице от ворот поворот. Пусть у Дубняков порядок наводит, а мы и без ее ума обойдемся.
Когда следующий раз Галина принесла матери блинчиков, Кирилл завернул их обратно в тряпку и сказал сестре:
– Вот что, умная моя сестрица Галина Николаевна! Ты мать не расстраивай и подачек не носи. Покорми ими своего барбоса. Пять лет мы жили с матерью без коровы – ты, богачка, никогда крынки молока не принесла, наш двор крутом обходила. А теперь раздобрилась. То у тебя мать дурой была, а тут вдруг поумнела. На Аксюту ее травишь…
– Да чтой-то ты, Кирюша, на меня нападаешь? – расплакалась Галька. – Я с добром прихожу…
– Знаю я твое добро! За кулака вышла и сама кулачкой стала, – перебил ее брат. – Батрачек научилась поедом есть, забыла, как сама за кусок хлеба гнулась. Тебе ведь ни мать, ни меня не жаль.
Аксюта сидела молча. Брат лучше свою сестру знает. У нее тоже душа к Гальке не лежала. Молчала и Евдоха. Ведь и правда, Галька раньше к ним заходила только на пасху похристосоваться. Кое-что из слов сына дошло и до нее.
– Бог с вами, коли так! Могу и не заходить, коль уж я тут лишняя, – обидчиво молвила Галька, поднимаясь. – Видно, ты по дорожке тестя, Кирюшка, идти хочешь. Смотри, не занапасти свою головушку. Простите, Христа ради. Заходи, мамушка, к нам!
– Ты зря, Галя, моего отца цепляешь, – не выдержала Аксюта. – Я в ваши споры не вмешиваюсь. А отец мой никого не обидел, ни с кого кожу не дерет, как некоторые…
Кирилл засмеялся.
– За то он свекру моей сестрицы и не нравится, да и ей, видно. Кабы не Федор Палыч, быть бы мне батраком у них, а теперь я сам хозяином стал…
Рассерженная, Галина ушла.
Месяца два после этого свекровь дружила со снохой, напряла ей на чулки и варежки шерсти, помогала по дому, ласково встречала Машу, прибегавшую чуть не каждый день проведать сестру. Аксюта была довольна. «Мамынька, мамынька!» – щебетала она со свекровью.
Параська по-прежнему частенько забегала к брату. Она искренне привязалась к снохе. Ей даже легче стало жить. Емельян, бывавший у Железновых, нет-нет да и одернет мать, когда та начнет точить.
«Видно, на Кирюшу глядя!» – думала Параська. И у свекрови было меньше возможности попрекать сноху родней. Не скажет теперь, что брат оборванец да мать побирушка.
Раньше Евдоха охотно брала милостыню в моленной, Кирилл как-то не обращал внимания на то, что мать делает. По правде сказать, он и не спрашивал, откуда она крынку молока принесет: своей коровы не было. Аксюта быстро отучила свекровь от попрошайничанья.
– Мамынька, а ты возьми калачик с собой в моленную, милостыньку подашь добрым людям, – предложила она, когда свекровь впервые при ней собралась к вечерне.
И старая Железниха стала сама подавать милостыню.
Однажды вечером Параська пришла к брату с мужем и молодым, бедно, но чисто одетым парнем.
– Взяли с собой Бориску. Наш новый работник, – сказал Емельян. – Совсем парень заскучал в Родионовке. Знакомых нет.
Борису было лет двадцать пять – двадцать шесть. Светло-русый, светлоглазый, с чуть попорченным оспой лицом, с первого взгляда он казался пригожим парнем. Только, пристально разглядывая, можно было заметить, что у него косили глаза.
Кирилл встретил нового гостя приветливо. Молчалив парень, но ведь и его самого раньше молчуном дразнили. А тут еще и хозяин рядом, не больно разговоришься. Гости попили чаю, попели песни. Хорошо спелись Аксюта с Параськой.
Емельян шутил и смеялся.
– И моя Параська покрасивела, как ты, Кирюша, свою кралю домой привел. Ишь как заливаются! – говорил он, подмигивая на поющих женщин.
С этих пор новый батрак Коробченко зачастил к Железновым. Он ни о чем не спрашивал, но охотно рассказывал о своей печальной жизни. Десять лет в батраках ходит. Во всех селах поработал, а теперь вот в Родионовку попал…
– Как живется-то? – спрашивал Кирилл.
Борис молча качал головой.
– Все они, хозяева, на один лад, – говорил он. – Всю душу вымотают.
– Видно, боится про нашего свата говорить откровенно, – сказал как-то Кирюша жене.
– А не нравится он мне, – ответила Аксюта. – Никогда в глаза не глянет прямо. Хитрый он…
– Да ведь он раскосый. Видно, стесняется. Парень еще, – ответил Кирилл.
Перед севом мир в семье Железновых нарушился. Ссора между молодыми и старой Евдохой началась с пустяков, но зашла очень далеко.
В воскресенье, собираясь к своим, Аксюта наряжалась возле маленького зеркальца, висевшего в простенке.
– Кирюш, а что, если я заброшу этот повойник? – спросила она, уложив венцом вокруг головы толстые косы, и покрылась по-девичьи белым платочком.
Повернувшись к мужу лицом, Аксюта улыбнулась.
Свекровь, сидевшая на лавочке возле печки, недовольно посмотрела на нее.
– И выбрось эту дрянь совсем, – взяв повойник в руки и любуясь юным лицом жены, согласился Кирилл. – У тебя косы выше повойника. – Он неожиданно швырнул повойник под порог.
Евдоха затряслась от гнева и кинулась за повойником. Аксюта рассмеялась.
– Совсем басурманом стал, как эту басурманку привел в дом! – закричала мать. – На него венцы клали, а ты наземь швырнул. А та бесстыдница еще ржет… Известно, вся в отца пошла, а он совсем нехристем стал…
Кирилл нахмурился, а Аксюта побледнела. «Сколько ни ухаживай, ей все отец мешает», – подумала она с обидой.
– Твое дело, мама, десятое… – заговорил Кирилл, еле сдерживаясь.
Но мать перебила его:
– Рогачом из дома выжену распатланную! Без повойника – все одно что невенчанная!.. – кричала она.
– А как Наталья Мурашева и в церковь ходит без повойника, хоть свекор у ней в моленной кадилом махает, так ничего, – отозвалась Аксюта и тем подлила в огонь масла.
Евдоха еще пуще закричала и повернулась к кути, будто собираясь взять рогач. Кирилл, вскочив с места, вырвал у матери повойник, разодрал на клочки и бросил на пол.
– Не будет Аксюта носить его больше никогда, и тебе до того нет дела, не лезь в наши дела! – говорил он, задыхаясь от гнева.
Ему было понятно, откуда ветер дует. Вчера мать ходила к своему братцу, а там и Галька была, конечно. Евдоха завопила в голос:
– На шлюху мать меняешь? Гуляла, гуляла то с Колькой Горовым, то с Павлом Мурашевым, а потом тебе на шею кинулась! – причитала она.
Лицо Кирилла побледнело от бешенства. Перепуганная Аксюта кинулась к нему и повисла на его руках.
– Кирюша! Не надо! Ты знаешь, что ее научили, сама не придумала бы, – умоляла она мужа.
Евдоха, перепугавшись, быстро одевалась. Закрутив голову платком, она кинулась к дверям.
– Оставайся с Павловой гулёной, ноги моей больше здесь не будет. Найдутся добрые люди, дадут старухе угол, – несся ее голос из сеней, а потом с улицы.
Аксюта, отпустив руки мужа, упала на стул и, спрятав голову в стянутой со стола скатерти, безутешно рыдала. Вот какой грязью ее поливают! Не сама Евдоха это придумала…
– Аксюта, не плачь! Не стоят они одной твоей слезинки, – говорил Кирилл, целуя упавшие на плечи косы жены. – Не мать после этого она мне. Умные люди все поймут. Умойся, пойдем к нашим…
– Мать от нас ушла, – сообщил Кирилл, когда они пришли к Карповым. Прасковья, сразу же заметив заплаканные глаза дочери, всплеснула руками.
– Расскажи, что случилось, Кирюша, – попросил, став серьезным, Палыч.
Кирилл ничего не скрывал.
– На мать, дети, не очень гневайтесь, – заговорил Федор, выслушав Кирилла. – Не ее ума дело. Сваху науськали у Кондрата, воспользовались ее малоумием, а руку-то приложил Мурашев. Всю зиму молчал, около себя дружков крепил, а теперь и показал себя. Надо бы помириться вам…
Кирилл изумленно взглянул на тестя. Именно его-то мать больше всех хаяла – и он советует мириться?! Да и как? Она, поди, у дяди. Разве ее оттуда теперь пустят…
– Трудно, а придется, – ответил на его взгляд тесть. – Дело-то наше выше всего. Маша, сбегай к дяде Матвею, пусть с Матреной к нам идут. И к дяде Егору забеги, – приказал он младшей дочери.
Маша, одевшись, ушла.
– Через недельку сход соберется о земле говорить, – продолжал Федор. – Детишек прибавилось. Надо у богачей лишки взять – у Мурашева, Юрченко, Дубняка и других. Всех за собой должны мы вести, а тут разговоры пойдут, и вас и меня винить будут… Сестру твою Прасковью Николаевну попросить следует. Баба она хорошая, с вами дружит. А тебе, Аксюта, повойник-то придется надеть, шут с ним…
Три дня шла глухая борьба в Родионовке вокруг Евдохи Железновой. Матрена всем бабам рассказала, как сама Наталья Мурашева говорила ей о том, что Федор отказался выдать Аксюту за Павла. Николай Горов, разговаривая с молодыми мужиками, к месту вставил, какая строгая Аксюта в девках была и как горевал он, когда сватам отказали.
Аксюта подругам жаловалась, что наклеветали на нее свекровушке, а уж как она уважает ее, скучает об ней, и, перевязывая полушалок, показывала красивый, новый повойник.
– Я ведь пошутила, – говорила она. – Мало, что Наталья, как девка, покрывается, они вон Павла в городе у православного попа венчали, нам за ними идти нечего. Да мне и тятя не позволит простоволосой ходить…
Каким образом Параське удалось на третий день увести мать от дяди, никто не знал. Аксюта встретила свекровь ласково.
– Чтой-то ты, матушка, задержалась так? – говорила она. – Смотри-ка, какой повойник я сшила! Я уж ругала Кирюшу, что он изорвал тот. Сшила я его, – показала она, вынув из сундука кое-как стянутые куски, – пусть на смерть лежит, подвенечный-то. А про Колю и Павла зря тебе, мама, наплели. Оба ведь сватали меня, да не выдали. За Кирюшу хотел тятя отдать, любит он его, и я за него сама, мамынька, желала. Оба мы не богатые, как раз пара.
– Ты, мама, забыла, как тебя раньше Горпешка гнала? Теперь-то они ласковы, пока с сыном да снохой ссорят, а потом, как сына не будет, так и выгонят опять, – растолковывала Параська матери. – Ну, признайся: Горпина да Галька тебе наплели про Аксюту?
– Говорили, – прошептала Евдоха. – А куда ж Кирюшка денется? – спросила она. Мысль о том, что сына вдруг не станет, запала ей в голову и встревожила.
– А вот будешь худославить – возьмут да в город уедут. Кирюшка извозчиком станет работать, а Аксюта шить начнет. Вон она какая мастерица! – пугала Параська мать.
И Евдоха действительно испугалась. Ей ведь брат и так сказал: «Недельки две поживешь у нас, а там и вернешься». А как уедут, к кому вертаться-то?
– Хочешь добра, мама, – Кирюши да Аксюты держись. Галька от зависти да со зла плетет бог знает что, а ты ей не нужна, мне взять тебя некуда, а Горпешка выгонит живо, – говорила Параська. – Ведь раньше ты от нее, кроме «дура» да «полоумная», и слов других не слыхала…
И Евдоха, вспомнив все, поняла, что не на хорошее ее толкают, ссоря с единственным сыном-кормильцем да со снохой, от которой, кроме доброго, ничего не видела. В лохмотьях ведь раньше ходила… Горько расплакавшись, она поглядела на Аксюту, взглядом попросила прощения.
– Мы тебя, матушка, не обидим. Только не слушай ты наших лиходеев, – сказала Аксюта, обняв свекровь.
Евдоха осталась у сына. Целыми днями сидела она за веретенцем и думала о том, зачем же ей говорили плохое на сноху, но ничего придумать не могла.
– Палыч во всем справедливый человек, – рассуждали родионовцы, вспомнив о ссоре молодых с Евдохой.
* * *
Перед сходом к Карпову зачастили мужики со всех концов села. Только друзья Мурашева не показывались.
– Слышь, Палыч, наделы-то хотят меньшить, землю переделять, – тревожились мужики. – Что делать-то?
– Надо допрежь лишнюю у богачей забрать, поди, хватит на новые души, – отвечал Федор.
Наконец наступил день схода. Богачи и их подпевалы окружили старосту и Мурашевых – Петра Андреевича и Демьяна, остальные теснились ближе к Федору и его товарищам. На глаз было видно, что большинство тянется к Карпову.
– Вот что, мужички, я вам скажу, – начал староста, открыв сход. – За пять лет народилось у нас мужеска пола семьдесят душ. Придется с ними земелькой поделиться. Больше-то нам ведь не прирежут…
Мужики молча поглядывали на Федора.
– Дай-ко мне, Филимон Прокопьевич, словечко молвить, – попросил Карпов.
Староста взглянул на Петра Андреевича, потом разрешил:
– Говори, Федор Палыч, послушаем.
– Земли на новые души, конечно, дать надо, мужики. Без земли крестьянину жить нечем, – спокойно заговорил Федор. – Арендовать-то не всем по силам. Только, по-моему, следует, прежде лишние наделы снять, а тогда и увидим, придется ли прочие мельчить…
Мужики зашевелились, кое-кто заговорил было. Выждав, пока все успокоились, Карпов продолжал, глядя на листок, исписанный цифрами:
– Вот у моего зятя Кирилла Железнова лишний надел, можно взять его, у Петра Андреевича сразу было пять наделов лишних, да Павел выписался – стало шесть, у Никиты Степановича на внуков три надела, а внуки-то еще не родились, у Кондрата Пахомовича два лишних надела заблудились…
Он прочитал длинный список, и оказалось, что семьдесят пять наделов лишних имеются.
– Я так по справедливости считаю: нечего трогать всех, на новые души запаса хватит, – закончил он, свертывая запись. – За одним, мужики, надо и о лугах договориться. Ведь делили до сих пор по наделам. Кому землю прирежем, тому и лугов прибавим. А коли большим хозяевам покажется мало, так они в аренду у киргизов могут взять…
Минуту на сходе царила тишина, а затем начался отчаянный шум. Владельцы лишних наделов не хотели их отдавать, но против них стояли не только те, кому следовало добавить земли, а и все остальные мужики, у которых не было лишков. Кирилл в кучке молодых мужиков весело говорил:
– А что ж! Лишний – пусть берут. Правильно батя сказал. Родит жена сына, тогда и я попрошу прибавки.
Предложение забрать лишний надел у Кирюшки, из двух один, для противников Федора было неожиданным. Они считали, что это их козырь, а Федор с него начал.
– Мужики, зачем ругаться? Наше право, и никто его отнять не может, – сказал Федор, чуть повысив голос.
Ближайшие услышали и начали стихать.
– Филимон Прокопьевич, давай оформлять решение схода. Большинство хочет поступить по справедливости, – предложил Федор старосте. – Зря Кондрат Пахомович разоряется. Когда не нужно было, пахали они лишнее, мы молчали, а теперь должны отдать обчеству…
Староста поглядел на сход. Мужики стояли перед ним плечом к плечу, суровые, решительные. Ясно, что никто от себя не даст отрезать законное, коли у других незаконные лишки есть.
…Вечером Борис, сидя в хозяйской горнице, писал уездному начальнику: «Я подружился с зятем Карпова, но пока ничего особенного выявить не удалось. Сегодня на сходе за Карповым шло почти все село, отняли у видных хозяев лишние наделы, но тут он требовал по закону, ничего сделать было нельзя. За исключением богатых хозяев, Карпова в селе все любят. Попытка опозорить его потерпела крах. Он очень осторожен, поймать с поличным трудно. Буду стараться вступить в их узкий кружок. Такой есть. В него входят следующие: Кирилл Железнов, Родион Дедов, Матвей Фомин…»
2
Для Петра Андреевича прошедшая зима была, пожалуй, самой тяжелой в его жизни. При всей изворотливости он не мог придумать, как заставить сельчан забыть несчастную историю с обыском, забыть, что он ездил с доносом. Если бы Карпова забрали, было бы легче. Но присланный начальником «опытный человек» за месяц ничего не добился, а там и совсем рассчитался с Дубняком и уехал. За два следующих месяца Мурашев измучился, даже похудел, думая, что потерял доверие в глазах начальства. Ведь тогда исчезала надежда расплатиться с Федором.
После появления нового «опытного человечка», тайно передавшего ему записочку от Нехорошко, Петр Андреевич ожил. Бориса устроили у Коробченко и Емельяну поручили подружить его с Кирюшкой. Идею создать свой союз, поданную Мурашеву уездным начальником, он осуществил полностью. Десятка два богатых хозяев объединились вокруг Мурашева и его компаньонов. С ними он вел откровенные беседы о Карпове.
– Возьми хоть Матюшку, Родьку аль Кирюшку, любого из них – без Федора они ноль без палочки. Объединяет он всех да ими нас потом и бьет. Заорут на сходе – и куда ты денешься: их много, глотки здоровые. Царя-батюшку и то гольтепа манифест заставила написать, шутка ли! Смеются надо мной, что за начальством ездил, да ведь село от язвы освободить хотел. Плетет он сети, хозяевам вздохнуть не дает. Гуртом и нам надо действовать. Следить за ним не переставая, с умом только. От всех не скроется…
Была и другая забота у Петра Андреевича. Старая ведьма Еремеевна нет-нет да и явится и начнет вздыхать да про свою загубленную душу вспоминать, пока не сунет ей Мурашев пятерку, а то и целую десятку. Этакая ненасытная утроба!
Совесть у бывшего начетчика была покладистая, и не напоминай старая знахарка про отравление Ниловны, он бы о покойнице редко когда вспомнил. А после неприятной встречи Марфа вставала перед глазами. Ему казалось, что она смеется над ним. Ведь без толку со свету сжил.
Кружила его и страсть к Наталье, а сделать ничего нельзя было: сын Аким дома сидит. Если на недельку в аул уедет, что толку?
Долго ездил Аким в Петропавловск, большой выгоды добился: по дорогой цене скот продал, по дешевке товар взял и с первеющим петропавловским купцом познакомился. Казалось, отец должен быть доволен, а он сурово хмурится, слова добром вымолвить не хочет.
Хитер Аким, а тут не мог разгадать загадки и решил, что мучает отца насмешка Карпова, да и об умершей матери, видно, скучает.
Легче Мурашеву стало, когда сват Антон Афанасьевич предложил Акиму ехать старшим доверенным с его гуртами в Петропавловск, после весенней ярмарки. Теперь и богатая прибыль от поездки Акима радовала его.
«Через год-два с Акимом и Натальей в город можно перебраться, – думал он, шевеля вожжами. – Демьян будет вести хозяйство в селе. Но нельзя уезжать, пока с Карповым не разделаюсь, – мелькали мысли. – Коль уеду из Родионовки, кто сумеет уследить его? Не лыком шит Федор, грамотный, вон и зятя грамоте обучил. Старшая дочь читает, а теперь, Наталья сказывала, и младшую учить начал…»
Петр Андреевич ехал в Акмолинск, чтобы оформить договор с Самоновым на поездку Акима с гуртами в Петропавловск.
В степях поздняя весна – лучшее время года. Волнами струится теплый воздух – земля еще не потеряла весеннюю влагу и парит. Солнце, ласковое, как родная мать, щедро облучает все живое, не забывая ни одну былинку. И степь покрывается зеленым ковром, будто руками искусных вышивальщиц расшитым яркими цветами.
Полянки, густо покрытые золотыми одуванчиками, чередуются с россыпями розовеющей кашки, малиновой богородской травы. Грациозные, на тонких стеблях, лиловые и голубые колокольчики то сбегаются вместе и не переставая кланяются друг другу под слабым дыханием ветерка, то гордо возвышаются в одиночестве, как часовые на посту. Соцветия черноголовки, желтые, фиолетовые, почти белые, тянутся вверх из густой травы, словно боясь, что обитатели степных просторов не заметят их между нарядными собратиями…
А обитателей в степи много. Вот камнем упал с неба ястреб, и пискнул зазевавшийся суслик или тушканчик, а может быть и перепелка. Прожужжали шмели; с венчиков цветов взлетели с тяжелой ношей осы, пчелки; затрещал кузнечик, мелькнула крылатым цветком крупная бабочка; скользнула по траве тень степного коршуна; зазвенела трель жаворонка…
Степь живет, дышит, звучит. Но путник, едущий по узкой проселочной дороге, серой змейкой ползущей среди придорожной травы, скоро перестает слышать звуки степной жизни и даже смягченные пыльной подушкой стуки конских копыт, скрип колес своей телеги. Взор его жадно впитывает радушную красоту степи, душу охватывает умиротворяющая тишина, полный покой.
…Мурашев уронил вожжи и, не замечая окружающей красы, задумался.
Петр Андреевич пытался понять, почему умник Федор не о своем добре заботится, а на рожон лезет, с гольтепой да с киргизцами возится. «Неужто их верх когда-то будет? – задал он себе вопрос. – Вон царь манифест выпускал, думу собирал. С чего бы это? Неужто испугался?» Готовясь к будущей купеческой деятельности в городе, Мурашев при случае и газетки теперь стал почитывать. У свата Самонова и Павла встречался он с разными людьми и чутко прислушивался ко всем разговорам, а оставшись один, начинал рассуждать сам с собой о политике.
«Нет, такого быть не может, – ответил он на свой вопрос. – Поманил дураков, а коль о себе много вообразили, взял да и разогнал, – вот те и Государственная дума. Веками жизнь так идет, что бедные богатых слушать должны, власти покоряться, а кто забунтует, с тем живо справятся. Вон прошлый раз мне рассказывали: прислали из Омска поверенного Трифонова, и законник, а заумничал – живо ссыльным стал».
– Но, поторапливайтесь! – подбодрил он лошадей и первый раз окинул взглядом зеленую степную равнину.
Ни спереди, ни сзади никого не видать. А тихо-то как! «Благодать божья, покой, а люди мечутся», – подумал он со вздохом. Но мысли, горячие, волнующие, вновь хороводом закружились в голове, и желание покоя исчезло.
До чего же выгодно ехать Акиму в Петропавловск! И свой скот продаст, и хоть один процент, да получит со скота Самонова. А там многие тысячи голов. «Прижимист Павка, лишнего не передаст», – деловито думал Мурашев, стараясь заслонить главное, что радовало его при мысли об отъезде сына.
– Месяца три, как не больше, нам с Натальей придется торговать без Акима, а там и осенняя ярмарка подойдет, опять, видно, уедет, – вымолвил он вслух, будто жалуясь кому на тяжесть трудов, но глаза у него заблестели и в лицо словно кто жаром кинул.
Перед глазами мелькнула Наталья, какой навсегда он запомнил ее тогда, в пляске на свадьбе Павла. Хищно оскалив рот, он изо всей силы ожег кнутом лошадей, и хотя пара сразу же перешла на крупную рысь, Мурашев, страшный от возбуждения, продолжал хлестать длинным, плетеным бичом.
– И-их ты! – дико вскрикивал он. – Пождем-дождемся…
Опомнился Петр Андреевич, уже подлетев к белым могилам. Пена падала с железных удил на песчаную дорогу, бока лошадей ходили ходуном.
3
Когда Мурашев вернулся из города, родионовцы уже отсеялись и огороды посадили. Весна была ранняя, люди работали усердно, беднота помогала друг другу. Пример показали супряжники. Когда кончили пахать Карпову, Егору и Кириллу, Федор с Егором остались заканчивать бороньбу и сев, а Кирилл с плугом переехал на загон Парамона. Кошкины мучились с сохой, в которую впрягли быка.
– Давай, дядя Парамон, вспашем твой клин. Хозяйка, веди коней, я за плугом пойду, а Парамон Филимонович за нами боронить да сеять будет, – предложил он.
Парамон, разинув рот, стоял, ничего не понимая, но жена уже свела быка с борозды и повела лошадей.
– Да чем же платить-то… – начал было Кошкин.
– А мы в долг не даем, – засмеялся Кирилл, – и обратно не требуем. Коль надо будет, и нам в чем поможешь.
Так и пошло. Кто отпашется, соседям помогает. Только те, что побогаче, не участвовали в круговой помощи. Они сеяли себе на своей земле и на арендованной, а вечером, собравшись возле Мурашевых, о чем-то подолгу разговаривали.
– Слышь, Кирюша, наши богачи все никак в толк не возьмут, чего это вы все друг другу пашете, – со смехом сказал Кириллу Борис.
– А мы ж братья во Христе, вот и делаем по-христиански, – ответил Кирилл с лукавой усмешкой.
Присланный уездным начальником «опытный человечек» в Родионовке потерпел поражение – его разгадали подпольщики. Этому отчасти «помог» сам Емельян Коробченко.
Подозрение к «батраку» своего свата у Кирилла впервые появилось после того, как Аксюта узнала через баб об избиении Параськи – сама Параська к брату перестала ходить. Емельян избил жену до полусмерти за то, что она увела Евдоху от Кондрата.
«Выходит, Омелько как был нам врагом, так и остается, – размышлял Кирилл. – Прикинулся добрым, когда Бориса привел…»
Кирилл нашел случай встретиться с другими батраками Коробченко. Разговор с теми его окончательно убедил, что Борис у сватов находится на особом положении. «Дело нечисто», – решил он и поделился своими подозрениями с Аксютой.
– Идем сейчас же к нашим! Говорила я тебе, что не нравится мне этот Бориска, – заволновалась Аксюта.
Федор подробно расспросил зятя о его беседах с Борисом и посоветовал быть поосторожней.
Вскоре съездили в Ольгинку – ведь Борис говорил Кирюше, что там год в батраках жил. Когда Фомин вернулся, Палыч, выслушав его, коротко бросил:
– Шпика прислали!
Зятю он предложил виду не показывать и «дружить» по-прежнему с Борисом.
– Знаемый враг не опасен. Пусть Бориска крутится вокруг тебя: пока он здесь, другого не пришлют, – сказал Федор.
Кирилл умело выполнял указание тестя, и шпион, не догадываясь о разоблачении, все еще надеялся на успех.
Петр Андреевич приехал из города довольный и веселый. Поразило всех, что он укоротил бороду, чуть подбородок закрывала.
– Да ведь жарко больно летом-то от нее, а до зимы отрастет, – говорил он, отшучиваясь, когда ему кто-нибудь указывал на такое нарушение обычая.
– Ведь все бороды подравнивают, отец Гурьян, а на сколько равнять можно, того в писании не сказано. Главное, лишь бы лицо не было голым, – растолковывал он немного погодя отцу духовному.
И тот согласился: и впрямь не сказано.
Всем семейным Мурашев привез подарки, а себе купил две тройки.
– Нельзя ходить нам плохо. По одежке встречают, – весело говорил он сыновьям. – Ты, Акимушка, себе в Петропавловске купи, что надо. Поди, с купцом Савиным встретишься.
Акима проводили с гуртом дня через три после приезда отца. Вещи сложили на подводу, на ней по очереди должны были отдыхать батраки, взятые Акимом погонщиками скота. Сам он ехал верхом.
Наталья, прощаясь с мужем, зарыдала и повисла у него на шее. Сколько раз хотела сказать ему: «Не езди!» – но так и не решилась.







