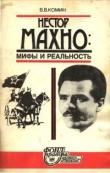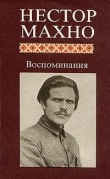Текст книги "Одиссея батьки Махно"
Автор книги: Сергей Мосияш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 37 страниц)
8. Встану за тебя
В январе 1920 года Повстанческая Армия практически перестала существовать. Тиф и Красная Армия добивали её остатки. Уцелевшие повстанцы расходились по домам, припрятывали оружие, затаивались.
Умирающего, без сознания, Махно привезли в Гуляйполе, но Зиньковский настойчиво долбил, что здесь его оставлять опасно:
– Придут красные, обязательно найдут батьку. Расстреляют.
Куда его везти? Где спрятать? Это решали контрразведчики Зиньковский и Голик, вдвоём, без свидетелей.
– Везём в Дибривку, а там на хутор Белый.
Так договорились меж собой и решили никому не сообщать, даже братьям Нестора.
Зиньковский, словно ребёнка, вынес Нестора из хаты, положил в тачанку к сидевшей там жене. Больного укутали, и в сопровождении адъютантов и телохранителей выехали из Гуляйполя. За кучера сел сам Лев Зиньковский. Таврила Троян поинтересовался:
– Куда едем?
– Куда надо, туда и едем, – отвечал Голик.
Но и на хуторе Белом Зиньковский предупредил всех сопровождающих, чтобы никому не говорили, кто этот больной:
– И меж собой чтоб не поминали его имени. Услышу – язык отрежу.
Махно поправлялся медленно. Галина отпаивала его молоком. Он подолгу спал. Однажды ворвавшийся в хату Василевский с тревогой сообщил:
– Разъезд со стороны Дибривок!
Зиньковский, сграбастав спящего Нестора, унёс его в какую-то клуню и там вместе с Галиной заложил охапками сена. Всем остальным приказано было «сховаться» и не высовывать носа. С тачанок сняли пулемёты, закидали в углу соломой.
Нагрянувший разъезд красных обнаружил почти вымерший хутор, вызвали из одной хаты хозяина – старого дряхлого деда.
– Диду, у вас нет здесь посторонних?
– Чово? – отвечал глуховатый старик.
– Посторонних у вас нет? – прокричал ему едва не в ухо красноармеец.
– Ни. Шо вы, хлопцы. Видкуда?
Потребовав у хуторянок молока и напившись, разъезд убыл. Чубенко, спустившись с сеновала, возмущался:
– Господи, да мы б их как курят перещёлкали.
– Я тебе перещёлкаю, – показал ему кулак Зиньковский. – Хочешь сюда полк навести или заградотряд? Нам сейчас, пока у ндс на руках он, надо быть ниже травы, тише воды.
К концу января Нестор стал выздоравливать, появился аппетит, стал крепнуть голос. И однажды поздно вечером, когда в темноте, даже не зажигая лучины, около его ложа сидели самые близкие, негромко сказал:
– Я тут, хлопцы, стишок сочинил. Може послухаете?
– С удовольствием, – сказал Василевский.
Его поддержали остальные, радуясь: раз заговорил «Пушкин» о стихах, значит, дело на поправку пошло. И Махно начал в полной тишине:
– Нищая страна, нищие стоят, а кругом война, а кругом разврат. Мужику опять говорят: «Замри!» И в Кремле опять новые цари. И кормильца вновь ещё ниже гнут, и свистит над ним большевистский кнут. Где сулили рай – расцветает ад, но не умирай, не сдавайся, брат. Встану за тебя я – твой верный друг и, тебя любя, за тебя умру.
Голос чтеца словно растаял в темноте. Было тихо, лишь где-то за печью стрекотал сверчок. И тут с печи донеслось хриплое, стариковское:
– Гарно як. Складно. Чи ни Тараса писня?
– Угадал, диду, – весело отвечал ему Троян.
На ложе засмеялся, закашлялся Нестор:
– Ну как?
– А тебе того мало, что с печи звучало, – сказала Галина, сама дивясь своей рифме.
Все засмеялись, и в темноте стало как-то теплее и покойнее. Раз пошли стихи, значит, он выздоравливает.
На следующий день Нестор поднялся с ложа и, одетый женой в шубейку, вышел на улицу. С жадностью вдыхая морозный воздух, говорил жене:
– А уж весной пахнет, Галочка.
По-за спиной перемигивались контрразведчики, два Левы: «Ожил наш Пушкин». После обеда, чистя свой маузер, Голик говорил Зиньковскому:
– Вот помяни моё слово, в феврале он рванёт в драку.
– Да, – согласился Зиньковский. – Его трудно будет удержать, это и по стихам чувствуется.
Именно в эти дни пришло страшное трагическое известие из Гуляйполя – красные расстреляли обоих братьев Нестора и Сашу Лепетченко. Махно сразу замкнулся, затосковал, во сне вскрикивал, плакал, а то и рыдал. Но днём был мрачен и тих, ел через силу, как бы отбывая повинность. Никто, даже жена, старались не лезть к нему с разговорами, понимая, что творится в его мятущейся душе, и так – целую неделю. Зиньковский меж тем каждый день отправлял в разные стороны разведчиков. И как-то, когда в сенцах один из них ему докладывал о заградотряде, рыскающем в уезде, Махно позвал:
– Зиньковский, зайди сюда. Что там нового? О чём докладывал Гриша?
– Да Гриша был в разведке, обнаружил заградотряд. Рыщет по уезду, тебя ищет.
– Где он сейчас? – спросил Махно и глаза его засветились холодным блеском.
– В Успеновке.
– Запрягай коней в тачанки, атакуем сволочей.
– Да ты что? Поправься хоть, – пытался возразить Зиньковский.
– Исполняй приказ, – жёстко ответил Махно. – Мне что? Повторять?
– Но их более сотни, а нас в десять раз...
– Лева, – прорычал Махно. – Не гневи меня.
Стали выкатывать тачанки, устанавливать на них пулемёты.
– Женщины остаются, – сказал Зиньковский.
Махно, сверкнув в его сторону колючим взглядом, приказал:
– Галя, к пулемёту на первую тачанку.
Ничего не осталось делать Фене Гаенко, как сесть на вторую тачанку к Зиньковскому.
Сев в первую тачанку, Нестор, кутаясь в бурку, приказал Василевскому, восседавшему на облучке:
– Гриша, гони на Успеновку.
Заградительный отряд (то же, что карательный), действительно искавший Махно* построившись, выходил из Успеновки, когда сзади вдруг ударили пулемёты, мигом скосив хвост строя. Отряд горохом сыпанул в разные стороны.
– Стой! Стой! – закричал комроты, ехавший верхом на коне. Но тут же был сражён пулемётной очередью.
– Ложи-и-ись! – кричали командиры взводов.
Это было для них полной неожиданностью. Они ночевали в Успеновке, расстреляли несколько крестьян, которые, по мнению командира, служили у «бандита Махно», усмирили село. Оставляли его притихшим, испуганным, сломленным. Лишь кое-где из дворов слышались приглушённые рыдания женщин, оплакивавших расстрелянных. Торжествуя победу, с чувством исполненного революционного долга, выступили каратели из села. И вдруг – пулемёты. Все легли, уткнувшись носами в снег.
Кончилась стрельба, от села прискакало с десяток всадников и один из них (это был Чубенко) громко гаркнул:
– Вы окружены. Кто встанет с винтовкой, немедленно будет расстрелян. Бросайте оружие!
Около ста пленных пригнали в село. Махно, встав в тачанке, приказал:
– Пусть командиры и коммунисты выйдут из строя.
Неспешно, раздумчиво стали выходить из строя. Набралось около 10 человек.
– Так мало? – сказал Махно и обернулся к Чубенке: – Пригласи сюда ныне овдовевших и осиротевших.
Явившиеся заплаканные женщины обходили строй пленных, выхватывали из него то одного, то другого:
– Вот этот злыдень мово Ваньку.
– А ну выходи, чего ховаешься, Иуда.
– Иди, иди, отвечай за Мишу.
Так с командирами и комиссарами набралось 15 человек, всех, кого называли женщины, вытаскивал перед строем Чубенко с хлопцами.
– Ну вот теперь другое дело, – повеселел Нестор, но от его «весёлости» даже у своих холодило под сердцем, чего уж говорить о заградотрядниках.
– Вы шукали меня? – заговорил Батько. – Вот я пред вами, Нестор Махно. Глядите и больше не увидите.
Он подошёл к крайнему, прищурил глаза и вдруг, со звоном выхватив саблю, крикнул:
– Эт-та за Гришу, – и пошёл пластать подряд, почти рыдая: – За Саву... За Сашу... За Гришу...
Кто-то из обречённых не выдержал, выскочил из ряда, пытаясь бежать, но Нестор деловито перекинул саблю в левую руку, правой выхватил маузер и с первого выстрела положил убегавшего.
Врассыпную бросились женщины, только что вытаскивавшие из строя палачей их мужей и братьев, слишком тяжела была картина.
Вид Махно был столь страшен, что его жена беспокойно крикнула Зиньковскому:
– Лёва, что ж вы смотрите? Он же не в себе.
– Батя, – приблизился было Зиньковский к Махно. – Успокойся.
Но тот вдруг обернулся к нему, брызгая слюной, прорычал почти по-звериному:
– Н-не подходи, з-зарублю!
И опять начал рубку, повторяя: «За Гришу, за Саву, за Сашу».
Прикончив последнего, выдохнул:
– И только, – и откинув саблю, пошёл пошатываясь к тачанке. По лицу его катились слёзы. Галина хотела утереть их, но он оттолкнул её руку и, едва сдерживая рыдания, спросил:
– Ты думаешь, я по этим сволочам плачу? Я по братьям тоскую, по Саше...
К тачанке подошёл Чубенко.
– А куда этих, батько, велишь? Под пулемёт?
– Они рядовые, Алёшка, – заговорил севшим едва не до шёпота голосом Нестор. – Им мозги большевики заморочили. Объясни, за что мы боремся – и на все четыре стороны.
– А шинелки снять? Всё-таки Серёгину запас.
– Решайте сами.
Чубенко с Серёгиным, решив, что надо обзаводиться хозяйством, сняли с красноармейцев ремни с подсумками, шинели, милостиво оставили им шапки: «А то ухи отморозите».
– Чешите, куда хотите, да говорите спасибо батьке, что не велел вас расходовать. А жаль.
Человек пять не захотели раздеваться, заявив, что хотят к ним, к махновцам.
– Это как решит батько, – сказал Чубенко и отправился к Махно. – Нестор Иванович, там есть к нам добровольцы. Принимать?
– Из кого?
– Ну из этих заградников.
– Нет. Заградники все порченные, предадут в любой момент. Из местных хлопцев можно и даже нужно.
Из местных назвались десять и тут же получили винтовки с подсумками и шинели, ещё не остывшие от прежних хозяев. Трофеи были неплохие – около сотни винтовок, два пулемёта, тачанки и целый воз шинелей. Отряд сразу удвоился.
– Теперь на Гуляйполе, – сказал вечером за ужином Нестор.
– Но там, говорят, бригада и артиллерия, – сказал Голик.
– Вот и хорошо, нам пушки годятся, а то вон Шаровский изголодался по ним.
– Верно, без пушек какая война, – согласился Василий.
Красные, исполняя приказ № 180 об искоренении махновщины, утюжили деревни и города, почти не встречая сопротивления, и оттого сплошь и рядом забывали об осторожности. Только этим можно было объяснить успехи крохотного отряда Махно – всего в 20 сабель, ну и, разумеется, почти безрассудной храбростью батьки, горевшего испепеляющей душу ненавистью: «Никакой пощады большевикам!»
Москва сама подогревала ненависть населения к Красной Армии не только бессудными расстрелами, но и появлением так называемых продотрядов, в обязанности которых входило добывание хлеба для голодающей Центральной России, главное для её столиц. Добывание сводилось к обычному грабежу крестьян, освящённому большевистским законом, и хотя в законе рекомендовалось при ограблении хоть что-то оставлять землеробу на прокорм, эта рекомендация, как правило, не исполнялась.
Махно, в отличие от большевиков, всегда рассчитывался с крестьянами за продукты и фураж если не деньгами, то товарами, а при захвате богатых трофеев щедро делился с ними, вдалбливая в головы своего окружения: «За кормильцем добро не пропадёт».
Почти без выстрелов захватили Гуляйполе, пленили всю бригаду. Командиров и комиссаров расстреляли, рядовых отпустили.
Голик явился к Махно и высказал неудовольствие:
– Это что же получается, Нестор Иванович, так и будем пленить и отпускать?
– А что прикажешь делать? – спросил Махно, отрываясь от писания какой-то бумаги.
– Как что? Расстреливать, конечно. Они же наших не щадят. С чего ради мы должны быть добренькими?
– С того, Лева, что в нашем отряде, заметь, только добровольцы. А у красных сплошь и рядом крестьяне и рабочие моби-ли-зо-ванные, дурья башка. Понимать надо.
– Так они же отпущенные-то перебегут в другой полк и опять по нам пулять будут.
– А вот это, Лева, уже твоя забота, контрразведки. Выявлять вторичников и не отпускать снова.
Махно понимал, что с отрядом в 20 сабель он долго здесь не удержится, и поэтому спешил написать и отпечатать в типографии листовки.
В этих листовках он постарался излить всю свою ненависть к комиссародержавцам и душевную боль за обманутый и терзаемый большевиками народ.
После напечатанья листовок Махно приказал расклеивать их на столбах, а затем вызвал к себе Голика.
– Ну как, Лева, записываются к нам гуляйпольцы?
– Плохо, Нестор Иванович.
– Почему?
– Боятся за семьи. Мы, говорят, уйдём, налетят комиссары, перестреляют родных.
И потом сев же на носу. Вот отсеются, тогда посмотрят.
Против сева у Махно доводов не было.
– Ладно, – наконец заговорил он. – Вот что, Голик, надо тебе пробираться к Новоспасовке и искать наших: Белаша, Вдовиченко, они где-то там залегли. Есть слух, что и блудный сын – Куриленко явился. Пусть правятся к нам, лыко-мочало, начнём сначала. С Деникиным управились, теперь пора за комиссаров браться.
– А где вас искать потом?
– Лева, ты что, маленький? Мы сейчас поднимем всю Екатеринославщину, весь юг. Там, где будет большая драка, там и мы, значит. Езжай и без них не ворочайся.
9. Тяжкий крест
Добровольческая армия стремительно катилась на юг. В Новороссийском порту творилось столпотворение – туда отходили и донцы, и кубанцы, и добровольческие части, уже давно потерявшие веру в победу.
Не верил в неё уже и сам генерал Деникин, и, понимая, что тяжелейший груз ответственности за поражение ляжет на главнокомандующего, он принял твёрдое решение оставить этот пост.
Переместившись со своим штабом в Феодосию, он отдал приказ генералу Драгомирову собрать 21 марта в Севастополе совещание высшего командного состава и избрать нового главнокомандующего, которому бы он – Деникин мог передать бразды правления.
В день начала Военного Совета группа генералов собралась на квартире генерала Витковского, где было принято решение просить Деникина не оставлять своего поста.
– Господа, я полагаю, у нас нет альтернативы Антону Ивановичу, – говорил Витковский. – Надо уговорить его оставаться на посту до конца.
– Да, – поддержал генерал Улагай. – Коней на переправе не меняют. Всё это чревато осложнениями на фронте.
– Где вы видите фронт, генерал? – не скрывая иронии, спросил Сиротин. – Он весь собрался в клубок в Новороссийске.
– Вот Деникин и прилагает усилия, чтобы переправить дончаков и добровольцев в Крым для усиления группировки Слащёва.
– С минуты на минуту Должен подъехать Кутепов. Интересно знать его мнение по вопросу отставки Деникина.
Приехавший мрачный генерал Кутепов, выслушав мнение генералов в отношении Деникина, не сошёлся с ними:
– Я знаю, что упрашивать Антона Ивановича бесполезно, господа. Он твёрд в этом решении, надо думать о его преемнике.
– Мы хотим всё же дать ему в Феодосию телеграмму, – сказал Витковский.
– Не советую. Насколько мне известно, Драгомиров уже упредил вас, он дал распоряжение не принимать в Ставку никаких телеграмм без его разрешения.
– Но это же самоуправство, – возмутился Улагай.
– А я считаю, что это разумный шаг, – не согласился Кутепов. – Этими верноподданическими телеграммами мы только раздражаем Деникина. Есть его приказ, его надо исполнять. Честь имею, господа. Не забывайте, Военный Совет начнётся в 2 часа дня.
– Мало ли что говорит Кутепов, – заявил Витковский. – Он всегда недолюбливал главнокомандующего. Я предлагаю всё же послать телеграмму Антону Ивановичу.
– Так в чём дело? – сказал Ползиков. – Давайте составим. По-моему, никто не возражает.
– Как дроздовцы, марковцы? – спросил Витковский.
– Мы все «за», – были единодушны представители добровольческих дивизий.
– В таком случае, я продиктую:
«Собравшись для участия в Военном Совете, – начал диктовать Витковский, – дивизии добровольческого корпуса единодушно решили просить Ваше Превосходительство остаться во главе армии. В дивизиях верили и всегда будут вам верить, и не мыслят другого главнокомандующего кроме Вас. Оставление Вами своих верных войск грозит несомненной гибелью нашего общего дела и приведёт к полному распаду армии».
– Превосходно сказано, – заметил Улагай, – прочувствованно. Адъютант, отправьте телеграмму.
Дворец, где намечалось проведение Военного Совета, был окружён усиленной охраной с пулемётами, патрулями, беспрерывно прохаживающимися по прилегающим улицам.
Открыв совещание, генерал от кавалерии Драгомиров зачитал письмо Деникина.
– Господа, я, как председатель Военного Совета, помимо приказа главнокомандующего получил и его письмо, которое прошу внимательно выслушать и принять нужные решения. Итак: «Многоуважаемые господа. Три года российской смуты я вёл борьбу, отдавая ей все силы и неся власть, как тяжкий крест, предназначенный судьбою. Бог не ниспослал успех нашим войскам; и хотя вера в жизнеспособность армии и в её историческое призвание мною не утеряна, порвана внутренняя связь между предводителем и армией, я более не в силах вести её. Предлагаю Военному Совету избрать достойного, которому я передам власть и командование. Уважающий вас А. Деникин».
Первым слово взял генерал Слащёв:
– Господа, я вижу здесь делегатов от всех частей и особенно щедро здесь представлен 1-й корпус, почему же мой 2-й корпус представлен лишь мной и моим заместителем? Это несправедливо.
– Уважаемый Яков Александрович, – заговорил Драгомиров. – Я действовал согласно приказу главнокомандующего, в котором как раз говорилось, что от Крымского корпуса в силу боевой обстановки норма представительства должна быть меньше. Согласитесь, вы же не могли отправить командиров полков на совещание?
– Конечно, нет.
– Я постараюсь при голосовании учесть ваше мнение о представительстве.
– Что касается моего мнения, Абрам Михайлович, то я считаю недопустимым выборы главнокомандующего, мы в конце концов не Красная Армия и не махновцы, где командиров выбирает толпа.
– Но здесь, смею заметить, не толпа, а Военный Совет.
– Как быстро мы забыли 17-й год, когда солдатня разгоняла офицеров и тоже избирала себе командиров. О каком порядке может идти речь?
– Что вы предлагаете, Яков Александрович? – нетерпеливо сказал Драгомиров.
– Я предлагаю, да и не я один, просить главнокомандующего самому назначить себе преемника, как это и положено по всем уставам.
Однако со стороны Добровольческого корпуса никто не спешил высказываться, отмалчивался и Кутепов. Выступил новый начальник штаба армии генерал Махров, только что сменивший Романовского:
– Господа, я должен решительно заявить от имени главнокомандующего, что он ждёт вашего выбора. Он хочет видеть во главе армии не того, кто угоден ему, а того, кто уважаем генералитетом. Неужели это не понятно? В конце концов есть приказ главнокомандующего, в котором он доверяет нам назвать достойного.
– Всё, господа, – решительно сказал председательствующий. – Сейчас каждый получит лист бумаги и без всякого давления извне напишет фамилию желательного преемника.
– Ваше превосходительство, разрешите мне выразить мнение моряков.
– Да, прошу вас. Господа, прошу выслушать мнение начальника штаба Черноморского флота, капитана 1-го ранга Рябинина.
– Мы все должны неукоснительно исполнять приказ главнокомандующего и избрать ему заместителя. По мнению офицеров флота, таким заместителем может быть генерал Врангель.
– А где он сам?
– Он в Константинополе ведёт переговоры с англичанами.
– Я не уверен, что эта кандидатура устроит главнокомандующего, – сказал Слащёв.
– Почему? – спросил Драгомиров.
– У них с Врангелем всегда были трения.
– Господин Витковский, о чём вы там ведёте переговоры? – поинтересовался председательствующий, заметив бурные перешёптывания с командирами дроздовской, марковской и алексеевской дивизий.
– Мы выясняем общее мнение по этому вопросу, ваше превосходительство.
– Ну и каково оно?
– Мы приняли решение не участвовать в выборах.
– Значит, вы не хотите исполнить приказ главнокомандующего?
Спор разгорелся, и кто-то, утомившийся от его бесплодности, предложил:
– Давайте сделаем перерыв.
– Хорошо, – охотно согласился председательствующий. – Полчаса перерыва, господа.
Слащёв, проходя мимо Драгомирова, сказал:
– Ваше превосходительство, позвоните главнокомандующему, объясните ситуацию, пусть сам назначит себе заместителя.
– Яков Александрович, я звонить не буду. Я в отличие от вас намерен исполнить данный мне приказ.
– Каким образом?
– Приму другие меры.
«Другие меры», принятые на следующий день Драгомировым, многих обескуражили. Ночью он разделил Военный Совет на две неравные группы и в кабинет к себе впустил только высших генералов, не ниже командиров корпусов, остальным, «низшим», приказано было совещаться в зале на нижнем этаже. В верхнюю не был допущен даже генерал Витковский, не говоря уже о командирах марковской и дроздовской дивизий.
Все понимали, что решение будет принято «наверху». Члены Совета бродили по дворцу, собирались кучками, возмущались, что совещание не начинается и неизвестно, начнётся ли сегодня.
– Меня ждут в дивизии, что я скажу своим подчинённым, что меня здесь держали за дурачка, – возмущался полковник.
– Это возмутительно, – поддакивал другой. – Драгомиров обращается с нами, как с мальчишками.
– Господа, надо вызвать Кутепова. Он хоть посвятит нас в происходящее. Что за чертовщина.
Однако все попытки проникнуть в тайну комнаты высокого начальства никому не удались. Наконец появился генерал Махров и сообщил:
– Господа, сегодня прибыли генерал Врангель и делегация англичан с очень важными, я бы сказал, необычайными предложениями. Сейчас будет перерыв, и совещание продолжится в 8 часов вечера. Высшее командование будет заседать здесь, в этой угловой комнате, а вы внизу, в зале, господа.
– Почему же нас не допускают сюда, мы тоже имеем право голоса, – возразил один полковник.
– Выбирается ведь не командир дивизии, а главнокомандующий, – сказал Махров, – поэтому давайте и доверим это высшим командирам. Ну а потом, естественно, вам обязательно представят избранного.
Вечером во дворце появился озабоченный Врангель, одетый в чёрную черкеску и высокую папаху. Барон был молчалив и мрачен.
Едва началось совещание, слова попросил Слащёв:
– Господа, у меня фронт и потом, я же сказал, что я противник выборов, мне нечего здесь делать.
– Ну как, господа генералы, – взглянул Драгомиров на присутствующих. – Отпустим генерала Слащёва?
– Господа, я привёз очень важные, сказал бы, судьбоносные новости, – заговорил наконец Врангель, – и поэтому никому не советовал бы покидать совещание даже ради фронта. А вам, Яков Александрович, тем более.
Из присутствующих только Кутепов знал причину настойчивости Слащёва на назначении, а не на выборах преемника Деникина. Слащёв был убеждён, что именно его Деникин назначит главнокомандующим, как единственного из генералов, удерживающего фронт.
– Итак, господа, – продолжал Врангель, – я привёз в Севастополь английский ультиматум Белой Армии. Правительство Великобритании предлагает нам остановить неравную борьбу с большевиками и при посредничестве Лондона вступить в переговоры с Советским правительством.
– Но, господа, это же предательство, – воскликнул генерал Шиллинг. Но Врангель даже не взглянул в его сторону.
– Правительство Великобритании обещает выговорить у большевиков амнистию всему Крыму...
– Держи карман шире, – вздохнул Богаевский.
– ... Если Белая Армия не согласится на условия английского правительства, то оно прекращает помощь ей в борьбе с большевиками.
– Вступать в переговоры с быдлом? – возмутился Покровский. – Вы, барон, готовы на это?
– Нет, разумеется, – отвечал Врангель. – Я считаю, сегодня наша главная задача выйти из игры с меньшими потерями, спасти армию для грядущей борьбы с большевизмом.
Врангель, закончив краткую речь, сел.
– Позвольте мне, – поднялся генерал Богаевский.
Этот ультиматум косвенно говорит нам, что англичане уже готовятся признать большевистское правительство. Иначе я и не воспринимаю этот демарш Лондона. И Пётр Николаевич совершенно прав, видя сегодняшнюю нашу задачу в спасении армии. Поэтому я предлагаю избрать главнокомандующим барона Врангеля, отлично знающего наше сегодняшнее положение, имеющего взаимопонимание с англичанами, а главное, точно знающего, что в данной ситуации надо делать.
– Ваше превосходительство, – обратился Драгомиров к Врангелю. – Поскольку на совещании уже дважды – вчера и сегодня – прозвучала ваша фамилия, позвольте нам обсудить вашу кандидатуру без вас.
– Я понял, – ответил барон и, поднявшись, вышел.
Едва за ним закрылась дверь, как Слащёв сказал:
– Но утвердит ли его Деникин, вы же знаете их натянутые отношения.
– Раз Деникин положился на Военный Совет, он согласится, – сказал Драгомиров. – У кого будут более веские возражения? Что-то молчат наши добровольцы? Александр Павлович?
– А что тут говорить, – пожал плечами Кутепов. – Честно признаюсь, не велика эта честь – собирать разбитые горшки.
– А собирать надо, – усмехнулся председательствующий. – Итак, как я понимаю, других кандидатур нету. Пригласите барона, обрадуем его.
Однако Врангель, по крайне мере внешне, не выказал никакой радости по поводу избрания его главнокомандующим, а сразу поставил жёсткие условия:
– Я встану во главе Белой Армии только после того, как вы согласитесь, что моим главным действием на посту главнокомандующего будет не переход в наступление против большевиков, а только вывод армии с честью из создавшегося тяжёлого положения.
Такое согласие было дано.
– Я готов, господа, – торжественно заявил Врангель.
– Я иду на связь с Деникиным, – сказал Драгомиров. – Идёмте со мной, Пётр Николаевич. А вас, господа генералы, прошу спуститься в зал, присоединиться к остальным и ждать нас.
Вскоре к истомившимся ожиданием офицерам вошли Драгомиров и Врангель, все встали. Драгомиров развернул лист бумаги:
– Господа офицеры, слушать приказ вооружённым силам юга. Параграф первый: генерал-лейтенант барон Врангель назначается главнокомандующим вооружёнными силами Юга России. Параграф второй: всем, шедшим честно со мною в тяжкой борьбе – низкий поклон. Господи, дай победу армии и спаси Россию. Генерал Деникин.
В зале царила мёртвая тишина. Врангель, поблагодарив всех, закрыл совещание, но попросил задержаться ненадолго генерала Слащёва.
– Доложите, пожалуйста, как дела на перешейке?
– Плохо, ваше превосходительство. У меня всего 5 тысяч штыков. Одно спасает, Красная Армия сцепилась с Махно, на какое-то время забыв о нас.
– С Махно? – удивился барон. – Это любопытно. Выходит, наш вчерашний противник обеспечивает наше предполье?
– Выходит так, ваше превосходительство.
Но это не может продолжаться долго, рано или поздно его сомнут, слишком неравные силы.
– Я понял вас, генерал. В ваше распоряжение поступят Добровольческие дивизии, несколько артиллерийских батарей. Вы должны сделать перешеек неприступным.
– Я готов, ваше превосходительство, – щёлкнул каблуками совсем по-молодому Слащёв. – Красные расшибут нос о мои редуты.
В ночь с 22 на 23 марта от Феодосии рванули в море два миноносца – английский и французский. На корме английского, подняв воротник шинели, стоял генерал Деникин. Понимая состояние своего шефа, генерал Романовский запретил кому-либо приближаться к нему.
Деникин смотрел на удаляющийся во тьме берег, набегающие слёзы застилали глаза, но он не отирал их. Губы его невольно шептали сокровенное:
– Россия... Прощай. Увижу ли я тебя свободной.
Он навеки прощался с Родиной. Внизу глухо стучала машина. Горло сдавливал горький ком. Вдали мигали редкие огни уходящего берега. За кормой бурлила вода, взбиваемая винтами.