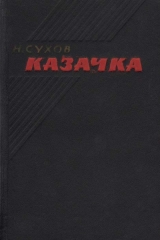
Текст книги "Казачка"
Автор книги: Николай Сухов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 41 страниц)
Часть вторая

I
Снаружи было все как будто по-прежнему.
Невзрачные с камышовыми и соломенными крышами хаты, изредка небольшие, под железом, домишки, как и два года назад, до войны, понуро глядели в кривые, заросшие репьями и лебедой улицы, лепились под солончаковым склоном – летом защита от знойного суховея, а в зиму – от метельного снегопляса. Степная мелководная речка, в осочных заводях которой жирели лягушки, в июльскую жару все так же пересыхала, обнажая на перекатах песчаные косы, а по осени, ежели хмурое небо расплещется дождями, полнела, вздувалась илистой мутью. По воскресным дням и всяким иным малым и большим праздникам, отмеченным в святцах кругом и полукружьем, звонарь все с тем же рвением звонил в колокола, сеял над хутором то заупокойно-грустные, то веселые под пляс переборы, а люди вереницами шли в церковь и ставили святителям дешевенькие свечи. Старик Березов по-прежнему, к великому изумлению людей, ловил на перекрестках попа, кричал ему всякие непристойности, и тот, подбирая полы, сломя голову бежал мимо.
Все, казалось, было так же.
Но так было только снаружи.
А внутри хат и домишек, отгороженных от мира плетнями и заборами, уже по-иному кружилась серенькая, невеселая, суетливая жизнь. На прошлой неделе к Бабе-казак пришел служивый. С фронта. Несказанно обрадовалась баба, признав в заволосатевшем старике, неумело прикрывавшем двери, своего долгожданного. От радостного перепуга грохнула на пол чашку – собирала полудневать, бросилась навстречу, но вдруг ахнула и побледнела: служивый заторопился к ней, выронил костыль и загремел подкованным сапогом, запрыгал на одной ноге – другую ногу оторвало снарядом. Затряслась баба в судорогах, взвыла, как по мертвому, запричитала. Дождалась работничка!..
Трехпалый Фирсов незадолго перед тем получил из действующей армии письмо, уведомлявшее о том, что сын его, урядник 31-го казачьего полка – кто в хуторе не знал удалого забубенного казака Прошку Фирсова! – на бранном поле пал смертью героя, защищая от басурманов царя, отечество и веру. Моисеев уже с полгода не получал от брата Григория, находившегося на турецком фронте, никаких вестей, и кто-то пустил слух, что его под Эрзерумом якобы захватили в плен. И так почти в каждой семье.
Из всего хутора лишь к отцу Евлампию да к Абанкиным не приставали никакие беды.
Правда, у попа теперь больше стало «забот»: каждый день, а то на дню и два раза, утром и вечером, служба – акафисты, молебны, сорокоусты; поминания за здравие, за упокой. Но зато больше стало и жертвенных приношений: баранчики живьем, окорока, зерно… Женщины с тайными надеждами и страхом шли в церковь, несли последние копейки, вымаливая жизнь сыновьям, мужьям, братьям. Но война нещадно метила то того, то другого.
Абанкины же все жарче раздували кадило, все шире разворачивали дело – отечеству на пользу, себе на утешение, а ближним на зависть. Одни лишь поставки сена стали загонять в их кошель такие барыши, какие и не снились Петру Васильевичу. Земли у казаков – уйма. Хуторской юрт вокруг хутора – не на один десяток верст. Оделся колосистым аржанцом, пахучим непролазным донником, повителью. Скачет по нему низовой бесшабашный ветер; гоняет взад-вперед ковыльные, выкоханные на приволье травы. В степь, в самую глубь зеленого колышущегося безбрежья завезли Абанкины травокоски, пресс, конные грабли – и от баб-жалмерок нет отбоя: «Петро Васильич, бери паи. Однова травам гибнуть – некому косить». Петр Васильевич – человек покладистый. Зачем же, в самом деле, такому добру гибнуть. Нельзя гибнуть – бог накажет. И брал за бесценок редчайшие сенокосные угодья, зарабатывал почет благодетеля, получая от людей «за выручку» спасибо. От зорьки и до зорки трещали в полях травокоски, росли на полысевших участках стога сена; пресс без устали выбрасывал двухпудовые, туго стянутые проволокой кипы, и на станцию, торопясь к поездам, день и ночь катили парные фургоны.
Сам окружной атаман генерал Груднев как-то проезжал мимо хутора и заглянул к Петру Васильевичу, поблагодарил его от лица службы за примерное на пользу войны и отечества радение. Этим и прославил его на весь округ.
Петр Васильевич уже настолько свыкся с положением хозяина хутора – да и только ли хутора! – что ему теперь казалось: так было всегда и иначе не могло быть. А ведь старожилы помнят, как лет двадцать с лишком назад Петро Абанкин (в то время «Васильевичем» его еще не величали) уходил от отца с пустыми руками, почти ни с чем. Но руки у него были хоть и пустые, но, как потом оказалось, на редкость хваткие.
Поселился он в конце юрта, вдали от хутора, где редко кто из казаков пользовался землей, – на телеге о трех колесах не очень-то расскачешься. Первые годы жил как отшельник, в гостях у журавлей и всякой перелетной птицы. За пустяковую плату снимал паи, сеял хлеб, выгуливал на раздольных пастбищах скот. Но это было лишь на виду у людей, не главное.
Главное же, что от людей было скрыто, – это то, что почти каждую неделю тайком (да и кто там видит в степи!) ездил он в Елань, на базар, иногда – в Три Острова, а то и в Балашов. Хуторяне туда не ездили. Нешто в Елань, да и то в кои веки. С окрестных хуторов бродит по степи разная поблудная скотина: то телка, спасаясь от слепней, отобьется от стада, то корова, то лошадь, а то и быки, когда заснет беспечный плугатарь. Пристанет животина к Абанкину табуну (не пристанет сама – так табун под кнутом хозяина к ней «пристанет», это случалось чаще), а ночушкой Петро подхватывал ее и – с богом в путь-дорогу. Через денек какой, а ежели – в Балашов, то через два, он уже там, на месте, на базу у мясника или у барышника, хлопал жилистой загорелой ладонью по рыхлой купеческой, выбивал рубли и полтины.
Правда, молва об этом ходила по хуторам. Но ведь известно: не пойман – не вор. А язык – мясо, да еще и без костей, наговорить все можно. Через несколько лет неподалеку от пруда, в степи, вырос дом под черепичной крышей – в солнечный день разноцветные плиты верст за пять бросались в глаза. Пряслами да плетнями огородил его Абанкин, наставил сараев, амбаров – будто крепость выстроил. Вскоре у промотавшегося барина купил вечный участок. Хоть и без того земли хватало, но ведь на душе как-то легче, когда в шкатулке лежит купчая на вечность – бумага, с печатями и подписью нотариуса. Появились работники, сперва сезонные, потом и годовые. И уж не стал Петр Васильевич умножать грехи, неудобно теперь было – от батраков не скроешься, да и не к чему: колесо пустил в ход, завертелось оно все быстрее и размашистей и уж – кто знает! – остановится ли когда-нибудь?
К старости Петру Васильевичу захотелось людского внимания, почестей – не всегда ведь жить отшельником. Кому не любо поглядеть, как перед тобою смахивают шапки, раскланиваются в пояс! И вот уже десяток лет в богатой Хомутовской улице, затмив домишки соседей, красовался круглый пятикомнатный дом Абанкиных, с резным расцвеченным карнизом, фигурчатыми водостоками, балясами и со всеми теми украшениями, на которые хватило фантазии у лучшего станичного столяра.
* * *
С того дня, как в доме этом появилась молодая хозяйка Надя прошло уже немало времени. Правда, трудно было признать ее за хозяйку. Уж очень мало она походила на нее. В доме она скорее была похожа на гостью, и притом на такую, которой совершенно безразлично, что вокруг нее делается и как делается. За все время она ни разу не вмешалась в хозяйские дела, даже женские – печь, птица и прочее, и никак не заметно было, чтоб хоть сколько-нибудь о них думала. Целые дни напролет, как затворница, просиживала в маленькой комнатке – спальне молодых, – вязала какие-нибудь кружева, шила, вышивала (украдкой, потихоньку, плакать слез уже не было) и выходила оттуда с большой неохотой, в крайность, когда позовут обедать, пить чай или еще за чем.
К работе ее пока, по настоянию Трофима, никто не приневоливал – без нее обходились, – и она рада была этому. Не потому, конечно, рада, что ленилась и не хотела работать. Напротив, Надя изнывала от скуки. Но она никак не могла смириться со своим замужеством и в семье Абанкиных чувствовала себя чужой.
Когда ее свекровь Наумовна по какому-либо делу пыталась посоветоваться с ней – готовить ли к завтраку лапшу или кулеш, – Надя так же скромно, как и поспешно, отвечала: «Вы, мамаша, лучше моего знаете, делайте как хотите», – и удалялась в свою комнату. При этом слово «мамаша» всегда произносила запинаясь, с трудом.
Она все время находилась как бы в полузабытьи. Так ошеломили ее все эти тяжкие, внезапно обрушившиеся на ее голову события! Все, что окружало ее – и вещи, и люди, – ей казалось ненастоящим, случайным, невесть откуда ворвавшимся в ее жизнь. И странно: в то же время, приученная с детских лет к послушанию, она не замышляла ничего такого, чтоб хоть как-нибудь изменить свою судьбу.
Надя знала – она знала это твердо и наверняка, хотя никому и даже Трофиму об этом не говорила, – что впереди ее ожидали еще горшие дни. То, что от людских глаз пока было скрыто, через короткое время для всех станет явным. Но когда она с трепетом вспоминала об этом, в ее груди поднимался не страх, а радость. Сказывалось ли в этом пока еще дремлющее своеволие, или так дорого для нее было то, что связало ее жизнь с жизнью Федора, или скрывались в этом какие-то затаенные надежды – ведомо было только ей.
К своим супружеским обязанностям она относилась с таким же безразличием, как и ко всему остальному: не противилась домоганиям Трофима, но и не разделяла с ним его радостей. На улицу не ходила. И вообще с людьми старалась не встречаться. Даже у своих за все время побывала только один раз, в такой день, когда отца дома не было.
Исстари заведен порядок: первые месяцы молодожены по воскресеньям гостят у жениных родителей. Но чета Абанкиных этого порядка не придерживалась. В другом случае это породило бы у людей недоумение: почему, да отчего, да как. Но сейчас даже самые досужие находили это вполне нормальным. В самом деле: хорош был бы зятек, если бы начал своими наведываниями разорять тестя. Ведь удивить Абанкиных угощением не так-то просто. И не Андрею Ивановичу, живущему и без того ныне как-нибудь, а завтра натощак, думать об этом. А как не угостить, коли пришли бы? Трофим – молодец, что избавлял тестя от подобных расходов.
Об истинных причинах, кроме бабки Морозихи, вряд ли кто догадывался. Надя скучала по ней, своей заступнице, но ходить домой все же не хотела. Отца после свадьбы она просто не могла видеть. Никаких других чувств к нему, помимо глубокой, безграничной ненависти, она не испытывала. Эта ненависть к отцу, пожалуй, было единственное, что роднило ее с мужем. Правда, было у них и еще одно общее – скрытность нрава.
Трофим возненавидел тестя совсем, конечно, по иным причинам, чем Надя. Он считал его главным виновником, что Надя пришла к нему не той, какой он хотел ее иметь. От той ласковости и почтительности, которая когда-то умиляла Андрея Ивановича, не осталось и следа. «Дурак старый, остолопина! – проклинал Трофим своего тестя. – Одна дочь – и ту не мог уберечь. Черти б на тебе весь век воду бочками возили, мерин старый!» От бессильной злобы и тоски у Трофима даже заострились скулы. Он проклял не только тестя, но и самого себя за ротозейство. Как он мог допустить до этого!.. Тоже собрался с умом: знал, что она почти неразлучна с Федором, и не мог этому положить конец. Стоило ведь только шепнуть Андрею Ивановичу, и тот даже за ворота не выпускал бы ее. Какой же все-таки дурак не только Андрей Иванович, но и он, Трофим! Можно ли было надеяться на благоразумие этой глупой девчонки? Ну что с нее спросить! Теперь вот кусай себе локти. Ведь у него даже как бы предчувствие было, когда он заставлял Латаного дегтем разрисовать ворота. Этим он хотел добиться именно того, чтобы Надю дома построже держали и она перестала бы болтаться по улицам.
Одно лишь немножко утешало Трофима: история эта пока для всех оставалась тайной. Хорошо хоть то, что Федор оказался не из тех парней, каких много: охаживает девушку год, два, всеми правдами и неправдами заискивает расположения, потом добьется своего и перед друзьями похвастается: вот, мол, я какой, захочу – ни одна не оттолкнет. Если бы это случилось, Надя не стала бы женой Трофима. Но лучше ли было бы? По совести говоря, он и сам не знал: лучше ли? Временами ему казалось, что да, лучше. Неужели он не мог бы найти себе еще такую же? Мир-то велик, не сошелся на ней клином! Но ведь женой ему хотелось иметь только ее, Надю. Не так легко встретить девушку, которая могла бы с нею соперничать.
В сущности, дело ведь не в том, что нашелся какой-то там… и сумел ее улестить. Это больно, еще бы! Но Трофим и сам монахом не был. Женские ласки для него – не новинка. И к тому же никто не виноват, что он ротозейничал и выжидал, когда надо было действовать. Пеняй теперь, милок, на себя, как сказал бы Андрей Иванович. Все дело – в худой славе, в людской молве. А этого, к счастью, пока нет. Никто еще не насмеялся над ним и не намекнул. Вот только одна зацепка: Федор. Вдруг он со злости когда-нибудь растрезвонит. Ах, этот проклятый парамоновский отродок! Знатье бы – сунуть Моисееву красненькую бумажку, он бы на кулачках посчитал ему ребра. Уж посчитал бы как следует! Ну, ничего. Авось бог пошлет, на войне скорей заткнут Федору глотку. Первую бы пулю ему в лоб! Трофим страстно желал этого.
От глаз Наумовны не ускользнуло, что между снохой и Трофимом что-то неладное, хотя они и скрывали это. Догадаться о причинах самой ей было трудно, а попробовать окольными путями, – выспросить, например, сваху Морозиху она не хотела. К чему выносить сор из избы? Может быть, разлад их выеденного яйца не стоит, а люди раздуют. Мало ли что случается между молодыми людьми. Вот только упорства, с каким Надя продолжала отсиживаться в спальне, Наумовна не могла понять и про себя не одобряла. Что ж хорошего в том, что даже с нею, свекровью, как следует не поговорит, все спешит укрыться. Ну, побудь дикаркой первые дни – куда ни шло. Как ни говори, а из грязи да сразу попасть в князи – дело непривычное, на кого оно ни доведись. Небось и во сне не видела того, что наяву оказалось. Но пора бы и осмотреться, попривыкнуть. А она все так же, как и в первые дни, дичилась не только чужих, но и своих людей. Наумовна все собиралась пошептаться об этом со стариком, с Петром Васильевичем, да тот сам никогда не полюбопытствует спросить: как, мол, сноха-то, по нраву пришлась?
Дома его почти не бывало: с базара не успеет въехать во двор – да тем же оборотом на станцию (что-то все не ладилось там с вагонами, задерживали отправку сена). Со станции примчится – да в поле, на участок. Там плохо подвигалась прессовка сена. Работали в две машины, а толку – с гулькин нос. Стога как стояли, так и стоят. Народ – лодырь пошел, лишь бы ему изводить хозяйский хлеб. А Трофиму «некогда» доглядывать: покажется на участке, да скорей назад, к молодой жене. С поля Петр Васильевич заедет домой, повернется, – да еще куда-нибудь. Так без конца и скачет. Наумовна все время жила в страхе: долго ли напасть на лихого человека! Темной ночкой поймают где-нибудь и свернут шею, укокошат. Теперь ведь за трояк душу вынут. Ни греха, ни совести не стало. А у Петра Васильевича, чай, не один трояк всегда в кармане. Только и надежды – быстроногий рысак да трезвость старика. С пьяных глаз он никуда не поедет. При такой непоседливости немудрено, что за все дни, как в доме появилась сноха, Петр Васильевич вряд ли удосужился хоть раз поговорить с ней. А так как Надя чуралась его еще больше, чем Наумовны, то и подавно. Петр Васильевич, кажется, пока не заметил этого. Не до того ему.
Одну только бабку Надя встречала всегда с большой радостью и ждала с нетерпением: кто же, как не она, мог принести ей от брата весточку? А ведь где брат – там и Федор. Надя это знала из Пашкина письма. При бабке Надя словно бы перерождалась: становилась совсем иной – бодрой, веселой, разговорчивой. Как-то с месяц назад наведался к ней отец. Но приходу его Надя не слишком обрадовалась, а Трофим тем более: нехотя поздоровался, оделся и тут же исчез, не перекинувшись с ним ни единым словом. Самого хозяина, как обычно, дома не было. Андрей Иванович с часок посидел с Наумовной, повздыхал, раз двадцать повторил «милушка моя» и распрощался. Понял ли он что-нибудь иль нет – неизвестно. Но после этого пока не появлялся.
Нельзя сказать, чтобы посещениями бабки Трофим был очень доволен. Нет, он плохо принимал старуху. Он смутно подозревал, что между нею и Надей были какие-то секреты, тайна. Что это за тайна, разгадать ему не удавалось. Но его не проведешь! Не случайно эта старая карга всегда старалась улучить минутку и побыть с Надей наедине. Трофим давно это понял и всячески ограждал жену от подобных секретов. Если бы можно было, он, пожалуй, не постеснялся бы и показал этой чертовке от своих ворот дорожку восвояси. Но, к сожалению, нельзя так поступить. Надина родня, что поделаешь! Когда бабка приходила, он хоть и мало разговаривал с ней, но из вида ее ни на минуту не упускал. И даже на улицу, как бы из любезности, провожал сам, иногда – Наумовна. Та тоже находила, что сваха Морозиха посещала их не в меру усердно: редко в какое воскресенье не придет.
Но бабка – не из спесивых. На сватов она меньше всего обращала внимание. Рады они ей иль не рады – ее это мало волновало. Видеть внучку ей никто не запретит. А все остальное – дело десятое. Есть у сватов охота покалякать с ней – она не против, хоть целый день: сядет рядышком с Наумовной, подопрет щеку ладонью – строгое, в морщинах, лицо ее сразу смягчится – и начнет вспоминать старинушку… Как, бывало, жили, когда бабка ходила еще в девках, да как, бывало, гуливали… Если сваты расщедрятся и чайком побалуют – еще лучше. А коли недосуг им был или неохота, она не обижалась: перекрестится на икону, земно поклонится, поздравит с праздником или с преддверием праздника и, если Наумовна не засуетится перед ней, пристукнет костыликом и – в комнату молодых, к внучке. Она уж знала, что та всегда была дома.
В своих подозрениях, что между бабкой и Надей скрывалась какая-то тайна, Трофим не ошибался. Тайна эта действительно была. Но если бы Трофим хоть немножко догадывался о ней и знал, чего так настойчиво бабка добивалась, он относился бы к ней по-иному. Сменил бы гнев на милость.
Никто о прочности их семейной жизни так не заботился, как бабка Морозиха, хотя и знала она, что Надя не любит мужа. Но на это бабка смотрела по-своему. Мысли ее и желания даже в пору девичьих грез не переносились за околицу хутора и никогда не выходили из того извека очерченного круга, по которому, что лошадь на чигире, она ходила уже добрых семь десятков лет. Кто из девушек-невест не колядовал под новогодье, думала она, и кто с замиранием сердца не ворожил о суженом! Всякая травинка тянется к солнцу, так и всякая невеста тянется к счастливой жизни, к хорошему жениху. Но если нареченный судьбой уже указан, может быть, и не тот, кого желала, родительское благословение и церковь связали с ним, – о девичьих думках вспоминать нечего. Отпричитала о них на зорьке перед венцом – «Отволила волюшку у родимого батюшки, у мамушки» – и забудь. Нечего растравливать сердце. Попусту это. Гуляй, девонька, веселись, пока нет у тебя никакой заботы и за подол не держатся детские ручонки. А уж коль головушку покрыли – новые должны тревожить думки. Так-то!
Бабка хорошо помнила, о чем в порыве откровенности поведала ей Надя в тот день, когда к ним ввалились сваты. Ей не понять было, как это до венца можно было пойти на такое дело. Но уж ежели бес попутал – ведь он силен! – как-то надо заметать следы. Внести в дом найденыша – это значит погубить всю жизнь. Никак это нельзя. Один исход – тайком побывать у Березовой, старухи Лукерьи. Она избавляла жалмерок от грехов молодости. Рука на это у ней хоть и не легкая, но в хуторе этим делом никто больше не занимался. А на другой хутор как поехать? Что скажешь мужу? С Лукерьей бабка по секрету уже перешепнулась – та не против. Но уговорить внучку никак не удавалось. А сделать это надо было не откладывая, а то будет поздно. Бабка все допытывалась у Нади, на каком месяце она ходит, но та отмалчивалась. Вот глупая! Сколько хлопот, терзаний – для нее же все это! Всякий раз, бывая у Нади, бабка внимательно, со всех сторон ощупывала ее глазами, уже не очень острыми, но пока ничего не могла заметить. Надя казалась все такой же тонкой, подборпстой, как и раньше.
А тут и поговорить с ней как следует не удавалось. Сколько раз зазывала к себе – не идет. А к сватам только покажешься, Трофим вопрется в комнату, сядет рядом и – ни на шаг. Тоже дурень!
Последний раз бабка была у Абанкиных спустя неделю после дождливого и холодного бабьего лета. Проторчала до позднего вечера – все ждала, когда Трофим уйдет из комнаты, да так и не дождалась. На минуту отлучится куда-нибудь, только затеешь разговор о самом важном, а он снова тут. Наконец бабка не вытерпела и потянула на себя платок, поднялась.
– Оденься, внучка, выйдем. Жарища у вас – совсем разморило.
Трофим вскочил с кровати.
– Тебя, может, проводить, бабуся? – поспешно и ласково предложил он, – Темно уже стало. – И, не дожидаясь согласия, начал было одеваться.
– Нет, кормилец, не надо, – сердито проворчала бабка, – не надо. Одна дорогу найду, не заплутаюсь.
В воротах она остановилась, покрутила головой, высматривая, нет ли кого поблизости, и придвинулась к внучке вплотную:
– Ты чего же, Надешка, ждешь, – зашептала она, – на что надеешься? Своей жизни тебе не жалко? Сколько раз тебе говорено! Нешто можно допускать… Страмота какая! Ты думала как? Любила играть – люби и отыгрываться. Всю жизню маяться сладко будет? Этим, девка, не шутят. Муж-то поди и без того спасибо не говорит. Бьет? Ась?
Надя стояла потупившись, и густые осенние сумерки скрывали мелкую-мелкую дрожь ее губ.
Вечер был тихий, мрачный. Луна еще не всходила. Заморозок крепчал. По небу расползалось снеговое тяжелое с исчерна-сизой кромкой облако. В улицах, навевая жуть, хором выли собаки. Резко выделялись два напористых голоса: один из них, низкий, заунывный, вел песню басовито, чуть вибрируя и прерываясь на короткое время; другой, захлебываясь и коротко гавкая, подхватывал тончайшим согласным подголоском. Над садами, чуя холод, баламутились крикливые галки, а откуда-то издалека, с того конца хутора, доносились едва внятные женские возгласы. Сначала Наде показалось, что это кто-то поет, но, прислушавшись, она отчетливо различила жалобные и протяжные причитания по мертвому (последнее время с фронта участились печальные сообщения). Надю охватила невыразимая тоска. «Опять… – подумала она. – Кого ж теперь?..» Зябко ежась и пряча в рукава внезапно похолодевшие руки, она напрягла слух, но над садами взго́лчились потревоженные галки, поднялись тучей, и в простуженных визгливых криках их потонули все остальные звуки.
Бабка, туговатая на уши, шипела все пуще:
– Чего ж ты молчишь, как воды в рот набрала? Ведь дело это что ни видишь обнаружится. Какой ответ держать будешь? Весь век, девка, не промолчишь. Так-то! Окромя тут ничего не придумаешь. К Лукерье идти не миновать. Тайком. С ней я столковалась. В субботу, сказывает, можно. На этой неделе. А ты как только того…
На крыльце заскрипели доски, послышались шаги, и Трофим, сходя по ступенькам, кашлянул. От цигарки его брызнули искры.
Бабка вскинула глаза, насторожилась.
– Нечистый его… идет уж… ревнивый твой. Не даст слова сказать. Так не забудь: в субботу, как смеркнется. Поджидать тебя будет. Может, и я вырвусь. Ну, бог с тобой. Не горюй. Господь пошлет, обойдется все по-хорошему. С кем грех-беда не случается. – Она поправила на голове платок, попрощалась и резвой, не по летам, походкой, постукивая костылем, скрылась в темноте.
К воротам подошел Трофим.
– Заморозила тебя… старая. И чего она?.. Пойдем в комнату. Свежо тут. Да и ужинать пора. Пойдем!
Надя, втянув голову в плечи, вяло шла вслед за мужем, и шаг ее был неровен и тяжек.








