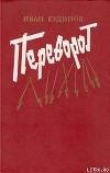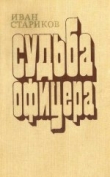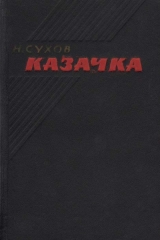
Текст книги "Казачка"
Автор книги: Николай Сухов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 41 страниц)
Жалеть Федору, что он слишком поторопился сюда, не пришлось. Скоро в большущей комнате стало так тесно, что не протолкнуться. Забиты были не только задние ряды стульев, но и все проходы, все углы и даже подоконники. А люди все прибывали и прибывали. Где уж теперь приходящим было думать о хороших местах, хоть бы к стенке бочком где-нибудь прислониться! Фронтовики, привыкшие к полевым летучим собраниям и митингам, вели себя здесь так же, как и на митингах, и, пожалуй, еще более свободно, так как сдерживать себя и опасаться офицерских глаз было нечего: шум, гам, споры…
Малахов вошел в комнату, полуоборачиваясь на ходу и оживленно говоря что-то показавшемуся вслед за ним человеку средних лет, смуглому, несколько худощавому, в кожаной куртке и кожаной фуражке. Затем Малахов почтительно посторонился, делая толпившимся у стола фронтовикам знаки рукой, смысл которых заключался в том, чтобы те освободили стол, и пропустил вошедшего с ним человека вперед.
Тот, продвигаясь к столу, окинул собравшихся спокойным, внимательным, чуть прищуренным взглядом, какой бывает у людей, углубленных в свои мысли, и на его строгом лице со следами озабоченности и утомления появилась улыбка. Фронтовики смотрели на него во все глаза. Он снял фуражку, обнажив зачесанные назад волосы, густые, темные, и запросто, как к знакомым, обратился к стоявшим подле него кубанцам.
Федор, догадываясь, что, должно быть, человек этот и есть представитель ЦК большевиков, поднялся со стула, но сзади кто-то дернул его за гимнастерку книзу, и он опять сел. В комнате, набитой битком, говор между тем прекратился. В наступившей тишине Федор услышал, как кто-то сдержанно позади него шепнул: «Сталин…»
Малахов краткой, совсем кратенькой речью открыл собрание, и тут же заговорил Сталин, и слова его, произносимые с легким кавказским акцентом, неторопливо, показались Федору близкими и понятными.
Кое-что из того, о чем он говорил, Федору приходилось слыхивать – и от Малахова больше всего, и от других людей. Но какая разница! Всегда, бывало, слушая либо Малахова, либо кого-нибудь еще, Федор невольно раздумывал: а так ли это или, может быть, не совсем так? Может, Малахов это выдумывает? А речь Сталина как-то незаметно и легко, словно это он сам, Федор, придумал, подсказала новые, ясные мысли. И в самом деле, ведь только так и может быть! Как же он, Федор, не додумался до этого раньше! И почему народ – такая уйма его! – терпит над собой измывательства какой-то кучки богатеев и не смахнет ее одним махом!
Из того, что Федор понял и как он понял, выходило, что войну, эту кровавую бойню, учиненную помещиками, капиталистами и генералами, изводившую уже четвертый год трудовой люд, немедля надо прикончить, так как война эта – грабительская, захватническая. Нынешнее правительство не способно положить конец затянувшейся войне, поэтому вся власть должна быть передана в руки революционного класса. Только такая власть, власть рабочих, солдат, трудовых казаков и крестьян, может двинуть вперед революцию и уберечь страну от полной разрухи. Фабрики, заводы, железные дороги – все это, созданное рабочими, должно принадлежать самим рабочим, а не тем, кто их трудом набивает карманы; земля со всеми угодьями также должна принадлежать не помещикам, а тем, кто эту землю орошает потом. И единственная демократическая в России партия, которая этого добивается и наверняка добьется, – это партия большевиков.
Федор почувствовал, как в бок ему нестерпимо уперся локоть соседа, и он рассвирепел, повел плечом, намереваясь бесцеремонный локоть оттолкнуть от себя. Но посмотрел на соседа, моложавого, взопревшего в духоте и тесноте казака-уральца с жидким пушком на верхней губе и внезапно остыл, осторожно повозился на стуле, отодвигаясь сколько можно было, – не решился потревожить этого уральца, который сидел с полуоткрытым ртом, бормотал что-то про себя, пошевеливая ребячье-пухлыми губами, и, как видно, совсем забыл и о себе, и о людях.
– В чем своеобразие переживаемого нами момента? – подводя итоги, говорил Сталин. – Что характерно для сегодняшнего дня? Это – борьба между двумя властями: властью официальной, так называемой директорией, образовавшейся первого сентября, то есть диктатурой пяти под началом Керенского, и властью неофициальной, Советами, которые теперь становятся большевистскими. Либо власть Советов – и тогда господство рабочих, трудовых казаков и крестьян, мир и восстановление хозяйства, разрыв финансовых пут союзного капитала, связывающих Россию по рукам и ногам; либо власть Керенского – и тогда господство помещиков, буржуазии и атаманов, война и разор хозяйству, полная зависимость от денежного рынка Америки и Англии, ибо диктатура Керенского – только ширма, заслоняющая от народа диктатуру буржуазии, отечественной и союзной. В самом деле. Корниловщина была всецело поддержана капиталистами и помещиками. А что сделано и делается для полного подавления или хотя бы расследования этой контрреволюции? Ничего. И не может быть сделано без перехода власти к Советам. Корниловский соучастник Каледин подымает мятеж против революции, разгоняет на юге Советы, а его друга генерала Алексеева назначили начальником главного штаба. Но если Керенский ничего не делает для подавления контрреволюции, то он очень усердно подавляет крестьян. По России рекой разливаются крестьянские восстания, и Керенский посылает войска на «усмирение», на защиту помещиков. Не ясно ли после этого, что диктатура Керенского – только ширма, заслоняющая от народа диктатуру капиталистов. Не ясно ли теперь, после корниловщины, что помещики и буржуазия, атаманы и генералы прикрылись соглашательской фразой эсеров и меньшевиков и идут на чудовищные преступления: отдали Ригу и собираются отдать Петроград, отдают под расстрел большевистские полки, ведут на столицу обманутых казаков с «дикой дивизией» в авангарде, с броневыми машинами, прислуга которых состоит из иностранцев. И ради чего все это? Ради того, чтобы укрепить свое господство, чтобы залить страну кровью трудового люда. Не ясно ли теперь, что буржуазия предаст родину и не побрезгует ничем, лишь бы отстоять свою власть над народом и свои барыши. И у народа нет иного выбора, кроме как пойти на решительную борьбу с буржуазией и помещиками, с атаманами и генералами. И на эту борьбу, борьбу вооруженную, народ может повести только партия большевиков. Вся власть Советам! – вот лозунг нынешнего дня. За интересы трудового народа, за мир, за свободу, за землю!
После речи Сталина изо всех углов сразу, наперебой посыпались вопросы:
– А какая власть при большевиках обозначится? Назначать ее кто будет али как?
– Войне, кажете, треба кинец навести. А все ж таки колы ж цей кинец наведеться?
– Вщет справы… Казак на свои кровные и коня справляет, и седло, и все прочее, что по службе требуется. Вот как тут?..
– О большевиках хотелось бы… откуда они, каким манером произошли?
– Про землю неясно. Паи у казаков отбираться будут или ж обратно у казаков останутся?
Последний октавистый выкрик раздался над ухом Федора, и он, морщась, глянул через плечо на крикнувшего фронтовика, широколицего, бородатого, похожего на старообрядца. По номеру на его погонах определил, что фронтовик этот, урядник, мявший в руках донскую фуражку, – из казаков низовских станиц. «Дьяволы тебя мордуют, орешь тут!» – злобно подумал Федор, взглянув на него еще раз. Обозлило Федора, собственно, не то, что этот низовец прогорланил над его ухом, а сам вопрос его, затаенная о паях и о земле тревога, которая Федору была неведома. Что ему было тревожиться о своих паях, которыми давно уже владеет «чужой дядя»?
Федор не мог сочувствовать «старообрядцу». А между тем земля ведь не у всех в закладе. Это – во-первых. А во-вторых, земля земле рознь. Паи у казаков северных станиц области, верховцев, к каким принадлежал Федор, и паи у казаков-низовцев, южных станиц, к каким принадлежал спрашивающий, совсем не одинаковы. Среди низовцев многие живут чуть ли не помещиками, и они во всяком случае куда богаче северян. Сама земля у них несравнимо жирнее, лучше той супеси, на какой сплошь да рядом сидят верховые станицы; у низовцев и собственные виноградные плантации, и раздольные охотничьи и рыбные промыслы, чего у северян и в помине нет. Пожалуй, им было о чем беспокоиться! И не они ли, казаки-низовцы, впоследствии, когда вспыхнула гражданская война и Дон раскололся, наиболее рьяно подперла плечом русскую контрреволюцию!
Сталин на вопросы ответил, и собрание окончилось. Федор, увлекаемый за руку Колобовым, шагнул было к выходу в общем потоке возбужденно переговаривавшихся казаков. В это время Малахов окликнул его и поманил к себе. Федор, слегка робея в присутствии Сталина, со всех сторон окруженного казаками, подошел к столу. Малахов указал глазами на незнакомых фронтовиков, в числе которых был и тот молодой уралец, что сидел по соседству с Федором, и попросил задержаться.
…А когда Федор уезжал из Петрограда, еще раз тщетно облазив со своим товарищем углы и закоулки главного интенданства, в кармане его гимнастерки вместе с командировочным удостоверением лежала записка Малахова Павлову: наряду с другими деловыми предложениями дивизонному комитету Малахов рекомендовал взять на учет Федора Парамонова как сочувствующего партии РСДРП (б).
IX
Говорят: не бывать бы счастью, да несчастье помогло.
Если эту поговорку применить к судьбе Пашки Морозова, ее нужно будет несколько переиначить: не бывать бы счастью, да два несчастья помогли – дважды побывал он в ростовском госпитале. В сущности, помогло ему то несчастье, первое, которое привело его в Ростов-на-Дону. Не попади он сюда, в Ростов, поближе к донскому центру, к Новочеркасску, – не попасть бы ему и на новую уютную службу. А второго несчастья, ненадолго вернувшего его опять в тот же госпиталь, могло бы и не быть.
Откуда и каким путем в комендатуре областного правления узнали про Пашку, о том, что он – разбитной и статный малый, георгиевский кавалер, который доказал одновременно и свою храбрость, и свою преданность начальству: рискуя жизнью, спас в бою командира сотни, то есть кавалер из числа тех, которые как раз нужны для несения службы при атаманском дворце, – откуда узнали обо всем этом в комендатуре, Пашке не было известно. А вот узнали-таки. Когда он, выписываясь из госпиталя и собираясь в полк, зашел по вызову начальника в канцелярию, там он увидел рядом с начальником молодого в мундире лейбгвардии атаманского полка сотника с адъютантскими аксельбантами. Вступив с Пашкой в разговоры, адъютант ласково разрешил ему присесть, повыспросил его кое о чем и вдруг предложил ему переменить место службы: перейти в гарнизон Новочеркасска. При этом прямо назвал войсковую часть и коротко рассказал о характере службы.
Пашка вначале удивился, смело оглядев офицера. «Уж больно того… больно уж широкие права у тебя, тыловая крыса, ей-бо! – подумал он. – Видать, большая птица, ежели не врешь». Но сразу же смекнул, что дело тут пахнет магарычом, – выгодное дело. И даже раздумывать не о чем. Ведь это же лафа! Плохо ли навсегда окопаться в тылу, вместо того чтобы снова вернуться в полк, к ночным изнурительным нарядам, к голодному пайку, к переходам и вражеским пулям, к грязи и вшам! Кто бы отказался на его месте! Разве с придурью какой-нибудь. Да еще в каком тылу – в сердцевине Донской области, в городе, где живет войсковой атаман. И не просто находиться в этом городе где-нибудь на задворках, а быть при атаманском дворце, иметь дело с людьми высокими, образованными, чуть ли не каждый день видеть самого атамана Каледина… Нет, только истовый дурак мог бы отказаться от этого. К тому же ведь всем и каждому, и Пашке, конечно, давно уже известно: стремись не туда, где чины и награды заслуживают, а туда, где ими жалуют. А где же еще больше жалуют ими, как не здесь! А чины и награды для Пашки совсем не безразличны. И не отсюда ли самая короткая дорожка к тому, о чем втайне мечтал он, – к погонам прапорщика? Конечно, друзья скажут: тыловая крыса, и все прочее. Но и Пашка так говорил. И все фронтовики так говорят. А в то же время все завидуют.
Одно только немножко угнетало Пашку: с сестрою и Федором теперь уже надо будет распрощаться. Уже не придется больше хлебать с ними из одного котелка, распевать в три голоса казачьи песни, ломать натрое каждую нуждишку и радость. Но в конце концов не может же он быть с ними вечно, надо же в конце концов когда-нибудь расстаться. Днем позже, днем раньше – не все ли равно.
Короче говоря, уйдя из госпиталя, Пашка назавтра уже собирался поблагодарить за хлеб-соль Ростов и выехать по месту новой службы, в Новочеркасск. Но тут-то и стряслась над ним та самая другая беда, которой Пашка никак не ожидал, находясь здесь, в глубочайшем тылу. И беда эта на некоторое время снова вернула его в госпиталь, задержала в Ростове.
Вечером тот же гвардеец-сотник, оказавший Пашке незабываемую честь и милость, завел с ним другую беседу, уже с глазу на глаз, без свидетелей, в своем номере гостиницы. Он беседовал с ним, как с добрым, надежным казаком, не зря носившим галуны урядника и два георгиевских креста. Откровенно выругав Временное правительство, в частности Керенского, посмевшего отдать приказ об увольнении донского атамана Каледина в отставку за то, что он, Каледин, помогал главковерху Корнилову в его неудавшемся походе на столицу, и выругав еще крепче Советы рабочих и солдатских депутатов, сотник пригласил Пашку принять участие в одном негласном, как он выразился, мероприятии, проводившемся якобы по желанию донского правительства.
Приглашение офицера Пашка совершенно безошибочно воспринял как вежливую форму приказа и, конечно, дал согласие, хотя по-настоящему, до конца так все же и не уяснил, что же лично от него требуется и в чем это «негласное мероприятие» будет заключаться. Но расспрашивать сотника не осмелился, побоялся, как бы тот не счел его беспонятным. Слова, которыми офицер обозвал Советы, сперва Пашке показались смешными, и он даже рассмеялся, слушая. А когда вышел из гостиницы, получив указание, куда и во сколько часов явиться, и начал раздумывать, смешного в этих словах он ничего уже не нашел. Что же, в самом деле, смешного в том, что солдатские и рабочие комитеты обзываются так презрительно и злобно? А казачьи комитеты как сотник называет? Но углубляться в эти мысли Пашка не стал, хотя офицерская насмешка и кольнула обидой за своего брата-простолюдина. Обида эта в его душе тут же была заглушена благодарностью за оказанную ему честь. Пашка был действительно добрым казаком и привык безоговорочно подчиняться начальству. Офицер приказывает – казак обязан выполнять. А что и к чему – о том думает не тот, кто выполняет, а кто приказывает, кому дано и кто заслужил это право.
В полночь, как только город стих, окутавшись густой осенней наволочью, в окраинной к Нахичевани улице раздались шаги, приглушенные и четкие. Так размеренно и четко отстукивают вымуштрованные за многие годы служивые. Люди, с винтовками через плечо, а кое-кто еще и с шашками, шли молча, строем по два – шесть пар. Сбоку строя, у самых стен и заборов, крупно вышагивал щеголеватый офицер-атаманец. Когда он, пересекая выжелченные фонарями круги, попадал в полосу света, на груди его, на фоне синего с иголочки мундира поблескивали, отливая рябью, плетеные шнуры – адъютантские аксельбанты.
Плечо о плечо с безусым, чрезмерно подтянутым, не по летам и не по чину надутым юнкером шагал Пашка Морозов. Придерживая за ремень винтовку, он искоса поглядывал на своего нелюдимого соседа, шепотком пошучивал над своей прогулкой и все пытался, несмотря на приказ идти молча, завязать с соседом беседу. Но из попыток его ничего не выходило. Юнкер держал себя заносчиво, горделиво, в сознании важности и своей персоны и своего дела. Поскрипывая хромовыми сапогами и задирая голову, он шел, будто аршин проглотил, и беседовать, как видно, совсем не был охоч. На Пашкины вопросы и шутки отвечал он с явным недовольством и даже сердито.
– Христославцы… В церкве еще не звонили, а мы уже выщелкнулись, чтоб первыми захватить. Куда мы сейчас? – шептал Пашка.
– В гости к главарю из совдепа, – вяло буркнул юнкер.
Пашка помолчал, размышляя. Последнее слово он не понял. Офицер у перекрестка остановился, махнул рукой, указывая на тесный, зажатый невзрачными домишками переулок, и скрылся за углом. Головная пара свернула следом.
– А что это за штука такая – «иссовдепа?» – спросил Пашка.
Но юнкер вместо ответа презрительно сопнул и отвернулся.
«Ишь паршивка, ей-бо! – мысленно обругал его Пашка. – Большую птицу из себя корежишь! Цаца сопливая!» – И рывком подкинул винтовку.
У маленького, крытого тесом флигеля, за дощатым, в полтора человека высоты, забором, они задержались ненадолго. Юнкер зверем перемахнул через забор, отпер калитку, и казаки всей ватагой ввалились в укромный, присыпанный песком двор. Пашка, стоя у калитки, видел, как кто-то из сгрудившихся на крылечке казаков постучал в двери, сперва негромко, одним пальцем, потом кулаком, со злобой; двери, звякнув задвижкой, открылись. Между офицером и вышедшим человеком произошел короткий разговор, и затем офицер и несколько казаков, цепляясь о порожек сапогами, гремя шашками и чиркая спичками, полезли в сени. Из комнаты через щели в ставнях брызнул свет.
Что казаки делали в доме, Пашке не было известно. Оттуда не доносилось ни звука. А когда казаки через короткое время снова загремели на крылечке, из-за спины офицера выступил невысокий, пожилой, в демисезоннном пальто и кепке человек. Озабоченно и как-то спокойно покашливая, засунув в карманы пальто руки, он обогнул стоявшего на дороге Пашку, даже не взглянув на него, как огибают какой-нибудь придорожный столб или камень, и в сопровождении двух наступавших ему на пятки казаков направился в калитку…
Много в эту хмарную, сырую и долгую ночь они навестили домов, побывав и на окраине Ростова, в глухих отдаленных переулках, и на Большой Садовой, в центре; много Пашке пришлось поплутать по городу, который он до этого видел из окна госпиталя. По двое и по трое казаки на некоторое время выбывали из строя, уводя людей, и, сдав их в комендатуру, возвращались опять. И везде все обходилось мирно и благополучно. То бишь не то чтобы мирно, а без урона для казаков. Но на заре, уже после того как казаки вломились в помещение Совета, сняв при этом дежуривших красногвардейцев, поломали столы, пожгли бумаги – Пашка и здесь стоял с винтовкой у входа, на карауле и мало что видел, – уже после этого, когда, завершая поход, казаки держали путь на Московскую улицу, случилось неожиданное.
На ходу покуривая и тихо переговариваясь с разрешения офицера, казаки все тем же строем и все в том же составе поворотили с большой, широкой, с двойными рядами нагих деревьев улицы Садовой в какой-то темный и кривой, без единого фонаря закоулок, сразу же попав в невылазную грязь. Только что хотели они было перейти на противоположную сторону – над их головами что-то с подсвистом шуркнуло и ударило о камень стены: послышался звук разлетевшегося кирпича.
– Что за так-перетак!.. – сказал офицер, остановясь.
Но вот шуркнуло еще раз, и еще, и тут же одни из казаков ойкнул, охватил ладонями располосованную щеку и нос, а Пашка Морозов скорчился и, роняя с плеча винтовку, присел в грязь: кирпич угодил ему в только что заживший бок, прямо в рану.
Щелкнули затворы. Казаки, матерясь, метнулись к подворотням, туда, сюда, но вокруг – пугливая предрассветная тишь, непроглядная темень да слякоть.
Обмякнувший и по уши вывалявшийся в грязи Пашка кое-как, с помощью товарищей выбрался из лужи, влез в извозчичью пролетку, приведенную с Садовой юнкером, и под холодным крепчавшим дождем, ежась и постанывая, потащился вместе с другим пострадавшим казаком снова в госпиталь.
X
Вскоре после того как Федор Парамонов возвратился в часть, огорчив сослуживцев тем, что из главного интендантства он вместо шинелей и сапог привез одни лишь посулы, его пригласил к себе на квартиру прапорщик Захаров. Не то что приказал прийти, а именно пригласил, случайно встретившись с ним в сотенной канцелярии и освободив его от наряда, в который по злобе назначал его вахмистр.
Необычного в этом приглашении Федору ничего не показалось, хотя он и знал, что подобного панибратства с подчиненными офицеры, как правило, не позволяют себе. Но ведь он, Федор, только что вернулся из Петрограда, а Захаров там учился и в разговорах частенько вспоминал с грустью и о столице, и о своем студенческом прошлом.
Ждать себя Федор не заставил. Захаров усадил его на стул, дружелюбно подсунул пачку папирос с чубатой головой Кузьмы Крючкова и осторожно повел беседу. Он расспросил Федора о его последней поездке, о впечатлениях, выругал вместе с ним интендантство, пожалел, что служба не позволяет хотя бы на денек заглянуть в столицу, отвести душу, повидать знакомых, и как-то незаметно перешел к политике, которая, как видно, его глубоко волновала, несмотря на то что ни к какой партии формально он не примыкал.
– Мне известны, брат, стали, – сказал он Федору после некоторой подготовки и мельком взглянул на его удивленно поднявшиеся брови, – известны стали твои внеслужебные похождения в столице. Шила в мешке не утаишь… Да и не для того «шилом» этим люди запасаются, чтобы его прятать… А? Откуда известны? Ну, брат… слухом земля полнится. Не подумай только, что тут слежка какая-то. Нет, просто случайно узнал.
– Не думал я, – не в силах скрыть досаду, нахмурившись, перебил его Федор, – не думал я, что земля так слухом полнится.
– Честное слово, случайно! – раскатистым тенорком смущенно вскрикнул Захаров, и девичье-нежные щеки его загорелись. – Ты напрасно сердишься. Оттого, что я узнал, хуже не будет. Твои искания, Парамонов, я понимаю. Очень! Потому-то мне и хочется по-дружески, начистоту потолковать с тобой. Хочется помочь тебе, предостеречь тебя от ошибки. Политика, брат, штука такая… Не туда шагнул – и вверх тормашки. А твой шаг… первый в политику шаг, по-моему, ошибочен. Убежден в этом. Да, убежден! Отчаяние руководит тобой, вот что. А отчаяние – плохой, брат, руководитель. Но пока еще не страшно, поправимо пока. Конь о четырех копытах – и тот спотыкается.
Доводы Захарова против большевиков были пространные. В ином случае они, пожалуй, могли бы быть и убедительными. Захаров не охаивал своих политических противников. Наоборот, он всячески напирал на их настойчивость, смелость, упрямство, на их умение воспользоваться дряблостью правительства, завлечь массы (не увлечь, а именно «завлечь», говорил Захаров) и даже – на их силу.
– Большевики настойчивы, – сказал он, – и последнее время сильны стали, все это правильно. Но ведь партия-то их – рабочая. Так и называется: Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков). А казачество при чем тут? Про казачество ничего тут не говорится. Они, большевики, добиваются жизни для самих себя, для рабочих – людей фабрик и заводов, а вовсе не для казаков. И казак-большевик – это так же дико, как нищий-миллионер.
«Ну, милый мой, – все больше хмурясь, прикладывая ко лбу ладонь, думал Федор, – мне, конечно, трудно с тобой, языкастым, спорить, и я не могу всего объяснить, как оно и что. Но я слушал представителя самого ЦК большевиков и точно помню слова: власть рабочих, трудовых казаков и крестьян. Значит, казачество при чем-то тоже есть».
– Вы говорите, казак-большевик – это дико, – возразил он, – а я своими глазами видел таких казаков и ничего дикого в них не заметил.
– Голубчик Парамонов! – еще громче закричал прапорщик, подскочив на стуле. – Ведь отчаяние подхлестывает не одного тебя. Пойми это. Большевики хлопочут о мире, вот в чем секрет! И этим как раз попадают в масть казакам. Сейчас попадают. Я бы тоже согласился стать большевиком, пока идет война. Но после-то что, после? Между бытом нашим, казачьим, и тем, что хотят ввести большевики, – социализмом, нет никакого сродствия. – Захаров с особенной любовью подчеркнул последнее, казачье слово, – Никакого сродствия! Они исключают друг друга, да, отрицают. А казаки идут, правильно говоришь. Но идут они только по неведению. А большевики их не отталкивают. Зачем же? Даже примолвливают: пускай помогают загребать для них жар. Но сами-то… сами-то казаки что от того выгадывают? Они уподобляются тому смекалистому парню, что сидел на суку, рубил его под собой и думал, что он себе на пользу дело делает.
– Не знаю, господин прапорщик, о каком вы быте толкуете, за какой быт тревожитесь. Вам виднее, конечно, – едко сказал Федор. – А что касается меня, таких, как я… так мой быт – вот он весь тут, весь! Вот эта чертова кожа, – и со злобой подергал на себе старенькую, застиранную и залатанную на локтях гимнастерку, – Да вот эти разбитые сапоги… да нешто кривой мерин еще – у моего батьки. И все. Круглым счетом. Вряд ли на этот быт найдутся посягатели. Не думаю.
На квартиру Федор возвращался злой, насупленный. Ему было досадно на себя, что ответить прапорщику по-настоящему, дать ему отповедь он все же не смог – слов для этого у него не нашлось. Он и в самом деле не знает, почему большевики свою партию назвали рабочей, а не трудовой, скажем.
Квартировал Федор вместе с Надей в неказистом двухкомнатном домишке селянина-украинца села Ивановки – неподалеку от станции Раздельной. Это – на Одесщине. Из Натягаловки вторую и третью сотни не так давно перевели сюда. Здесь, в Ивановке, с самого лета стояли все остальные сотни полка и штаб. Разместили здесь казаков гораздо теснее, чем в Натягаловке, но все же Федору удалось и тут отстоять себе отдельную квартиру, без других служивых.
В воротах Федору повстречалась Надя. Без верхней одежды и непокрытая, спешила она к соседке хозяев, пожилой застенчивой женщине, пригласившей ее к заболевшей дочке. Сама Надя не бралась, конечно, быть лекарем, но она хотела все же осмотреть больную и, может быть, пойти попросить полкового врача, который ее уважал, несмотря на ее слабую медицинскую подготовку, и мог бы по ее просьбе помочь больной. Наде известно было, куда Федор ходил, и она, взглянув на него, насторожилась.
– Либо что поругался с Циркулем? Чего ты такой? – спросила она, приостановясь, называя Захарова так, как иногда в шутку за глаза называла его Галина Чапига за его несоразмерно тонкую и длинную фигуру.
– Да нет, не ругался. Чего мне с ним делить!
– А чего ж ты такой?..
– Исповедовал он меня… приобщать посля сулится. Говорит, с отчаяния не туда суюсь. Большевики, дескать, в сродственники нам не подходят, и жар для них загребать нечего. А ты, дескать, похож на чудака: взобрался на сук и топором гвоздишь его под собой.
Надя захохотала.
– На чудака?.. А он на кого похож? А с какого лиха разговор-то у вас взялся? Как он узнал?..
– Значит, узнал. Длинноухий. Пересказал, значит, кто-то.
– Ну, а кто ж нам подходит в сродственники, не сказал он? Анархисты, может, – «потопим в крови», да разрушим, да затолочим. Аль, может, они, господа офицеры?
– Нет, не сказал. Другим разом скажет. Ты куда это, раздетая, выскочила?
– Да соседка покликала. Девочка хворает.
– А-а… Ну, бежи, моя докторша, бежи, не мерзни. Придешь – обедать будем, – И, повернувшись к воротам, шагая к крыльцу и все еще досадуя на себя, Федор пробурчал: «Ладно. Ничего. Пускай пока его верх будет. Пускай радуется. А вот Павлова я увижу… Буду в дивизионном комитете, увижу Павлова, расспрошу. Уж я его, Циркуля, припру тогда к стенке, покажу – на суку я иль, может, на самом дереве».