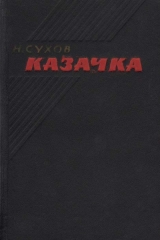
Текст книги "Казачка"
Автор книги: Николай Сухов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 41 страниц)
IX
Тридцатый полк стоял вблизи железнодорожного полотна в небольшом чистеньком местечке Бриены. Изрядно потрепанный в последних схватках с мадьярами, полк отдыхал здесь с конца марта, уже месяц скоро. Местечко, расположенное в глубоком тылу, казакам не нравилось. Скученно стоявшие опрятные домики, крытые черепицей, почти все на один манер, будто одного хозяина; в прямых, узких и аккуратных улицах ни канав, ни плетней; палисадники под одну линию. Все размеренно, сжато и однообразно. Во всем чистота, порядок, строгость линий. И этот-то порядок и размеренность казакам были не по душе. То ли дело донской хутор: двор от двора – на целую версту, хоть парады устраивай; один дом фасадом на запад, другой – на юг; тот – огромный, под цветным железом, этот – маленький, с камышовой крышей… Просторно, весело и пестро.
Взвод Федора Парамонова размещался почти в центре местечка, неподалеку от высокой, пикой вонзавшейся в небо лютеранской церкви, кирки. Квартировал Федор вместе с Пашкой Морозовым, Жуковым, Петровым и еще тремя казаками Филоновской станицы. С того времени как полк сняли с позиций, для Федора жизнь стала еще мучительней. Там, на позициях, в изнурительных буднях и страхе за жизнь личная беда растворялась в общей беде, и становилось немножко легче. А здесь целый месяц бей баклуши, слоняйся по улицам без дела – человеку благополучному и то станет тошно. Ни учений никаких, ни занятий, а отпусков не давали. А ведь для того чтобы съездить домой, Федору потребовалось бы только две недели. Федор понимал, в чем тут разгадка: командование не доверяло казакам. Отпусти – и уж в полку вряд ли больше увидишь, разве только по этапу пришлют.
Добиваться отпуска теперь, будучи членом полкового комитета, Федору было неудобно, и он не делал этого. Втайне, как и все казаки, надеялся, что война вот-вот будет закончена. И надежда эта поддерживала в нем бодрость. Хотя трудно говорить о его бодрости: угрюмая озабоченность редко сходила с его лица. На днях, услышав о том, что брат Алексей живет дома, он написал ему большущее письмо: просил во что бы то ни стало забрать от Абанкиных Надю.
Но если самому Федору хлопотать об отпуске теперь было неудобно, то это с большим рвением делали за него новые друзья из казачьего комитета, а также Пашка Морозов. Больше всего именно он, Пашка. В комитете о Федоровой беде знали не столько от него самого, сколько от Пашки. Тот заботился о друге без его ведома. Частенько встречал председателя полкового комитета – сговорчивого и рассудительного казака-второочередника Зубрилина, и все приставал к нему с просьбой, чтобы Федора отпустили на побывку как можно скорее. Пашка, георгиевский кавалер, теперь имел уже кое-какое влияние, и с ним считались. На груди его на двухцветных, в черную и оранжевую полоску, ленточках поблескивали два новеньких серебряных креста, и на плечах – погоны урядника.
Вчера, после бурного заседания комитета, на котором от командования полка потребовали смещения командира и каптенармуса третьей сотни – первый, новоиспеченный хорунжий, уж слишком откровенно издевался над казаками, а второй без зазрения совести обсчитывал их, – Зубрилин задержал Федора и, лукаво глядя на него, сказал:
– Магарыч, брат, с тебя. Бутылку вишневой. Поедешь домой. Я уж говорил с кем надо. Вроде бы наклевывается. Вечером ныне, попозже, утрясется окончательно. Завтра наведайся ко мне, сообщу.
У Федора от радости спутались мысли, и он не знал, что сказать.
– Вези поклон от нас Дону, родной землице. Бог его знает, сколько еще нам придется тут… маяться. – И Зубрилин вздохнул.
Разговор этот произошел вчера вечером, а сегодня Федор, поднявшись с постели раньше всех – он почти не спал всю ночь, – не знал куда себя девать. Часы до завтрака ему показались изнурительно длинными. Казакам он пока еще ни о чем не говорил. Боясь горьких разочарований, старался обмануть себя, внушить мысль, что отпуск его дальше комитета не продвинется. Когда кто-то из казаков притащил кипятку, Федору хоть и не до чая было, он все же вместе со всеми сел за стол.
Пашка Морозов, по обычаю, веселил казаков своими шутками. Всегда он находил о чем рассказать или над чем пошутить. Не поднимая со стола кружки, прикладываясь к ней губами и хлебая, он говорил:
– На закате солнца иду я по нашей улице – из штаба возвращался, – иду, значит, и слышу: поют. Остановился, повертел носом. А был я возле самой кирки ихней, стало быть, церкви. Вижу: дверь у кирки открыта. Я туда. Вошел помаленьку, смахнул фуражку. В кирке народу полно. Всякого. Сидят, покачивают головами, и все сразу тянут, по-своему, ничего не разберешь. Чудно так! Не по-нашему, ей-бо! Ни свечей, ни лампад. Поп ихний впереди стоит и тоже чего-то лопочет. Я подсел к одному рыжему дяде – он отодвинулся немножко – и тоже начал подтягивать. Они псалмы, стало быть, а я в лад с ними «Ехал на я-яр-манку у-ухарь купе-ец…» Ей-бо! Смотрю: один, паря, косится на меня, а рыжий дядя поглядывает на меня и кивает: «Смелее, смелее, мол». Да. Подтянул, значит, с ними…
В комнату вошла полная, средних лет женщина – хозяйка – с крупными и резкими чертами лица. Пашка, увидя в ее руке ведро с молоком, оборвал на полуфразе и притворно вздохнул:
– Эх, братики, хорошо тому живется, кто с молочницей живет! Весна, зеленая травка, на хуторах теперь пруды молока. Чаек со сливками. Э-эх! – и подморгнул Жукову, знатоку чужеземной речи.
Тот сидел спиною к двери. Поняв Пашку, он повернулся к женщине и просяще сказал:
– Хозяюшка, додман пиена?
Женщина молча налила молока в кофейник – лицо ее было бесстрастно – и так же молча подала на стол.
К концу чаепития пришел Федоров и Пашкин одногодок Латаный. Он служил в другой сотне и, как по хуторянам соскучится, наведывался к ним. Любил, бывало, Пашка подтрунить над ним. Но это было там, на хуторе. А теперь он относился к нему по-иному. Встречал его всегда радушно и дружелюбно. Иногда сам к нему захаживал. В военном обмундировании Латаный казался и ростом выше и более складным. Даже цветная сторона его лица как-то померкла и не стала так бросаться в глаза.
– Подсаживайся ближе, вот кружка, – предложил Пашка, когда Латаный поздоровался.
– Я не хочу. Только что…
– Сытого хорошо и угощать.
– Что новенького в вашей сотне? – спросил, вылезая из-за стола, Федор.
Латаный обвел казаков глазами. Взгляд его задержался на раздвоенной, с косым и глубоким шрамом щеке Жукова.
– Есть кое-что. Может быть, вы уж слыхали. Из нашего взвода вчера… Не слыхали? Тягу домой дали двое. Самовольно. Оба из Алексеевской, четвертой очереди.
Казаки вдруг вскинули головы, загремели кружками, ставя их на стол. О том, что кто-то там убегает с фронта, и в особенности солдаты, им слыхивать приходилось. И не однажды. Но чтобы убегали из их же полка, такие же, как и они сами, – это было в диковинку. Всех заметней оживился Жуков, самый старый из квартировавших здесь. Он тоже четвертой очереди и со дня на день ждал, что год его будут отпускать. Но ожидания его пока были тщетными. Разговоры о том, что престарелых казаков распустят по домам, дружно гуляли по полку. Откуда эти разговоры взялись – неизвестно.
– Как же они?.. Вот народ! И ты их знал? – Жуков забыл даже о недопитом молоке. Машинально подобрал крошки хлеба, рассыпанные по столу, кинул их в рот и подошел к Латаному.
– Вот так здорово! Спал рядом с ними – и не знал. Скажут, тоже…
– Ну, и как? Неужто они ничего вам не говорили? И вы не знали ничего? – любопытствовал Жуков. Он развернул кисет, подсел к полчанину и, угостив его табачком, подробно начал расспрашивать обо всем, что имело отношение к казакам, давшим «тягу домой». Днем ли, ночью ли они скрылись? взяли ли с собой чего-нибудь или нет? пешком или на конях?.. И по тону Жукова, по всему его облику, ясно было, что владело им что-то гораздо большее, чем простое любопытство.
Федор покрутился по комнате, послушал хуторянина и, гонимый нетерпением увидеть председателя, вышел.
На улице, против соседнего дома, о чем-то спорили два казака. Тот, что стоял передом к Федору, коренастый, с багровым лицом и усами щеткой, был вахмистр – его легко было узнать по широким, тусклого серебра галунам, поблескивавшим на погонах, рукавах и воротнике. Другого, стоявшего затылком к Федору, угадать было трудно. Погоны его без нашивок, – значит из рядовых. Насколько можно было понять по выкрикам, спор у них шел о наряде. Вахмистр, видно, куда-то назначал казака, а тот под всякими предлогами отказывался.
– Ты что мне!.. Что я тебе – кум, что ли? Стань «смирно!» Ты где это – в гостях у тещи?! Да я тебя!.. – кричал рассвирепевший вахмистр.
Казак лениво выгибал спину, водил по ней тыльной стороной ладони, и ветхая защитного цвета гимнастерка, в бурых от пота полосах, морщинилась на нем; другая рука была засунута в карман брюк, и тупой локоть вызывающе топорщился. Сквозь отпарывающуюся на локте заплату белела нижняя рубашка. Левая нога в грязном сапоге небрежно выставлена вперед.
– Ладно тебе, Фомин… орать-то. Разорался! – миролюбиво, с нотками досады, басил казак, продолжая чесать спину. – Вот про́клят!.. Лазает какая-то. И мыл вроде бы. А вишь ты… Живущи́е! – Вдруг он выпрямился, насторожился. Ветерок откуда-то принес едва слышную песню: «Ехали казаченьки со службицы домой…» По разнобою голосов чувствовалось, что поют ее захмелевшие люди. – Игра-ают! А? Видал! – преображаясь, воскликнул казак, и веснушчатое лицо его расплылось в улыбке.
Вахмистр, увидя Федора, нахмурился, нахлобучил на глаза козырек фуражки. А Федор, отвернув голову и будто не замечая, гордо прошел мимо. Со времени их схватки в Рени, когда Федор сгоряча тычком кувыркнул вахмистра, между ними началась открытая вражда. Полгодом раньше враждовать с вахмистром Федору было бы труднехонько. Тот скрутил бы его в два счета. Не то теперь, когда появились казачьи комитеты, и сам Федор, к негодованию вахмистра, попал в члены комитета, и даже полкового. Вахмистр пробовал, когда еще стояли в Рени, возбудить против Федора дело. Но из его попытки ничего не вышло: рапорт его начальство замяло.
На перекрестке Федор встретил гурьбу казаков. Заполонив пол-улицы, они шумно и беспорядочно брели в направлении дамбы, ведущей по болотистой низине к железнодорожной станции. В большинстве тут были пожилые, видалые и бывалые люди. За время стоянки они изменились, помолодели. Даже изношенное обмундирование на них выглядело свежее и чище. Наружностью, пожалуй, могли бы даже порадовать командиров, – впрочем, кроме как наружностью, вряд ли еще чем-нибудь они могли их порадовать. Впереди всех шел бравый, видно, отчаянный казак. Шел он легкой и размашистой походкой, из-под околыша его фуражки дыбился рыжий чуб. Казаки дружно переговаривались, кто о чем, и из общего их гомона выделялся чей-то тонкий высокий голос:
– …на станции видал надась! Целых полчаса стоял поезд. Зачем бы он стал говорить! Мы же не тянули его за язык. Вот так, говорит, мы лежали, русские, по перелеску, а подальше, саженях в ста, а может, и побольше немного, – их окопы. Когда, говорит, они взголчатся – нам слышно бывает. Только понять, конечно, ничего, мол, не можем: они по-своему, по-болгарски. Они в нас не стреляют, а мы – в них. Я, говорит, то бишь он, солдат, какой рассказывал, – я, говорит, как увижу, что начальства возле нас нет, поднимусь из окопа и начну шапкой махать, шумлю: «Эй, мил дружки, давай сюда, покалякаем!» Они тоже машут, смеются. А один раз вроде бы сползались вместе, табачком друг друга угощали. Болгарин одному нашему бритву подарил. А погутарить, конечно… кабы знали…
Федор некоторое время шел вслед за толпой.
– Вы куда это, станичники, направились? – спросил он у щупленького казачка, который тянулся позади всех.
Тот взглянул на Федора светлыми доверчивыми глазами, и где-то в глубине их загорелись веселые огоньки.
– На митинг, Парамонов. В пятую сотню. Пошли!
– На митинг?.. В пятую сотню?.. Да мне вот сюда… К Зубрилину надо. Потом!.. – смущаясь, глухо пробурчал Федор и свернул в переулок.
Он смутился по двум причинам. Люди целыми взводами вереницами шли на митинг, а он, член полкового комитета, ничего даже не слышал о нем. Кто, когда назначал, по какому поводу? И почему в пятой сотне? Вчера на заседании никто не сказал ему об этом. Вообще-то говоря, быть неосведомленным сейчас дело немудреное. Митинги последнее время возникали внезапно, стихийно, не только по почину комитетов. В особенности после того, как из корпусного комитета полкам было дано указание: провести дискуссию – нужна ли война? Расспрашивать казака Федор постеснялся. Он, этот казачок, которого Федор никогда, кажется, не видел, назвал его по фамилии. Значит, его, Федора, знают не только во второй сотне, где он служит, но и в других сотнях. Это ему было лестно, и это было второй причиной, что смутила его.
Зубрилина на квартире не оказалось. Больной – а моможет быть, с похмелья, – лежавший под навесом урядник сообщил, что рано утром, когда Зубрилин еще не поднимался с постели, к нему гуртом ввалились казаки, чего-то требовали, ругались и увели с собой. Федор догадывался, что это, видно, были казаки из той самой пятой сотни, куда люди шли на митинг, и, немного поговорив с урядником, от которого действительно попахивало спиртным, поспешил на окраину местечка, где размещалась пятая сотня.
Самая последняя узкая улица, откуда через изгородь виднелась болотистая, поросшая мхами и тростником равнина, а за ней верстах в двух – станция Арцис, была запружена людьми. Толпа одноцветных – в зеленом – людей, вооруженных шашками, колыхалась, бурлила, и прибой ее устремлялся к невысокому каменному забору. Оттуда, с какого-то ящика отрывисто и зычно кричал, размахивая руками, казак. Над синим морем фуражек высилась его крупная фигура, и подходившему Федору было отчетливо видно, как он, слегка наклоняясь, ладонью то и дело рубил воздух. По отдельным словам и отрывкам фраз Федор понял, что казак отвечал каким-то выступавшим до него ораторам. Митинг, выходит, начался уже давно. А люди группами и в одиночку все еще подтягивались со всех сторон. Федору бросилось в глаза несколько знакомых. Были здесь казаки различных сотен.
– Нас никто не спрашивал… Хватит!.. Кому мы обещали воевать?.. Три года скоро… Зачем она нужна в таком разе, свобода!.. – улавливал Федор отрывки фраз.
А из толпы – разноголосо:
– Тянут, как нищего!
– Все никак не расцелуемся!
– Сев закончили, а мы…
– Когда рак свистнет, тогда, значится, конец будет.
Обходя крайнюю группу казаков, Федор обратил внимание на то, что казаки эти смотрели, и очень жадно, не на оратора, как все, а куда-то в противоположную сторону. Лица у них были вытянутые, напряженные; у одного даже рот полураскрылся. Федор обернулся, ища глазами то, что могло их так увлечь. Вдали по линии горизонта, которую очерчивала насыпь железной дороги, идущей из России, двигался поезд. Отсюда он казался игрушечно маленьким, как снизка коробок. Поезд то исчезал из поля зрения, опускаясь ниже черты земли, то вырисовывался опять на фоне безоблачного неба. Можно даже различить было, что состав вели два паровоза. Над передним взлетали клубки сизого дыма и таяли, не успев доплыть до средины состава. Казаки, наблюдая за поездом, переговаривались:
– Гля-ка, прет, а!
– Теперь бы… Э-эх! повернуть его да назад – крути, Гаврила!
– Может, Лизавета моя мчится… – мечтательно размышлял кто-то вслух. – Все жданки поел, а ее, проклятой, все нет. Наказывал приехать – как прибыли сюда. Приедет – я ей, анчутке, расчешу косы, будет другой раз…
– А чего она тут не видала? Ну и чудишь! Небось похлеще тебя сыскался!..
Федор, отжимая людей и улыбаясь, протискивался к забору. Подле ящика, с которого выступали ораторы, он заметил рыжеусое широкое лицо Зубрилина, председателя комитета. Чтобы подойти к нему, Федор взял чуть правее, где толпа была реже. Вокруг статного щеголеватого сотника, поблескивавшего погонами, – узкое кольцо казаков, стоявших плечо о плечо; почти у всех у них – урядницкие нашивки. Сотник, обводя казаков острым взглядом, сдержанно говорил:
– Казак – слуга царю, поймите это. Века так было. За это казаков и наделили угодьями, паями земли. А царя нет – на что нужен его слуга, скажите, пожалуйста? Не нужен он совсем. Слуга – при господине. Понятно? Почему же в таком случае казак должен иметь привилегию по сравнению с мужиком? Почему он должен иметь паи, угодья? Вы задумывались?
Федор, озлобляясь, походя задел плечом казаков – он сделал это так, будто его самого толкнули, – и кольцо вокруг сотника разомкнулось.
– Черти тебя несут! – пятясь, ругнулся бородатый и смуглый, что цыган, урядник. – Ослеп, что ли!
– Нежный какой! Иди вон на край, там никто к тебе не прикоснется. – Федор повернулся к сотнику, оглядел его вылощенную до блеска фигуру и насмешливо сказал – Вы тут, господин офицер, насчет угодий толковали. А вы нам не скажете, не признаетесь, сколько этих самых угодий у вашего батюшки? Не сотня ли десятин? Или тыщи?
У сотника задергалось левое нижнее веко и ресницы нервно замигали.
– Ты что?! С кем разговариваешь? Как твоя фамилия?
– Моя фамилия Парамонов, – ровным ледяным голосом ответил Федор. – Но это не важно. Вы тут насчет казачьей земли, о паях говорили. И я хочу сказать. Мы вот с братом служим… служили царю… вдвоем, а землица наша какая ни на есть – у чужого дяди… Он ею владеет. Это как?
Казаки, окружавшие сотника, зашептались. Тот бородатый урядник, что обругал Федора, окинул его сердитыми, вкривь поставленными глазами; его сосед, с тонким моложавым личиком, нагнулся, пряча от сотника улыбку. Федор широко качнулся и врезался в толпу. В это время на «трибуну» вскочил взволнованный, без фуражки офицер с погонами войскового старшины. Чисто выбритые щеки его были испятнаны багряными полосами; кончик носа, простреленный пулей, чуть опущен вниз, но это не портило его мужественного и красивого лица. Федор узнал в нем командира пятой сотни, прославленного рубаку и храбреца.
– Казаки! Донцы! Вы ли это? – театрально взмахивая руками, воодушевленно заговорил он. – Гордость земли русской! Горько и обидно смотреть на вас, еще горше и обидней слушать! Знали бы деды наши и прадеды, чьими руками ширились границы империи, – сподвижники Ермака, Платова, Скобелева, – знали бы они, до чего дошли их потомки! Бросить фронт, когда над страной развевается знамя свободы и вот-вот соберется народное Учредительное собрание, – это ли не позор? Не величайший ли позор отказаться от священной присяги, от договоров с союзниками – Францией, Англией! Что может быть еще…
Федор наконец протолкнулся к Зубрилину, пожал ему руку.
– Ты чего ж про митинг ничего мне не сказал? – спросил он, наклоняясь к его волосатому с хрящеватой мочкой уху.
Тот улыбнулся ребячьей простодушной и смущенной улыбкой, и от глаз его пучками поползли морщинки.
– Да ведь эта… позавчера же только проводили… полковой. А утром пришли ко мне человек десять – я спал еще, – давай, говорят, раскачивайся, мы уж споры открыли. Лето, мол, на носу, и нечего нам тут околачиваться. – Не гася улыбки, Зубрилин взглянул на сутулого с угловатым подбородком казака, который готовился отвечать войсковому старшине и нетерпеливо топтался за его спиной, и добавил: – А делишки твои утряслись, все теперь… Зайди в штаб, оформи документы и двадцать пятого числа можешь…
Федор внезапно почувствовал, как на шее и в висках усиленно заколотился пульс, и наклонил голову.
А с «трибуны» в толпу летели уже не напыщенные слова войскового старшины, а корявые, простые, начиненные долгосдерживаемой злобой. Сутуловатый худой казак с побледневшим лицом кричал неровно, задыхаясь:
– Братцы! Станичники! Что ж это такое? Как оно происходит? Нам все про свободу толкуют, а с чем ее едят? Царь нам кровя выпускал и теперь тоже… Раз свобода, революцию сделали – никаких насилиев не должно быть. Пущай опросят народ и нас, фронтовиков, опросят: желаем ли мы эту войну? Кто ее желает! Вот она где, война эта, сидит! – Казак взмахнул рукой и ожесточенно хлопнул ладонью по своей худой, в узлах вздувшихся жил шее. – Кто подписывал договора с иноземными державами? Господин войсковой старшина тут говорил, что, мол, договора… А мы их не подписывали… эти бумаги, и никаких посулов не давали. Не сулились завоевывать всякие там Дарданеллы. Нам своих морей хватает. Пущай тот и воюет…
Толпа взволнованно гудела, рокотала; речь оратора становилась все острее и резче и тонула в одобрительных восклицаниях.
…На квартиру Федор возвращался в сумерках. Он шел по безлюдным незнакомым переулкам – ему хотелось побыть одному. После митинга он успел зайти в штаб, и теперь в кармане его гимнастерки, где хранилось Надино истертое письмо, лежала отпускная бумага. Торопиться ему решительно было некуда, но его сильные, упругие, в пыльных сапогах ноги сами по себе отмеряли полусажени по утрамбованным дорожкам. Он был уже там, в родном хуторе. Перед его мысленным взором стоял образ любимой, и так живо, что ему казалось, он ощущает неровное дыхание Нади, дурманные запахи ромашки и репейника, – прощальный вечер, когда они, обнявшись, сидели в канаве, всегда вспоминался ему прежде всего. Он старался представить себе, что она делает в эти радостные для него минуты; у отца ли она теперь или по-прежнему у Абанкиных; вещует ли ей сердечко, что через какую-нибудь педелю они будут вместе… Когда же память подсовывала ему ненавистные лица – Трофима, Андрея Ивановича, старика Абанкина, – он горбился, стискивал зубы, и походка его тяжелела, будто на плечи наваливалась непосильная кладь.
В душном воздухе сплетались разнородные вечерние звуки: резкий отрывистый говор казаков и плавный – местных жителей; дружный веселый смех, девичий визг, ругань; крики болотных птиц, ржание коней и далекие песни… Дневной зной спадал, и с болота вместе с запахами мочажины шла прохлада. Сумерки медленно, но заметно сгущались. Окраска безоблачного неба и черепичных плит на крышах становилась мягче, тускнела и уже не резала глаза. Где-то в конце улицы мастерски играли на гармони. Нежные переливы, трепеща, бежали по улицам, причудливо прорывались сквозь разнородные звуки, грустно угасали, захлестнутые людским гомоном, но тут же вспыхивали с еще большей силой, и на Федора повеяло чем-то родным и далеким.
Подходя к квартире, он увидел у ворот Пашку, стоявшего рядом с какой-то рослой и, кажется, молодой женщиной в черном платке. Они стояли лицом друг к другу, очень близко и о чем-то оживленно разговаривали. Своего друга Федор угадал не столько по наружности, сколько по его частым и громким выкрикам «ей-бо», звучавшим то восторженными восклицаниями, то вопросами. Всматриваясь в женщину, Федор все шире раскрывал глаза. Ее тонкая, стройная фигура, склад одежды, манера разговаривать, пошевеливая пальцами левой опущенной руки, и что-то еще, что даже трудно передать словами, показались ему до боли знакомыми. Он сделал еще несколько убыстренных шагов, стуча по суглинистой тропке сапогами, и вдруг к голове его прихлынула кровь; ноги, руки его – все в нем онемело: он узнал ее…
Пашка, услыша топот, обернулся. Сияющий, радостный, блестя улыбкой, он суетливо и бестолково замахал руками, закричал что-то Федору. Но тот уже ничего не слышал, не понимал и ничего, кроме больших, светящихся на милом, так исхудавшем лице глаз, не видел: он задыхался, спешил, с силой передвигал непослушные тяжелые ноги и никак не мог сдвинуть их с места. А в нескольких саженях от него, ухватившись за плечо брата, обессиленно покачиваясь, стояла побледневшая, растерянная Надя…









