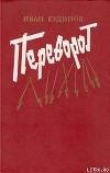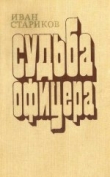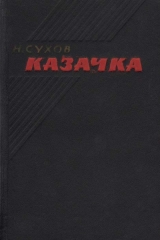
Текст книги "Казачка"
Автор книги: Николай Сухов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 41 страниц)
V
Нет, что бы там ни случилось – революция ли или второе пришествие, а уж домой в таком виде заявиться Пашка Морозов никак не рассчитывал. И в дурном сне ему не снилось, чтобы со службы он мог вернуться в таком задрипанном обмундировании. Разве ж это шинель – что болталась на нем? Половая тряпка. Хуже! Людям стыдно показаться! Да к тому же и пришел-то еще воровским манером, крадучись.
Это вместо того праздничного, можно сказать, торжественного въезда в родной хутор, как бывало, возвращались казаки с действительной службы, целым взводом, на конях, строем, неся впереди какую-нибудь обновку для церкви, чаще всего купленную вскладчину дорогую икону. Служивые еще в нескольких верстах от хутора, а уж дома переполох: под ликующий колокольный трезвон навстречу валом валили разодетые хуторяне.
Нет, совсем другое чудилось Пашке, и близко так, заманчиво, когда он, отбывая часы, стоял у подъезда Донского областного правления. Георгиевский кавалер и бойкий урядник, он молодецки вытягивался, поводил озорными глазами, встречая и провожая всяких начальников – и штатских и военных, таких, о которых в газетах даже писали. Другое мерещилось ему и на досуге, в вечерней тиши уютной новочеркасской казармы, где коротали ночи такие же, как и он, на подбор, донцы.
На плечах у Пашки не только не было офицерских сияющего серебра погон, о которых он тщеславно мечтал, – не было даже и тех суконных, казачьих, с узкими урядницкими лычками, что он до этого носил. Все содрал с себя: и погоны и георгиевские кресты. Так легче ему было отбрехиваться, когда он ненароком натыкался в пути то на отряд какой-нибудь, то на заставу. А разных застав и отрядов – и кадетских и красногвардейских – он встретил немало, тайком удирая – где пехтурой, где прицепившись к поезду – из взбаламученной донской столицы. Всяко случалось: и больным прикидывался, и малость глуповатым, благо был горазд на такие штуки, и все обходилось благополучно. Впрочем, к таким, как Пашка, не особенно уж и придирались: оружие сдай – и, пожалуйста, на все четыре.
В одном лишь месте ему пришлось было тошнехонько. И, главное, невесть за что. Это на станции Ельшанка, в Царицынском пригороде, куда он ненастной, изморосной ночью попал на буфере пассажирского вагона. Состав здесь задержали, и Пашка, коченея от холода, с нетерпением глядел, как подле вагонов, размахивая фонарями и барабаня в запертые двери, ходили вооруженные люди, что-то кричали, требовали, упоминая какой-то «штаб обороны».
Вдруг крики будто отрубило, фонари исчезли, и на платформе раздался нестройный ружейный залп, защелкали одиночные выстрелы. А из-за угла вокзала красного кирпича гулко затявкал пулемет. Пассажиры, теснившиеся на буфере, всполошились, начали спрыгивать. Пашка, оставшись последним, тоже занес через барьер ногу. Но чья-то рука поймала его за мокрую полу шинели и крепко потянула назад.
– Куда, стерва! Ну-к, давай сюда! – И для большей убедительности к этим словам присовокупилась еще трехэтажная ругань.
Тут же по лицу Пашки, ослепляя его, скользнул резкий луч фонаря, и второй солдат, в каком-то диком малахае, державший в одной руке фонарик, а в другой – с примкнутым штыком винтовку наперевес, уверенно сказал крутым басом:
– Тяни, тяни его, нечего! Он самый и есть…
– Вы обознались, станичники! Брось, а то пинком по сусалу! Кто это «он самый»? Я совсем не «он», ей-бо! – возмутился Пашка. Однако шинель его уже начала трещать, и он, скользя по обледенелому железу, нехотя сполз с буфера.
– Ишь, стерва, разговаривашь! Станичников вспомнил. Кокну вот! Иди, иди! – и конец штыка уперся в Пашкину спину.
Его повели куда-то в промозглую тьму, вдоль поезда, подле которого снова мелькали фонари и суетились люди. Из вагонов, уже с открытыми дверями, охапками вытаскивали винтовки, шашки. В тамбуре пульмановского вагона возились со станковым пулеметом, подкатывали его, сгружая, к ступенькам. Здесь, у пульмана, люди топтались кучей, и Пашка смекнул: как только приблизился к этой куче, опрометью прыгнул в нее, столкнув хилого старичка железнодорожника, и – под вагон.
Запасные пути были сплошь забиты товарными составами. Убегая, подныривая зигзагами под цистерны и площадки, Пашка слышал крики, выстрелы. Но уже далеко позади. Он миновал захламленную пустошь, вскочил в какой-то мрачный, с бесконечным накренившимся забором переулок и здесь почувствовал себя в безопасности. Присел на кирпич и перевел дыхание. «Ах, проклятые! И что за ухари такие – тутошние, что ли, или с поезда? Скорее всего, с поезда. Кого они искали? Тьфу!»
Занималась заря. В предрассветном сумраке Пашка осмотрелся, попробовал соскрести щепкой с шинели и брюк маслянистую, впитавшуюся грязь, околесил злополучный вокзал и пошел в город. Слышал, как паровоз дал гудок, медленно застучали вагоны, и, догадываясь, что это отправлялся тот самый состав, с которым он сюда прибыл, бежать к нему все же не рискнул. Полсутками позже прилепился к другому, товарному, на городской станции Царицын I.
Как бы ни было, а к отцовскому берегу Пашка причалил. Но надежды его на офицерство в пути растряслись. Обиднее всего то, что это было не какое-нибудь пустое, зряшное самообольщение или выдумка завистливого ума: к званию подхорунжего он был уже представлен – за умелую, усердную службу и за прежние, конечно, заслуги. Считанные дни – и он был бы хоть и не офицер, но уже и не рядовой казак; погон хоть и без звездочек, но все же белый. Во всяком случае, то, к чему его так тянуло и что сулило ему близкую привольную будущность, маячило впереди уже довольно явственно.
Но тут-то и началось все это…
В конце января Пашка был назначен в ночной гарнизонный наряд. До этого казаки, числившиеся за комендатурой областного правления, в гарнизонный наряд не ходили. Это было впервые, и Пашка, вяло собираясь, поругивался. Он не знал, чем это было вызвано. А причины были очень простые: атаманская власть, которой Пашка служил верой и правдой, настолько уже ослабла и потеряла влияние, что охочих поддерживать ее оставалось слишком мало. Войсковое имущество – и то уже по-настоящему охранять было некому. Последние незначительные войсковые группы были брошены, и совершенно безнадежно, на задержку приближавшихся к Новочеркасску красных частей.
Из наряда Пашка вернулся в казарму поутру. Ночью спать ему, понятно, не пришлось – был начальником караула у вещевого и оружейного складов, кстати сказать, почти пустых – и, как только позавтракал, тут же завалился на койку заодно с другими, бывшими в наряде. Через какое-то время крик дежурного встряхнул его и поставил на ноги.
– Тревога! В ружье! В ружье!.. Живо! – орал дежурный, мечась как оглашенный между коек.
Казаки одурело повскакали, хмурые, непроспавшиеся. В суматохе сталкивались, сопели и, дружно, быстро, как слаженные механизмы, одеваясь, хватали оружие.
– Пулеметы брать аль нет?
– Да перестань рявкать!
– Каледина застрелили!
– Вылетай строиться!
– Кто шапку мою надел?
– Где застрелили?
Вскоре выяснилось, что атамана Каледина не застрелили, а он сам в себя пустил из револьвера пулю. Перед тем будто у областного начальства было заседание, и они, эти большие начальники, здорово между собой повздорили. Все якобы стали нападать на Каледина – и Богаевский, и Карев, и другие, – обвиняя его в том, что казаки отвернулись от войскового правительства именно через него: он-де пообещал дать иногородним землю. И потому, мол, так получилось: красные прут на область, а защищать ее ни казаки, ни иногородние не хотят: казаки обиделись, что их, дедовскую, землю собрались транжирить; иногородние же – на то, что земли им еще не дали. А добровольческую армию, что кое-как еще копошилась, Корнилов уводил на Кубань: ее, эту армию, советские войска взяли со всех сторон так, что ей уже пищать было впору. Каледин будто разгневался при этих нападках, вылез из-за стола и, сказав сердито: «Ну, и шут с вами! Как хотите, так и расхлебывайтесь!» – ушел домой и израсходовал на себя патрон.
Повздорили областные начальники или не повздорили – никто из них об этом Пашке не докладывал, а молва такая в казарме была. А главное, по поговорке, – как бы ни болел, а околел. Каледина-то уже отпоминали! И это Пашку огорошило. А то, что стряслось еще через какую-нибудь неделю-полторы, и вовсе сбило его с толку.
После смерти Каледина малый круг – так назывался неполный съезд казачьих делегатов – вручил атаманский пернач генералу Назарову. Но не успел этот генерал освоиться в новой должности – перед тем он был походным атаманом, – как в Новочеркасск с кучей всадников ворвался какой-то Голубов, вроде бы из казачьих офицеров, разогнал круг, который как раз в это время заседал, схватил Назарова и начал учинять расправу. Сперва за городом прихлопнул самого Назарова, потом – тех, кто был к атаману поближе, и еще, пожалуй, не одну сотню офицеров, в том числе и всех Пашкиных начальников и благодетелей.
И понял Пашка: эдак чего доброго и до таких, как он, дойдет черед, и его, подвернись он под веселую руку, выведут за город… Да и что за корысть служить теперь атаманам, ежели на них пошел такой мор! Грудь в крестах то ли будет, то ли нет, а что голова попадет в кусты – это вернее. Плюнул на все Пашка и дал тягача.
Думал дорогой: хватит, хорошенького понемногу! Послужил – и довольно. Не его вина, что служба оказалась короткой. От нее он не отвиливал. Кому только служить теперь? Ничего ему в конце концов не надо: ни чинов, ни наград. Вот мясоедом женится – и подальше от всего этого. Отец будет в хате, а он с молодой женой в горнице. Заживет, как говорится, припеваючи. Не тронь его – и он никого не тронет.
А пришел домой, глянул на свою запакощенную горницу, где собирался справлять свадьбу – в этой комнате он как раз застал отца: тот выбрасывал из нее в разбитое окно снег, – и заорал на бедного старика, едва лишь поздоровавшись с ним, не дав ему и нажалобиться вволю:
– Примолвил их тут!.. К черту! На гривну доходу, на целковый убытку. Я вот их отважу, вмах! Клюшкой, если кто-нибудь еще припрется сюда! Не посмотрю, кто там: атаман иль ревком. Всех по шеям!
Вот так-то он, новый служивый, уже будучи осведомлен отцом о хуторских делах, и принял председателя ревкома, первого поспешившего к нему гостя. Вполне понятно, что разговор их к обоюдному неудовольствию был совсем не таким, на какой рассчитывал Федюнин.
Они распрощались очень скоро, причем Федюнин, уходя, сухо пообещал хозяевам «образить горницу», как он выразился, на хуторской счет.
– Что-то, милушка, помнится мне, хуторским счетом будто не ты распоряжаешься, – ядовито заметил Андрей Иванович.
– Ничего, распорядимся и мы, – сдержанно ответил Федюнин.
Когда он, тяжело хромая, шел никем не провожаемый по двору, деревяшка его скрипела как-то по-особому – зло рычала, а не скрипела, и, может быть, поэтому на него и набросился обычно добродушный кобель. Отмахиваясь от него палкой, Федюнин столкнулся за калиткой с Федором и Надей.
Кобель, увидя новых людей, взял было сиповатым баритоном еще выше. Но вдруг оборвал и с извиняющимся скулежом, поджимая облезлый хвост, подскочил к Наде. Прыгая, увиваясь, начал к ней ласкаться.
– Трезор! Милый Трезорик, узнал меня! – сказала Надя и, потрепав его за длинные вислые уши, отвернулась: рассерженный вид Федюнина внушал ей нехорошие мысли, и ей было не до нежностей.
Ошибся! Ничего не попишешь! Вот оно как бывает: не узнаешь, где споткнешься, – с горечью сказал Федюнин, обращаясь к Федору и старательно избегая Надиного нетерпеливого взгляда. – Урядничек не очень-то нас привечает. В батю, извините, видно, пошел.
– Ну?! – резко и неопределенно вырвалось у Федора: то ли он спрашивал, то ли отрицал, то ли угрожал. – Может, ты, Семен Яковлевич, что-нибудь не так понял? Может, он через горницу это?
– Нет уж, Федор Матвеевич, все понятно. Чего там!.. Сам увидишь, идите, – и, резче обычного припадая на вербовку, направился по стежке в улицу.
У Федора на виске, над широкой, почти прямой бровью, у самого края папахи запрыгала синяя жилка. А у Нади так и застыл в глазах тревожный недоуменный вопрос.
Встретились они, неразлучные в недавнем друзья, как нельзя лучше. Пашка, посолидневший, но все такой же порывистый в движениях, вскочил с кровати, на которой он, одетым, примащивался отдохнуть, закричал с радостной улыбкой: «Вот они, герои!» – и бросился обнимать их. Сперва по-служивски, то есть троекратно, в обе щеки расцеловал Федора, сказав ему дружески-насмешливо и с каким-то скрытым намеком: «Ух, брат, ну и ощетинился ты – не подступись!» – (тот несколько дней перед тем не брился); затем расцеловал сестру, назвав ее «бабьим смутьяном».
Девочка-подросток, Игната Морозова дочка, что хозяйствовала у Андрея Ивановича, у родного дяди, как он стал бобылем, загремела самоваром, надоумленная Пашкой. Самого Андрея Ивановича, хмуро поглядывавшего на беспутную дочь и самочинного зятя, Пашка послал за водкой: «Нырни и достань!»
О многом он, пока старик ходил, успел порассказать друзьям, многое успел вышутить. Изобразил он в смешном виде и свои дорожные приключения, и как он был тыловой крысой; сообщил и о последних событиях в Новочеркасске, даже о том, как он сопровождал от железнодорожной станции и до областного правления делегацию Донского военно-революционного комитета, охраняя ее от взбесившейся, грозившей расправой белогвардейской толпы (делегация эта во главе с Подтелковым приезжала к Каледину для переговоров).
Все это Пашка представил подробно и даже в лицах, а вот как на все это смотрит он сам, что ему по шерсти и что против шерсти, – об этом ни слова. А когда Федор попробовал спросить у него прямо, какому все же богу он молится, Пашка отделался шуткой:
– Только вот этому, нарисованному, – и, скаля мелкие плотные зубы, указал рукой на икону в углу, – а живые боги – кто их разберет! Один белый, другой красный, третий сер-бур-малиновый… А мне не хочется ни белеть, ни каснеть, ей-бо! Хочу быть – каким я есть: бледным и чуть-чуть с румянцем.
Федор пристально взглянул в его плутовато ухмылявшееся лицо: оно было таким же, каким знал его Федор, но вроде и не совсем таким – огрубевшим, с кровяными прожилками в светлых озорных глазах.
– Ты, Павел, брось это! – строго сказал он, слегка отодвигаясь от него, как бы затем, чтобы лучше рассмотреть его на расстоянии. – Смешки смешками, а дело делом. Ты скажи нам вот что… и, пожалуйста, без завитушек…
Тут щелкнула дверь, вошел все с тем же обиженно-покорным лицом Андрей Иванович, и Пашка, взглянув на раздутые карманы его пиджака, засуетился, начал расставлять табуретки и пригласил гостей за стол.
Старик поставил на подоконник бутылки, заткнутые тряпичными пробками, разделся и, подойдя к шумевшему на столе самовару, стал в струйках пара греть свои синие, в застаревших цыпках руки. Он упорно безмолвствовал все время, не выказывая ни гнева, ни радости. Его язык не развязался и после того, как он опрокинул, и даже не однажды, пузатую рюмку. При этом он поневоле чокался со всеми и под нос бурчал:
– За все хорошее!
Надя чувствовала себя страшно неловко, угнетенно. Все здесь в этой ветхой хате, каждая трещина в полу и каждая царапина на оконном трухлявом косяке будили в ней смутные воспоминания; все ей здесь было близким, родным, а в то же время хотелось отсюда поскорее выбраться. Сидя у самого края стола, она почти не вникала в разговоры – говорил, конечно, все больше Пашка, – а занималась девочкой, двоюродной сестренкой Катей, расторопной и смышленой не по летам.
Федор видел это и прекрасно понимал Надю. Ему и самому-то общество тестя, а тем более надутого, было в великую тягость. При первом же подходящем случае, не допив даже водку, он отблагодарил хозяев, пригласил служивого наведываться к ним и ушел вместе с Надей.
До самого дома они, Федор и Надя, шагая по зачерневшейся, в проталинах дороге, угрюмо молчали. Надя, поспешая за Федором, обходя лужи, украдкой вздыхала. А тот, насупившись, распахнув шинель, ступал куда попало, брызгал во все стороны водой и мокрым снегом и ничего вокруг себя не замечал: ни долговязых драчливых, копавшихся в золе грачей – предвестников весны, только что появившихся в хуторе, ни светлого оранжевого, по-особенному мягкого вечера, ни того, как в иных раскрашенных низким солнцем окнах, мимо которых они шли, липли к рамам и выставлялись напоказ любопытные лица.
У ворот Федор отпихнул сапогом подскочившего к нему щенка Тузика, Мишкиного любимчика, пропустил, посторонившись, Надю и, прикрывая за собой калитку, раздумчиво-протяжно сказал с шумным выдыхом:
– Да-а-а!
VI
После мордобоя на хуторском кругу атаман стал вести себя так, словно бы ревкома и вовсе не существовало. Ругань между ним и председателем ревкома прекратилась. Они просто перестали теперь видеться. Въезжую квартиру в доме у Морозовых хозяева заперли на замок, и атаман свое присутствие перенес пока в маленькую, с одним оконцем комнатку, где раньше помещался шинок, – неподалеку от церкви, на плацу.
Пуще прежнего атаман принялся за мирские дела: выменял с додачей на хуторского бодливого бугая – нового, смирного; привез из Елани досок для перехода через речку. Все это на общественные деньги, конечно, которые хранились у него: он был одновременно и атаманом и казначеем. А когда стало подходить время вешних посевных работ, послал в поле разведентов, обмерщиков: учесть годную землю, предназначенную под весновспашку, и подготовиться к ее дележу.
Парамоновы в этот день провожали Алексея в дорогу. Матвей Семенович поил перед запряжкой из колодца коней и видел, как по соседскому проулку, направляясь на бугор, в поле, прошагали двое: писарь, с вечно дымящейся цигаркой во рту, и трехпалый Фирсов. На плече у писаря лежала крашеная сажень. «Мерить уже пошли. Как же делить-то будут? – подумал Матвей Семенович. – Неужто по-старому, на паи? Неужто опять драка будет? Или, может, атаман сдал-таки?»
Отправлялся в этот день Алексей в Филоново на ярмарку. Вел туда корову, чтоб ее, уже беззубую, продать мяснику, а купить помоложе: одной первотелки, что еще была у Парамоновых, на их увеличившуюся теперь семью было маловато. Матвей Семенович намеревался сам съездить, но за неделю до этого продрог, возясь на дворе с недоделанной арбой, и слег в постель. Все же он перемогся и встал, когда Алексей вместе со своим шурьяком Артемом Коваленко собрался уезжать.
Версты четыре старик, помахивая хворостиной, шел за подводой, позади коровы, и на глаза его не раз навертывались слезы: он прощался с этой дряхлой, много лет кормившей их доенкой, как с членом семьи. У прудовой балки, где дорога поднималась на взгорье, он последний раз ласково погладил корову, крикнул Алексею: «Ну, час добрый! С богом!»– и повернул назад.
Тут он сквозь песенное неистовство жаворонков услышал церковный колокол. Первые ломкие и хрипловатые звуки были еще слабы. И редкие. Затем они окрепли и стали чередоваться чаще: не успевал, порезвясь над полем, улечься один звук, наплывал другой… День был воскресный – это звонили к заутрене. Матвей Семенович снял шапку, повернулся лицом на восток и перекрестился.
Вокруг него лежало голое неоглядное поле. Оно только начинало подсыхать. В прудовой балке местами еще виднелся снег. Лучи встававшего солнца, видного пока лишь наполовину из-за края земли, не задевали снега, и он поблескивал меркло. По пути старик заглянул на свой озимый посев в полуверсте от летника, порадовался дружным ржаным зеленям и, возвращаясь домой уже по меже, натолкнулся на обмерщиков.
Писарь, шагая по той же меже, проворно размахивал саженью, время от времени останавливался и, вытаскивая карандаш из-под гнедого, прикрывавшего ухо загривка, что-то отмечал в тетради. Фирсов, видно, нужен был для другого: он, как опытный хозяин, мог вернее определить и выделить «неудобы».
Грозя задеть Матвея Семеновича саженью, писарь пер прямо на него. Сажень бешено описывала в воздухе невидимые полукружия, гремела и дребезжала. Старик посторонился, уступил дорогу. Писарю, должно быть, очень некогда было: громко бурча, считая вслух и щурясь от попадавшего в глаза дыма, он сломя голову пронесся мимо и лишь покосился на старика.
– Что-то уж он больно того… скипидаром его, что ли, помазали?.. – кивнув на писаря, сказал Матвей Семенович Фирсову и подержал в своей руке его корявую, что древесный сук, культяпку.
– Звестное дело: сумасброд. Отродясь такой, – пробубнил Фирсов и, глядя на писаря через голову Матвея Семеновича, сощурился в усмешке: – Должно, ум за разум зашел, обратно бежит.
Писарь действительно сбился со счета и, чертыхаясь, болтая полами куценького пиджака, мчался назад, к лощинке, откуда начал последний обмер. Поравнялся со стариками и, кинув сажень, присел на сухом, еще не ожившем муравейнике.
– Вот идолова музыка, ведь зарапортовался! – с сожалением сказал он, вытаскивая из кармана кисет. – Откуда тебя вынесло, Матвей Семенович? Через тебя это я…
– Ах, звиняйте нашу темноту! – обиженно ответил старик. – Я, конечно, не знал, а то бы дал круголя, пожалуйста, лишь бы вас не обеспокоить. Уж звиняйте, пожалуйста.
Неловко помолчали. Из хутора донеслись всполошенные звуки большого колокола, и Фирсов, прислушиваясь, заметил:
– Похоже, дед Кучум опять вздремнул на колокольне. Жду – к обедне будет звонить, а он к утрене все никак не закончит.
– Вам же лучше, о чем жалеешь! – все еще сердясь на писаря, недружелюбно сказал Матвей Семенович. – К обеду как раз и домой поспеете, под горячие щи. Вы как же думаете делить? Атаман, что ли, послал?
– А ты не знаешь, как делят, тебе впервой? – вмешался в разговор писарь, привстав и отряхивая от прилипшего мусора лоснившиеся сзади штаны.
– Да не в том дело, что не знаю! Слухом пользовался, по-новому теперь будем делить, на души.
Фирсов, сразу посуровев, глянул на Матвея Семеновича бирюком, а писарь тряхнул головой и нелепо замахал руками:
– «Слухом пользовался!» Эх, ты!.. Сказал бы тебе, да обидишься. Сам-то чем думаешь? Шибко грамотные у тебя сыны, вот что! Может, и на хохлачьи души делить будем? Как же, разевай рот шире!
– А ты не ори! Глотка-то небось не луженая? Мне прибыль от того невелика. Мне и паевой земли хватает – больше еще чем на души припадет.
– Ну и нечего о чужом здоровье!.. – примирительно сказал писарь, – Тоже мне… в политику лезут. А что, спрашивается, смыслят? Х-ха! – он скорчил презрительную рожу, поднял сажень и, шаркая стоптанными чириками, сверкая пятками сквозь дырявые шерстяные чулки, направился к лощинке. – Вот идолова работа, как же это я…
«Паршивка! – ругнул его про себя Матвей Семенович, – Все жмешься к богатеньким, прислуживаешься! А был ты голь перекатная, вроде нас грешных, таким и останешься!»
А в это время в бывшем шинке, где прижилось хуторское правление, тоже велись толки о дележе, если можно назвать «толками» то, что происходило между председателем хуторского ревкома и атаманом.
Их надсадные лающие голоса Федор Парамонов услышал на улице, случайно проходя мимо правления в лавку, которая, по заведенному обычаю, в праздники все еще открывалась спозаранку, хотя, кроме леденцов да изредка махорки «левковича», в ней почти ничего не было. Спорившие, кажется, были уже на том градусе воодушевления, когда слова, даже самые тяжелые, употребляемые только в крайности, перестают действовать и в ход пускаются кулаки.
«Опять! – с неприязнью подумал Федор о Федюнине. – Опять шумит. Тем только и занимается. Шумом города берут – так, видать, считает. Чудак! А ведь говорили ему, внушали. – И озлобился. – Пускай! Авось еще намнут ему бока, будет тогда…» Он хотел было пройти мимо, помня строгий наказ хозяек-стряпух вернуться поскорее. Но передумал и решил все же на минуту завернуть на крик – узнать, что случилось.
Открыл дверь, на которой когда-то висел колокольчик, и невольно остановился у порога: на улице было солнечно, а здесь, в узкой длинноватой комнате, полутемно и вроде бы воняло каким-то зельем. А может, Федору только показалось так. Он всмотрелся и в просвете маленького окна смутно различил людей. Крики их притихли.
За треногим столом, давя его локтями, сидел ражий бородач в мундире и во всех регалиях – медали, урядницкие лычки. Подле него, отсвечивая посеребренным набалдашником, торчала прислоненная к подоконнику насека.
По одну сторону от атамана, слегка согнувшись, как перед драгой, стоял Федюнин; по другую, с шашкой на боку, – немолодой сухопарый казачина, подпиравший головою потолок. Федор узнал в нем полицейского.
– Поп свое, а черт свое! – входя в комнату, насмешливо сказал Федор. – Из церкви на улицу: «Святый боже, святый крепкий», а из правления: «Так-перетак-распротак».
Полицейский загоготал, раскачиваясь всей здоровенной фигурой; а Федюнин ткнул кулаком в сторону атамана и угрюмо заговорил:
– С таким народом не токмо что… Думает, он – царь и бог, что нога его левая хочет… Думает, и слома ему не будет. Гнет свое дуриком, и все. Землю, видишь ли, собрался делить. На паи опять. Разведентов уже послал.
– А ты что же? – не меняя тона, сказал Федор. – Уговариваешь его, как девку? Так, что ли? Ну, так я тебе не пособник в этом деле! – и летучий взгляд его, брошенный на атамана, сверкнул бешенством.
Атаман недовольно повозился за столом, постучал сапогами.
– Позвольте спросить вас, служивый, – с напускной учтивостью, за которой скрывалась насмешка, обратился он к Федору, – вы-то, стало быть, с чем добрым к нам пожаловали, что хорошенького можете нам предложить?
– Я тебе решительно ничего не предлагаю! И не ради тебя зашел! – резко сказал Федор, с трудом удерживая рвущиеся с языка иные слова, и отвернулся от него. С упреком глядя на Федюнина, он добавил: – А только вот на его месте давно бы я тебя осадил. Да-авно бы! У самого потрохов не хватило бы – в округ обратился. Там таких ярунов живо выкладывают. Подумаешь! Советские законы не про него писаны, свои порядки уставлять будет!..
Полицейский крякнул, подергал себя за пушистые, с проседью, нафабренные усы: какая непочтительность к атаману! А тот нахохлился, теряя напускную вежливость и, встав из-за стола, потянулся за насекой.
– Вот-вот… А то чего же! Так и надо. Та-ак! Спасибо! Можно сказать, делу доброму научили вас на службе, – начал он, перекладывая насеку из одной руки в другую, не находя для нее места и задыхаясь от подступавшего гнева. – Давайте басурманов призовем. Уважим своих людей. Они нас рассудят, выручат из беды. А то чего же! Ворон ворона зовет…
Он покружился у окна, что-то высматривая суетливо бегавшими глазами на плацу, где, входя в церковную ограду и выходя из нее, мелькали разнаряженные люди, и вдруг, обернувшись, закричал, затрясся весь:
– Вы самозванцы, смутьяны! Плети на вас мало! Через таких вот смутьянов и бунтует Россия! Через таких вот самозванцев и взыграла эта… самая…
– Революция, – подсказал Федор. – Еще что? – и, темнея, стиснул зубы.
– Вас, сукиных сынов, еще тогда бы, спервоначалу надо было полечить на кругу, на дубовой скамье! – рассвирепев, запальчиво продолжал выкрикивать атаман, – Еще тогда бы всем миром надо было вправить вам мозги! Так, думаете, и будете мутить воду? Думаете, вам…
– Ты!.. Старая… – сквозь стиснутые зубы с присвистом вырвалось у Федора. Он согнул руку в локте и, отводя кулак, шагнул к атаману.
– Но-но-о!.. – придушенно зарычал полицейский и, грозно, растопырившись, заслонил атамана.
Тот втянул голову в плечи и по-над стенкой, волоча насеку, – к двери.
Федюнин, переминаясь с деревяшки на ногу, стоял все в той же позе – готовый к защите и нападению.
Федор набросился на него с руганью:
– За каким… тебя несло сюда! Все храбрость свою кажешь где не надо! Пошли отсюда!
– Нет, голубчики, подождёте, – злорадно сказал атаман, отталкивая спиной дверь, – подождёте! Полицейский, стань сюда, к порогу, не выпускай!
Федор, а за ним Федюнин полезли было на загородившего дверь полицейского, придурковатого, уже состарившегося верзилу-щеголя. Но тот выхватил шашку, замахнулся ею, норовя в самом деле ударить, и рявкнул, очумело вращая глазами:
– С-срублю! Не подходи!
Наседавшие попятились: был же на их памяти случай, как этот верзила, много лет служивший полицейским, – кто из добрых людей пойдет на такую собачью должность! – сделал одного казака калекой.
…Казак этот пропил на ярмарке соседскую телку. Не украл ее, а именно пропил, воспользовавшись доверием хозяина, который был там же, на ярмарке, и, отлучившись на часок, сказал: «Посматривай тут. А подвернется хороший купец – махни». Казак «махнул» телку по дешевке, и начались магарычи… Дома на вызов атамана по этому делу казак явиться отказался. Послали полицейского. Казак заупрямился. Полицейский – за шашку. Метил по голове, но казак защитился рукой, и он оттяпал ему кисть.
Тяжело дыша, как после непосильной работы, полицейский минуту стоял у порога с оголенной шашкой; потом, озираясь на арестованных, боком пролез в дверь вслед за атаманом; и ржавый железный засов со скрежетом загремел.
– Вы, голубчики, пока покурите тут, остепенитесь, – послышался из-за двери издевательский совет атамана, – а вот обедня отойдет, и мы со стариками подумаем, стало быть, обсоветуем – что и как с вами.
Федор с Федюниным переглянулись, и на пасмурных лицах их поблуждала невеселая растерянная усмешка.
– Видал? Какая гада!.. Ка-акая гада! – с расстановкой возмущенно повторил Федюнин и захромал, заметался по комнате, нервно запихивая в рот и кусая жидкие белесые усы.
– Ты не знал этого раньше? Новость для тебя! – ледяным голосом сказал Федор. Наотмашь ударил фигурчатую чернильницу, обдав чернилами весь передний угол, только что старательно побеленный, и плюхнулся на чуть живой, затрещавший стол. – Сами навязались… Тьфу!
– Да ты-то откуда взялся? Каким ветром тебя-то занесло!
– Из-за тебя же, черта, слюнтяя! – И Федор пригорюнился. – Теперь бабы клянут меня – в печке все уже поди прогорело. Я ведь за перцем, лавровым листом да еще за всякой чепухой был послан.
Федюнин фыркнул:
– Нашел о чем тужить!
– А тебе весело, да? Вот посмотрю, как ты будешь хохотать – начнут тебе шомполами мочалить задницу.
– Ну, положим!
– А ты думал?.. Целовать тебя станут!
В коридоре все еще слышалась возня: полицейский гулко кашлял подле двери, громыхал сапожищами; атаман что-то бубнил, и голос его становился все невнятнее: он, как видно, уходя, отдавал приказания.
– Ведь народ-то какой! Хоть бы и фронтовики! – как бы оправдываясь перед Федором, заговорил Федюнин. – На словах они, сам знаешь, соглашаются, все как надо: «Да, да, конечно, к такой матери всех этих кадетов!» [2]2
Кадетами в народе называли вообще всех контрреволюционеров, боровшихся, с оружием в руках против советской власти, и калединцев, и красиовцев, и деникинцев.
[Закрыть]А скажешь: «Ну, так давайте соберемся и скрутим хотя бы парочку, самых рогастых, заядлых, чтоб другие малость поутихли», – и сразу: «Да ну, ссориться… неудобно как-то, свои же люди». При тебе же ведь было…