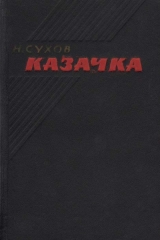
Текст книги "Казачка"
Автор книги: Николай Сухов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 41 страниц)
III
К этому делу ребята готовились три дня. Три дня подряд они спевались. Придут из школы, наскоро пообедают, заберутся на печь и до позднего вечера тянут – кто громче. Все было бы хорошо у них – спевку провели они ладно, – но вот с присказом дело не клеилось. Мишка знал присказ о царе Ироде – Федор научил, – а Санька нет. Десятки раз повторял Мишка, втолковывал дружку, но тот никак не мог затвердить. Старался, лоб потел, но все попусту. Вылетали слова из Санькиной головы, и все тут.
«Уж дюже чудные они, слова эти: «приидоша», «принесоша». И для чего придумали такие непонятные слова, кто их знает? – с тоской думал Санька. – Нет чтобы сказать по-людскому. Ну разве же их запомнишь!» И действительно, запоминал он плохо: скажет два-три слова и замычит – не знает, что дальше.
В конце концов Мишка отчаялся и решил сделать так: петь они будут вдвоем, а про Ирода рассказывать ему одному придется. Ничего не попишешь. До чего же беспонятливый народ! Ты ему хоть толкуй, хоть не толкуй – все одно не знает. Они даже чуть-чуть не поссорились.
Провожатым у ребят шел Федор. Он вызвался на это с большой охотой. У ребят даже вкралось подозрение: не хочет ли он разделить с ними добычу? О настоящей причине они, понятно, и не догадывались.
С первыми ударами колокола они вышли на улицу. Ночь была темная и тихая. Под ногами звонко хрустел снег – с вечера играла метель, а к утру придавил мороз. Над завьюженными крышами стлался едкий кизячный дым. Из станицы тоже доносились приглушенные басовитые звуки колокола. В окнах весело и зазывно мелькали огоньки. Разноголосо гавкали собаки, потревоженные христославцами. Изредка, направляясь к церкви, пробегали согнутые фигуры – в шубах, тулупах. Кутая в воротник лицо, Федор вспомнил, с каким, бывало, нетерпением ждал он этого часа!.. И ласково окликнул ребят:
– Ну, не закоченели? Давайте вот сюда, в закуток.
Свернули во двор к жалмерке Федюниной – солдатке Устинье. За могучую редкостную силу и мужской голос ее звали «Баба-казак». Федор дернул за ремешок щеколды и, открыв дверь, пропустил ребят. Они влезли в незнакомый чулан [1]1
Чулан – сени.
[Закрыть], заблудились в темноте. В углу стояли вилы, лопаты. Мишка, шаря по стенам рукой, зацепился за лопаты валенком и повалил их с грохотом. Федор беззвучно захохотал, нащупал скобу и втолкнул струхнувших ребят в хату. Мишка так растерялся, что забыл даже снять шапку. Перевел дыхание, невпопад перекрестился и закричал каким-то чужим, незнакомым голосом;
Рождество твое, Христе боже наш…
На скамье завозилась грузная простоволосая женщина в измятом платье. Одна рука ее, согнутая в локте, была положена под лоб – женщина лежала лицом вниз, – другая, вяло свесившись, доставала до земляного пола. Это была хозяйка, Баба-казак. На столе коптилась подкрученная лампенка. Видно, уже выгоревшая, она часто мигала, пощелкивала. Подле лампы пестрел вскрытый конверт с большим красным крестом. Хата выглядела далеко не по-праздничному: на полу разбросана была ржаная солома, валялись тыквы, выкатившиеся из-под кровати, кровать не убрана. Баба-казак вскочила, заохала, заметалась по хате.
Мишка взглянул в ее смятое, с опухшими наплаканными глазами лицо и смутился, умолк.
Санька задрал кверху голову, уставился на печь, откуда зверьком выглядывала остролицая лет семи девочка с рыжими огнистыми косицами, и без остановки кричал:
Тебе кланятися солнцу пра-авды
И тебе видети с высоты востока…
Мишка кулаком поддал дружку в бок, зашипел что-то над ухом. Тот вытаращил на него глаза и оборвал на полуслове.
Баба-казак подошла к ним:
– А вы, детки, славьте, славьте, – сказала она тихим, скорбным басом. – У меня… беда. Но вы славьте, ничего… Только шапочки снимите.
Мишка сдернул заячий лопоухий треух, боязливо покосился на хозяйку: «Какая-то она… чудная», – и упавшим голосом затянул сначала. Санька пятился все ближе к двери, нетвердо подавал свой визгливый, срывающийся тенорок. Под конец они уже не пели, а что-то неразборчиво мурчали под нос. Но Баба-казак все же похвалила их. Ласково пригладила их вихрастые головы и всунула им в руки по прянику.
– Фе-едька, чего это такое? – жаловался на улице Мишка.
– А что случилось-то?
– Да эта… как ее… тетка. Кричит чегой-то, не поймешь.
– Ну, ну, мазурики, иди, иди! – заругался Федор, – У вас, должно, мальчики в глазах, наговорите! Слушай вас!
…Уже придя домой, Федор понял, что он обругал ребят зря. Матвей Семенович был в церкви и принес оттуда новость: в ночь под праздник Бабе-казак доставили письмо с красным на конверте крестом. Письмо это – с фронта, из госпиталя. Сообщали, что ее мужа казака-третьеочередника Семена Федюнина австрийский драгун при атаке поранил шашкой и он лежит теперь в госпитале…
Когда в церкви трезвонили во все колокола, пришли к Морозовым. Ребята обвыкли и пели стройнее. Федор, приоткрыв дверь, посматривал в щелку. В углу перед большой иконой светилась лампадка. Тусклые блики зыбились на стекле иконы и багрянцем ложились на седую с прозеленью бороду Саваофа. Из хаты пахло чем-то жареным, вкусным, и Федор проглотил слюну. Стряпала сама бабка Морозиха. Помогала ей Надя. С засученными по локоть рукавами, она обмывала в тазу гуся, плескала на него водой. Новая кофточка в синих полосках плотно облегала ее крутые плечи, грудь; поверх закрученных волос – белая концами назад повязка. Без ленты и витой до пояса косы Федор видел ее не часто, и сейчас ему казалось, что с такой прической она еще лучше.
Ребята пропели, и Мишка, горячась, начал рассказывать:
Днесь, пресветлая царица, земля и небо веселится…
Санька жадно посматривал на груду пирожков, дымящихся на столе, облизывал губы и удивлялся: как это Мишка запомнил столько чудных и непонятных слов? Набожная и глуховатая бабка Морозиха, склонив голову, подставляла маленькое со сморщенной мочкой ухо и даже капусту перестала резать, хотя вряд ли что-нибудь разобрала. Одна лишь старая корноухая кошка не обращала на ребят никакого внимания: после Надиной сытной подачки она сидела посреди хаты и, откинув хвост, умывалась лапой. А Мишка, разгораясь, сверкая глазами, кричал все громче и подходил к самому страшному:
Царь Ирод возмутился и послал своих воинов в город Вифлеем.
Там били и рубили, многих на штыки сажали.
Отцы и матери плакали, рыдали, к небу руки воздымали:
«О, горе, горе нам!..»
Бабка Морозиха печально качала головой в сивых жиденьких прядках, шевелила сухими губами. Санька нетерпеливо двигал валенками и, надевая треух одной рукой, другой дергал Мишку за карман: поскорей, мол, а то ничего не наславим. Кошка выгибала коромыслом спину, потягивалась. Мишка передохнул и весело закончил:
– С праздником!
Надя вынула из печки шипящую сковородку, стряхнула на стол подрумяненные ватрушки и подала ребятам:
– Пробегались, ребятишки, закусите.
– Што ты, безбожница, – заворчала бабка, – еще к достойной не били.
– Ну уж, бабика, они маленькие – им не грешно.
Санька, обжигаясь ватрушкой, недовольно глянул из-под треуха: думал, что Надя ничего больше не даст. Но она достала чайное блюдце с медяками и протянула им по гривне. Ребята на радостях чуть было не прибили лоб Федору, подглядывавшему в дверях, – по стольку им не давали даже самые богатые.
– Что вы как полоумные! – Федор отскочил к стене.
Ребята, не отвечая, проскользнули мимо него и – на улицу.
Федор постоял в чулане, пощурился на полоску света у порога: «Не догадается ли Надя выйти?» Но на крыльцо вскочили новые христославцы, загомонили, затопали в чулане. Федор шепотом ругнул их и спрятался в углу. А когда христославцы убежали, он подкрался к двери, тихонько приоткрыл ее и одним глазом из-за полстяной обойки заглянул в хату. Раскрасневшаяся от огня бабка нагибалась у загнетка, орудовала цапельником – пекла блинцы; Надя стояла боком к двери и, сверкая голыми локтями, выплескивала из таза воду – все еще обряжала большого и жирного гуся. Федор хотел позвать ее, но не решался: «А ну-к да как услышит бабка? Она ведь такая досужая, от нее не схоронишься». И он ободрял самого себя: «Ну, где ей услыхать! Никогда не услышит». В надежде на то, что Надя почувствует его взгляд, он пристально, до щекотки в глазу смотрел на нее, мысленно тянул ее к себе. Но она была так увлечена делом, что даже не поднимала головы. «Ах, какая ты недогадливая! – волновался Федор. – Ну что за недогадливая!» Наконец он выждал, когда бабка всунулась по пояс в печь, и чуть слышно позвал:
– Надя!
Она удивленно вскинула глаза, обернулась на знакомый голос. Дверь была прикрыта не плотно, и в хату сквозь узкую щель клубками врывался холод. «Жду… на минутку…» – скорее почувствовала, чем расслышала она то, что шепотом было сказано за дверью. Надя быстро взглянула на бабкину сгорбленную спину, тихо рассмеялась и плутовато погрозила в щель мокрым пальцем. Но тут же вытерла руки и накинула шубу.
– Куда собралась? – разогнувшись, спросила бабка.
– За водой, бабаня, – пряча разгоревшееся лицо, придумала Надя.
– Чего понадобилось делать?
– Гуся сполоснуть, бабаня.
– Кто же полоскает холодной водой! Вон достань чугун из печки.
Надя закусила губу, отвернулась от бабки. Потом украдкой схватила ведро и пошла из хаты.
За крыльцом ее настиг Федор. Он поймал ее за плечи и притянул к себе. Из-под распахнутого ворота шубы на него дохнуло волнующим теплом, и он сжал Надю со всей силой.
– Люди ходят, пусти, – барахталась Надя в его руках.
– Ну и пускай, – Федор стискивал ее, как железным обручем.
– Да увидят, с ума сошел!
– Никто не увидит, не бойсь. Какая ты… Отец дома?
– Нет, в церкви.
– А Пашка?
– И Пашка в церкви.
Федор запрокинул ей голову и долгим поцелуем ожег губы.
– Пусти, – томительно запросила Надя. – Грешно ведь – люди богу молятся.
– Ну и пускай, – смеялся захмелевший Федор, – мы им не мешаем, а они нам.
Широко расставив ноги, он стоял, что кряжистый карагач, и все крепче прижимал к себе Надю. В груди у обоих радостно колотилось. Обессилевшая Надя висела на его руке, но тяжести он не чувствовал. Где-то в улице, захлебываясь лаем, лютовала собака; там же надсадно и протяжно крпчал кто-то; хрустели неподалеку торопливые шаги… А Федор все наклонялся к лицу Нади, смотрел на ее дрожащие густые, припудренные инеем ресницы, на пылающие щеки и растерянно, со вздохами дышал.
– Фе-едька! Фе-едька! – кричали уже совсем близко.
Надя встрепенулась:
– Ведь тебя зовут, иди!
– Меня? – удивился Федор.
– А кого же ты думал? Пусти! – Она вырвалась из его объятий и, путаясь в полах шубы, побежала в глубь двора, к колодцу.
– Ты чего тут делаешь? – спросил Мишка, показываясь в воротах, – Мы уж в двух домах побывали, а тебя все нет. Нас цепной было-к порвал.
– Какого дьявола разорался! – рявкнул Федор. – Все вам надо! «Чего я тут делаю?» С Пашкой покурил. Чего вам надо? Маленькие! Нельзя уж и отлучиться от них. – Он поднял костыль, поправил пояс и, не глядя на Мишку, зашагал на улицу.
Мишка втянул голову в плечи, согнулся и, виновато посапывая, заспешил за ним мелкой, с припрыжкой, трусцой.
Через час примерно, когда уже проведали даже самые крайние в своей улице, Заречке, хаты – перешли напрямик, садами и огородами, на ту сторону речушки и направились в Хомутовку.
Просторные ворота Абанкиных облицованы черной жестью. Над воротами – резной козырьковый навес. Вверху петушок поднял голову, будто собирался кукарекнуть, да так и застыл на одной ножке. Федор пнул сапогом ворота, и кобель, с годовалого телка, подкатился ему под ноги. Ребята схватились за руки и опасливо спрятались за Федора. В их глазах вместе с испугом было любопытство и восхищение – вот бы им такого! Федор сучковатым костылем огрел кобеля по боку, тот яростно завизжал и полез под амбар. С тайным трепетом ребята поднялись на высокое, с фигурчатыми перилами и дверцами крыльцо, какого они никогда еще не видели, и растерянно остановились в коридоре. Федор зажег спичку и указал им на дверь.
Ребята, войдя в прихожую, переднюю комнату, хоть и оробели немножко, но в ожидании щедрой подачки пели старательно и дружно. Если кто-нибудь отставал, споткнувшись на трудном слове, другой обязательно поджидал его. Мишка с большим подъемом рассказал про царя Ирода и громче обычного крикнул:
– С праздником!
В комнате была одна Трофимова мать – Наумовна, рослая, костлявая женщина. Она только что закончила стряпню и убирала со стола посуду. Свернув два блинца, смачно обмакнула их в масло и поднесла ребятам:
– Смотрите не замажьтесь!
Ребята приняли блинцы охотно – не то что Надины ватрушки, – но есть им было некогда, еще целую улицу намеревались обежать, и они не знали, куда их деть. Санька хотел было спрятать в карман, но с блинца закапало масло, и он подставил валенок, боясь запачкать свежевымытый дощатый пол. Переминаясь с ноги на ногу, терпеливо ждали денег. Уж они знали, где можно поджиться, их не проведешь. Кто в хуторе богаче Абанкиных? Но Наумовна словно бы забыла про гостей – нагнулась над горшками и заскребла ножом. Может быть, старая и в самом деле забыла: мало ли их, христославцев, перебывало за ночь! Ребята постояли-постояли, Мишка взглянул на Саньку, Санька на Мишку, оба взглянули на махорчатую, поверх стола скатерть – ее снежная белизна ярко оттеняла россыпь медных монет на уголке стола – и, сгорбившись, полезли в дверь.
– Вы чего надулись? – встретил их Федор.
– Они вон чего дали, – и Мишка кинул блинец в сугроб. Федор проследил, как ноздреватый коричневый комочек, упав в рыхлый снег, погружался все глубже.
– А ну-к подними! – К удивлению ребят, он метнулся к слегам, громадным костром стоявшим посреди двора, подтащил к воротам бревно и двумя прыжками забрался на козырек, – Кидай сюда!
Ребята в недоумении подбросили ему скомканные блинцы. Федор поймал их на лету, бережно расправил и повесил на петушка, прикрыв ему выгнутую шею. Ребята, вдоволь посмеявшись, скрылись за углом, а Федор спустился с козырька и отнес бревно на место.
Светало. В небе, все еще мутном, в той стороне, где уже вот-вот взойдет солнце, млело розоватое облачко. Над хутором в бешеном плясе кружил и ликовал трезвон. Иглистый вихрь подцепил охапку снега, кинул через плетень и, косматя сугробы, схватывая с них верхушки, закуролесил вдоль заборов. Шумной стайкой прошелестели голуби, видно вспугнутые звоном с колокольни. Надвигая на уши шапку, Федор смотрел, как исчерна-сизый вожак, не справляясь с ветром, извилисто нырял в рассветной мути, крутил головой, хитрил.
– Бегайте одни, светло! – крикнул Федор, когда ребята показались на улице, и, весело посвистывая, зашагал домой.
Он не слыхал, как у ворот Абанкиных перекликались и хохотали подростки.
IV
После того как отец так сдержанно отнесся к разговору о сватовстве, Федор докучать ему не стал. За весь мясоед ни разу больше не напомнил, будто и речи о том не было. Старик, казалось, тоже забыл об этом разговоре, хотя и обещал повстречать Андрея Ивановича – Надиного отца, закинуть удочку.
Не докучал Федор отцу не потому, конечно, что перестал о женитьбе думать. Совсем напротив: Надя была к нему ласкова, а за последнее время особенно, и его мысль о женитьбе с каждым днем зрела. Но для него ясно теперь стало – хоть и не было оттого легче, – что разговоры со стариками ни к чему не приведут. По правде сказать, он и сам опасался, что, как только Андрей Иванович услышит об их затее, тут же рассвирепеет и заорет. Повадки старика Морозова Федору отлично были известны, хотя отец и упрекнул его, что он не знает этого «Милушку».
О том, что года через полтора его, Федора, заберут на службу и, если не замирятся, – прямо в пекло войны, он не забывал ни на минуту. И нельзя было забыть – слишком часто ему напоминали о войне. Напоминали пустые, болтающиеся по ветру рукава мундиров и деревяшки вместо ног, на которых возвращались казаки с фронта. Знал Федор и о том, что за время мясоеда было всего лишь две-три свадьбы, стыдливо-тихих и незаметных. Это вместо тех десятков до войны, когда в свадебные сезоны от буйных гульбищ хутор стонал пьяным стоном. Но что пуще всего помнил Федор – так это то, что, если он не женится до службы, Нади не видать ему, как своего затылка. Не потому, понятно, что Надя не захочет ждать его – в этом на нее он смело мог бы понадеяться. Но Андрей Иванович не будет самим собой, если не отдаст ее первому же, с капитальцем, жениху. И покорная, робкая по натуре Надя, какой знал ее Федор, не осмелится перечить отцу. Да хоть и осмелится – толку будет мало.
Прошлой осенью она едва отделалась от жениха с Черной речки, о котором при разговоре упоминал Матвей Семенович. Только дело обстояло не так, как о том поведал старик, будто Андрей Иванович отказал жениху. Напротив, тот совсем уж было расчищал усы на свадьбу. Ведь жених сулил ему златые горы – вечный участок, паровая мельница что-нибудь да значат! Надя слезно умолила Пашку отвадить жениха от двора – Андрей Иванович просватал, даже не спрося ее согласия. Когда захмелевшие сваты уже хлопали по рукам и собирались помолиться за счастье молодых, Пашка тайно от отца кивнул жениху и вывел его на крыльцо. С глазу на глаз он шепнул ему что-то такое, отчего у рябоватого и горбоносого жениха – на две головы выше Пашки – зрачки вдруг заходили кругом. У него сразу же заболела голова, заломила поясница, и он вместе с родней, отказавшись от чая, заторопился восвояси. А после прослышали, к огорчению Андрея Ивановича, что будто бы он раздумал жениться.
Если о сватовстве Федор больше не затевал с отцом разговора, то старик, в свою очередь, всячески избегал напоминать про данное обещание. Он, собственно, и обещал-то просто потому, чтобы как-нибудь успокоить парня. Не может же он, в самом деле, потакать ему во всякой блажи. Раза два за это время он встречал Андрея Ивановича. Набредало на ум «закинуть удочку», да так и не осмелился.
Слишком хорошо понимал, что все равно из этого ничего не выйдет. А ведь самолюбие у каждого есть. Уж ему ли не знать Андрея Ивановича! На одной улице они росли, в одном полку ломали цареву службу, вместе были в Маньчжурии – дрались с японцами. Сроду по душе ему он не был. И перед богатыми крутит хвостом, и бедным заглядывает в глаза – никого не хочет обидеть. Сам живет так себе, середка на половинку. Не любит причислять себя к беднякам, но, кроме двух брюхастых меринков, никогда в жизни ничего у него не бывало. По воскресеньям читает священные книги, особо – библию, при разговорах всех подряд погоняет «милушками», за что и прозвали его «Милушкой», но пальца в рот не клади – откусит. Матвею Семеновичу детей с ним не крестить и уму-разуму его не учить: живет – и пусть его живет. А кланяться перед ним он не намерен. А что насчет сватовства пива с ним не сваришь, в этом Матвею Семеновичу вскоре еще раз пришлось убедиться.
На масленицу с фронта прибыл в отпуск брат Андрея Ивановича, Игнат. По этому случаю у Морозовых состоялась гулянка. Служивый через послов пригласил на вечер и Матвея Семеновича – с его старшаком Алексеем он служит в одной сотне.
Старик попал на вечер в самый разгар. Были поздние сумерки, и в доме Морозовых во всех окнах пылал свет. У завальни кучками толпились любопытные, заглядывали в комнаты. В горнице людей было – что на свадьбе: тут и кумовья, и сватья, и всякие прочие родичи. Они, кажется, уже были навеселе: разговоры, ни на минуту не умолкая, лились густым гудом. Под навесом старинного тяжелого киота, в углу, сидел сам служивый – черный, уже немолодой казак, с острыми, в синем глянце скулами и нависшими усами. Дивясь на его худобу, Матвей Семенович остановился у двери. Ему показалось, что Игнат за это время крепко постарел, осунулся. Все те же были редкие усы, направленные в рот, да приспущенные брови, под которыми угадывались невеселые глаза, – Игнат наклонял голову, смотрел куда-то вкось. Свинцовой синевы на лице не разогрела даже водка. А выпил он, видно, изрядно, как можно было судить по его возбужденной речи. В надтреснутом голосе – глухая затаенная обида и негодование:
– …двадцать девять раз… Ведь это подумать надо! Двадцать девять раз ходили в атаку. Ох, уж этот Львов! Дался же он нам! Сколько там народа полегло. Уйма!
Старик неслышно вошел в горницу и, боясь перебить рассказ, притаился у порога. Чья-то широченная спина и облако табачного дыма заслоняли свет, и Матвея Семеновича никто не заметил.
– Приказывают – надо идти, ничего не сделаешь. И видим – смерть в глазах, но куда ж денешься! А перед проволочными заграждениями у них, как, скажи, муравьи копошатся: пехоты – видимо-невидимо. От батарей этих – гул несусветный. И туман ядовитый такой, вонючий. Наши цепи только это… подползут поближе, они как зададут оттуда, брызнут из пулеметов – бедная пехота наша мостом стелется. Отхлынут назад и опять лезут; отхлынут – и опять. Потом казачьи полки пошли. Что там творилось!
За столом толкались плечами, жужжали, как в потревоженном улье. Бабка Морозиха не спускала влажных глаз с Игната, своего последыша, сморкалась в красненький, пахнущий канунницей платочек. Андрей Иванович елозил по скамье, опрокидывал над рюмками бутылку. Игнатова жена Авдотья, прихорашиваясь, одергивала тюлевые рюши на груди, а на губах ее, уже блеклых, дрожала радостная улыбка.
Служивый глянул через головы сидевших, откинулся и полез из-за стола.
– Матвей Семенович! Ты это… Чего ж? Зажался в уголок… – он облапил оробевшего старика и мокрыми усами ткнулся ему в бороду. – Поклон тебе, Матвей Семеныч, от сынка. Жив-здоров он, сынок твой, кланяется низко-пренизко.
Старик растроганно покрякивал, в упор оглядывая служивого.
– Спасибочко, Игнат Иваныч, спасибочко. С счастливым прибытьем вас, с родительским!
– Все равно не будет толку, не будет! – отвечая на собственные мысли, бубнил из-за стола Андрей Иванович. – Какой же, мои милушки, толк? С ерманцем воюем, а ерманские енералы у нас командуют. Всякие фоны да афоны.
– Ты, кум, все одно да то же, – недовольно заметил служивый, ведя за руку Матвея Семеновича.
– А я говорю, не будет! – ревел Андрей Иванович, и острый кадык под отворотом рубашки двигался вниз-вверх, – Марея Федоровна, государева мамаша, – кто она? Ну? А Лександра Федоровна, жинка его, – кто? Ерманского племени – вот кто! Царь-то наш, выходит, – в сродствии с Вильгельмом. То-то и оно! А промежду родни какая же война? Народу чересчур расплодилось, вот что! Прочистить задумали, уничтожить малость. Кормить скоро нечем будет. Газами душат, машины какие-то придумали. Война – так сходись на штыковую, шашками действуй. А то… война! В год раз видят друг друга. Вы мне лучше не гутарьте.
Игнат не успел еще усадить старика, как в хате за раскрытой дверью показался Абанкин Трофим, в новой, с малиновым верхом и позументом папахе; за ним, чуть позади, с длинной окладистой бородой, его отец Петр Васильевич. Крупный телом и прямой, как на параде, Петр Васильевич вошел в горницу медлительной, степенной походкой, не отрывая от пола чесанок. Эта манера держать себя – важно и степенно – вошла у него в привычку уже давно, с тех пор как в его хозяйстве появились батраки, а в мошну, полневшую с каждым годом, стали стекаться проценты по векселям и закладным.
Увидя Абанкиных, Андрей Иванович подкатился к ним как к именитым, редким гостям. Изгибаясь в поясе и сверкая плешью, он залебезил перед ними с какой-то умильной, сладенькой улыбочкой, засеменил коротенькими ножками.
– Милушки мои, Петро Васильич, проходите, проходите. Родные мои, вот сюда, вот сюда.
«Сукин сын, что делает! – Матвей Семенович, горбясь на скамейке, хмуро поглядывал на распинавшегося полчанина. – Что делает, а? Да еще Федор, такой чудак, посылает к нему сватать. Нешто ж можно? Что делает, нечистая душа!»
– Милушки мои, а вы разденьтесь, раздевайтесь. У нас тепло, жарко, раздевайтесь! – и старик Морозов тащил Петра Васильевича за рукав.
Тот снисходительно щурился, раздваивал бороду и грудью пер прямо к столу.
Защитникам отечества наше, знычт то ни токма, нижайшее почтение! – сказал он со своим обычным присловьем, поймал Игнатову руку и накрыл ее своей короткопалой, жилистой ладонью. – Прослыхал, Игнат Иваныч, о вашем прибытье, зашел поздравить. Рад, знычт, видеть живым-невредимым, – Не сгибая ширококостного стана, он опустился на скамейку рядом с Матвеем Семеновичем и отвесил всем сразу общий поклон.
Игнат еле заметно шевельнул усами, поморщился: «Защитникам отечества»… Какой ведь ты!.. Пошел бы, позащищал!» Но сказал мягко, с усмешкой:
– Спасибо, Петро Васильич. Насчет невредимости не знаю как, а живой – это верно.
Матвей Семенович услужливо двинулся подальше, загородив в углу служивого, и разговоры сразу стали как-то глуше и принужденнее. Один лишь дед Парсан – отец Надиной подруги Фени, – невзирая ни на что, единственным зубом раздирал рыбий хрящик, причмокивал и в промежутках изливал свою жалобу бабке Морозихе. Та хоть и мало что различала, но дед так грозно ворочал бурыми линялыми белками и так шевелилась щетина на его лице, что бабка всплескивала руками и хлопала себя по сухим бедрам.
– Господи, какие страсти!
– Это же, свашунюшка, что такое? Что такое, я спрашиваю? – И дед вскидывал корявый маленький кулачок с зажатой костью. – Где же порядки-то, грец их возьми, праведность, а? Закон, выходит, – дышло: куда повернул – туда и вышло. Ну что я сделаю за эти бумажки? Задрипанную телку-летошницу куплю. А ведь я, окромя всякой мелочи, двух коров… двух коров, как горы, свел с база. Эх! – и дед крутил облезлой угловатой головой.
– Гос-споди, какие страсти!
Когда на фронте убили Фениного мужа, деду по закону должны были возвратить всю справу служивого или уплатить за нее полную стоимость. Лошадь, седло и вся казачья амуниция деду въехали в три сотни рублей – это в начале войны. А ему полгода назад, когда деньги уже крепко упали, прислали всего лишь сто сорок.
Приходу Абанкиных Игнат, по совести говоря, мало радовался. Он был сердит на них. Его жена Авдотья весной сдала им полупай земли на три года. К осени цены на землю поднялись – да и не только на землю! – и Авдотья поняла, что промахнулась. Просила Петра Васильевича сделать надбавку, но тот отказал ей в этом: «Знычт то ни токма, два раза не умирают».
Пока Игнат на службе, хозяйствовала одна Авдотья с малыми детишками. Разделились братья Морозовы несколько лет назад. Отошел Игнат. Не успел он как следует огородить подворье – война. Его тут же и подцепили.
Гости в присутствии Петра Васильевича стали менее разговорчивы, зато дружнее налегли на еду. На стол подавала Надя. Бегая от печки к столу и обратно, она едва успевала менять блюда, сметать объедки. После прихода Абанкиных она чувствовала себя как-то связанно, неловко. Никогда до этого в доме у них они не бывали.
Трофим сидел на кровати подле Пашки, раскуривая цигарку, и, казалось, внимательно слушал разговоры старших. Но Надя все время ощущала на себе его воровские взгляды исподлобья и безотчетно краснела. Ставя на стол самовар, она заметила, как Петр Васильевич повернул к ней бороду и поднял зеленоватые оценивающие глаза. Надя растерянно засуетилась, двинула самоваром и столкнула наполненную рюмку. Под локоть деда Парсана пополз мутный ручеек самогонки.
– Што ты, непутевая! – заворчала бабка.
Надя вспыхнула и, смущенная, отошла к печке.
Матвей Семенович, впервые за всю свою жизнь попав в гости вместе с Абанкиным за один стол, да еще рядом с ним, жался в комочек, сутулился и старался быть как можно незаметнее. Изредка вставлял он в общий разговор свои несмелые замечания, поддакивал, а больше все расспрашивал Игната про сына и про войну – скоро ли она, проклятая, закончится?
Петр Васильевич выпивал вместе со всеми, в меру закусывал и спокойно, уверенно погукивал своим глуховатым басом. Он сетовал на никудышные осенние ярмарки – и в своем хуторе, и в Филонове, на станции.
– Да что на станции! На покровскую-то – го́ре, знычт, глядеть было! – сказал он, имея в виду известную не только на одну Донскую область, но и чуть ли не на всю Россию ярмарку, которая каждый год в октябре съезжалась в окружной станице – Урюпинской.
Сетовал Петр Васильевич и на то, что из года в год цены на землю так вздуваются, что скоро и подступиться нельзя будет. Совсем от рук отбились. При разговоре он почему-то все больше обращался к Матвею Семеновичу. И тот, как бы сочувствуя, кряхтел, мычал, а про себя думал: «Хорош у тебя голосок, хорош, да хриповат малость. Про это ты расписываешь – заслушаться можно. А вот про то не заикнешься – почем ты стал пшеничку ссыпать да сенцо вывозить». Петр Васильевич старательно обсосал жареный сазаний хвостик, потрогал рушником усы и, дружелюбно взглянув на старика, как бы между прочим спросил:
– Слухом пользовался, Матвей Семеныч, будто, знычт то ни токма, землишку продаешь?
– Кгм, кгм!.. – поперхулся чаем старик, – Землишку? Да нет, Петро Васильич. Так как-то был разговор. Однова было помыкнулись, да назад пятками. Нуждишка немного отлегла, ну и… раздумали. Нет, Петро Васильич, не думаю пока.
– Оно и правда, – одобрил Абанкин, – земля каждому нужна. От нее, кормилицы, – никуда. А только, мол, если надумаешь, так уж по-соседски, знычт, без обману. Один пай держу твой, могу и еще взять. О прошлый год сват Митрофан… – и умело перевел разговор на то, как в прошлом году его сват три раза ездил из-за земли на суд. А все оттого, что землю он сдал какому-то мужику на отрубах, а не своему брату-казаку.
Матвей Семенович, можно сказать, – богач землей. Три собственных пая – свой личный и два сыновних. Один пай давно уже в закладе у Абанкина: справлял на службу Алексея. В прошлом году пустовал еще один – не хватило сил обработать, и он сдавал его под сенокос.
Андрей Иванович таращил свои полусонные осовевшие глаза, вскидывал головой. Лицо его от водки как-то одрябло. Хотел было еще раз ругнуть «ерманских енералов», но, вспомнив про Абанкина, только крякнул и забормотал что-то. Выбрасывая синие, в застаревших цыпках руки, полез по своей привычке целовать стариков.
– Милушки мои… милушки!..
С особым старанием он навалился на Абанкина. Всею тяжестью припал к его плечу, обнял и никак не мог поймать его волосатую щеку. Петр Васильевич крутил носом, запрокидывался и, короткопалой ладонью тыча ему в грудь, уговаривал:
– Ну, будя, будя! Расслюнявился, знычт… Дурацкая манера!
Андрей Иванович успокоился, осушил три стакана чая и, вдруг вылезая из-за стола, покачнулся и направился в хату, к ведру с водой:
– Н-не хочу горячего, не надо. Надька, дай из колодца! Из колодца!
Надя накинула на плечи платок и загремела ведром.
Трофим, ждавший случая заговорить с ней, заторопил Пашку:
– Насыпай скорей, да я пойду!








