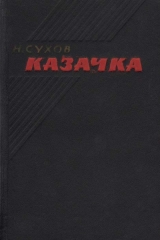
Текст книги "Казачка"
Автор книги: Николай Сухов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 41 страниц)
Через какой-то промежуток времени Пашка заметил, как впереди, на выезде из неглубокой лощины с желтым суглинистым дном, чья-то лошадь с размаху ткнулась в землю носом, упала – и всадника словно и не было в седле. Лошадь, вся затрепетав, тут же вскочила. Пытаясь бежать, она прыгала на одном месте, судорожно щерила зубы, и лоснящаяся от пота кожа на ней дрожала. На передней ноге, поджатой к брюху, белела свежеоголенная на колене кость, и часть ноги, ниже колена, болталась на полоске кожи. Видно, лошадь ногой попала в какую-то нору.
Мимо, нахлестывая лошадь плетью, промчался казак. Он едва не растоптал упавшего, но и не оглянулся. Проскочили и еще несколько казаков. Пашка, ожесточаясь, рванул коня, с величайшим усилием остановил его и в приподнявшемся всаднике с удивлением и беспричинной робостью еле признал своего командира сотни, подъесаула Свистунова. Все лицо подъесаула было страшно обезображено: нос, щека и губы были совершенно ободраны, на лбу – кровь и ссадины.
– Хватайсь, вашблародь!
Офицер стремительно шагнул раза два, но вдруг лицо его перекосилось, и он сел.
– Проклятье! Я разбился, казак. Пр-рокля-ятье!..
Пашка, не раздумывая, метнулся с коня, помог подъесаулу взобраться в седло, и когда рвавшийся, дрожащий конь прыгнул, Пашка, уже держась за ремень стремени, громадными скачками побежал рядом.
Федор услышал за спиной тяжелый храп и покосился: слева, у хвоста его лошади, раздувались огромные темнокрасные ноздри чужого коня, а налитый кровью глаз коня глядел каким-то страшным стылым взором, не мигая. Вид этих вывернутых наизнанку ноздрей и кровяного глаза наполнил Федора животным ужасом – смерть была уже рядом. Но инстинкт самосохранения властно управлял его действиями. Он перекинул шашку из правой руки в левую, привстал на стременах и со всею силой махнул наотмашь.
Он не видел того, как шашка, чмокнув о череп коня, впилась концом в глазную впадину. И в тот момент, когда над его головой уже навис палаш баварца с тусклыми широкими долами, раненый конь вздрогнул всем телом и взвился. Палаш свистнул, но рассек только воздух и едва зацепил плечо Федора. Конь, сделав «свечку», мгновение постоял на задних ногах, попятился и, подмяв всадника, упал на спину. Федор ничего этого не видел, но, нанеся удар, почувствовал неизъяснимое облегчение.
Вдруг над полем плеснулось дикое тягучее тысячеголосое: ги-и-и… ги-и-и… а-а-а… Федор поднял голову и только тут заметил, как встречь ему сплошной, затмившей горизонт лавиной катилась конница. Леденя душу, блестела сталь шашек. Конь, уже не управляемый, нес Федора к этой лавине, и она молниеносно приближалась, грозя раздавить и втоптать в землю. С трудом разодрав склеенные потом и слезами ресницы, Федор различил на всадниках красные полосы лампас. Бурная, пьянящая радость, такая радость, которой он в своей жизни никогда еще, кажется, не испытывал, потрясла его. Мимо Федора на высоком, стлавшемся в намете дончаке, подняв шашку, промчался коренастый, с погонами полковника, командир. От него, не отставая, плотной, пока еще не раздробленной стеной скакали казаки.
Федор ли повернул коня, сам ли конь, очумевший, как и его хозяин, был увлечен встречным потоком, но теперь Федор скакал уже в обратном направлении.
К короткой молчаливой схватке, которая произошла между столкнувшимися передними рядами баварской конницы и подоспевшими на выручку казаками 18-го полка, Федор не успел. Он видел только впереди себя невообразимое месиво из людей и коней: сползали с седел баварцы, сползали казаки, метались без всадников кони. На Федора едва не наскочила обезумевшая лошадь, несшая рослого, неестественно согнутого в седле баварца. Тот носом уткнулся в гриву, намертво обнял шею лошади и все еще держался в седле, но одна нога, обутая в сапог, уже безжизненно болталась, и о кованый каблук его глухо позвякивало стремя. На том месте, где у баварца была щека, кровоточил кусок мяса и торчала отесанная кость.
Баварская конница была смята. Отдельные, вразброд уходившие всадники настигались казаками и под взблесками их шашек никли.
Вдруг Федор почувствовал, что в воздухе появился какой-то странный шум, похожий на тот, который производит летящая над головой стая скворцов; затем из этого шума стали выделяться тонкие, пронзительные высвисты, отчего голова сама по себе начинала клониться все ниже, и наконец донеслось неумолкаемое, трескучее: трррр… та-та-та… Трах, трах… трррр… Отрывистый клекот многих пулеметов, и залпы, залпы вперебой. Залегшая пехота противника открыла сокрушительный огонь.
Кони начали кувырком падать. Летели с седел казаки. Ливень свинца все усиливался. В какую-нибудь минуту передние ряды легли наповал. Меринок под Федором вдруг споткнулся, упал на колени и, поджимая голову, медленно рухнул. Изо рта его клубками – розовая пузырчатая пена. Федор, ничего не соображая, выдернул прижатую ногу и вскочил. Вокруг него разноголосо пели и посвистывали пули. Одна щелкнула о камень, лежавший под его ногами, и басовито зажужжала в рикошете. Федор непроизвольно бросился на землю. Он лежал на пологом холмике, прятал за камень лицо и не чувствовал, как из-под разрезанной на плече гимнастерки сочится кровь. Бессмысленный взгляд его шарил по рябому ноздреватому боку голыша, покрытому старой паутиной…
Но вот Федору показалось, что залпы становятся слабее, неувереннее, пулеметы умолкают. Сквозь жидкую трескотню выстрелов прорвалось протяжное, завывающее: ра-а-а!.. а-а-а!.. И – тишина. Федор выглянул из-за камня: по всему полю врассыпную бежали люди в шинелях, кучками, в одиночку; кое-где он видел людей с поднятыми руками. Над толпами плененных пехотинцев дыбились кони (после Федор узнал, что это были полки 3-й кавалерийской дивизии, ударившие по флангу и тылу).
Все было кончено.
Федор, морщась от боли в плече и колене, которое ушиб при падении с коня, вяло поднялся, бледный, растрепанный. Гимнастерка на нем перекосилась и с одной стороны выбилась из-под пояса. Шашка торчала за спиной. Покачиваясь на непослушных ногах, Федор долго тер ладонью дергавшуюся бровь. Перед ним лежало бурое унылое поле, сплошь устланное трупами. Солнечные лучи сквозь облака, забинтовавшие небо, сочились скупо. Бились и хрипели в предсмертных судорогах кони. Стонали люди. Кое-где маячили уцелевшие, как и Федор, казаки. Неподалеку с опущенной головой, пошатываясь, ходила лошадь. Грудь ее, продырявленная, видно, не одной пулей, была вся в кусках запекшейся крови. Тут же ничком без фуражки лежал казак, вытянувшись во весь рост. Одна рука его со скрюченными пальцами упиралась в лампасину, другая отброшена вперед – рукав гимнастерки по локоть засучился; под сапогом мерцала шашка. Федоров меринок все еще дрыгал ногами, пытался привстать. По телу его волнами пробегала судорога, и короткая светло-рыжая шерсть на нем лоснилась. Широко открытый глаз его с мольбой и недоумением был устремлен на хозяина.
Федор будто очнулся ото сна, и в груди его закипело. Он подошел к меринку, опустился на колени и поцеловал его в бархатистую, объятую дрожью переносицу. Потом, глухо стоная, упал на чужую неласковую землю, и плечи его затряслись. Из-под разреза гимнастерки соскользнула исчерна-розовая загустевшая капелька крови и долго, не впитываясь, краснела на солончаке.
III
Напрасно бабка Морозиха, угождая внучке, истоптала по кочкам свои единственные праздничные гамбургского товара штиблеты, которые тридцать лет по годовым праздникам украшали ее ноги. Она все бегала тайком то к Березовой Лукерье – пошептаться с ней о предстоящем «деле», уговорить ее быть с внучкой помягче, пообходительней; то к сватам Абанкиным, к Наде – наставить неопытную внучку на ум, подтолкнуть ее на ту тропку, по которой она должна пройти, чтоб избавиться от вековечного позора. Все ее хлопоты пропали даром: советов бабки Надя не хотела слушать.
И напрасно сморщенная, сухонькая, уже потерявшая счет своим летам повитуха Лукерья, губя майские засушенные травы, оттапливала их, грела воду, готовилась к очередному врачеванию. Надя не пришла ни в ту субботу, которую назначала бабка, ни в следующую.
Тогда обе старухи ополчились против Нади. Бабка Морозиха, обиженная ослушанием и упрямством внучки, перестала к ней наведываться: пускай, срамотница, расхлебывает как знает! Глядеть на сватов и хлопать от стыда глазами она не хочет. Лукерья же, затаив обиду за то, что Надя не почтила ее ремесла – не иначе, пойдет к какой-нибудь другой повитухе, обнесла ее и честью и богатой подачкой, – и, мстя за это, растрезвонила по хутору:
«Господи, времена пришли, виданное ль дело! Не успели повенчать – и что ни видишь кстить будут. Хоть бы Абанкины. Взяли сноху, обрадовались! Она и под святым венцом-то стояла с «приданым», брюхатая».
Молва эта сорочьим стрекотом вкривь и вкось разнеслась по улицам и не замедлила ворваться в дом Абанкиных. В семье их поднялся невероятный переполох. Наумовна как только услышала об этом – заохала, застонала и слегла в постель, потребовав фельдшера: делать примочки. Так вот оно, оказывается, в чем разгадка! Вот, оказывается, почему эта тихоня все прячется от людей, день-деньской сидит в спальне! А она-то думала… Петр Васильевич посуровел, надулся и, наводя порядок во дворе, молча ходил, важный и недоступный. За ним на цыпочках по пятам следовал Степан. Вытягивая худую шею и сутулясь, он на лету ловил каждое его мычание, каждый взгляд исподлобья и держал себя так, словно он-то и был виноват, что не смог уберечь хозяйский двор от непрошеных новостей.
Трофим сгорал от злости, морщился, желтел в лице, но крепился. Шутка сказать! Ведь конфуз прежде всего падает на его чубатую неповинную головушку. Над ним же в первую очередь будут издеваться люди, поднимут на смех. Держал про себя одну горькую супружескую тайну, держи и другую – еще горше и тошнее. Ротозейничал – так теперь крепись. А счеты с женой своди наедине.
Случилось так.
В воскресный день утром, когда облачное небо сорило снегом, Трофим, направляясь в лавку за папиросами, шел по улице. Обедня в церкви только что окончилась, и из ограды тянулись люди, все больше женщины в разноцветных одеждах. Мимо Трофима стремительной походкой пронеслась Феня. Новая ластиковая кофта на ней тонко шелестела, юбки с кружевными пестрыми оторочками рябили в глазах. На приветствие Трофима она кивнула головой и непонятно, загадочно улыбнулась. «Чего это она? – удивился тот и, взглянув ей вслед, позавидовал: – А бабенка-то она ничего, мягкая, сдобная». Неподалеку от магазина дорогу Трофиму перешла Надина сверстница Лиза Бережнова, та самая бойкая девушка, участница посиделок, что втайне ждала и не дождалась от него, Трофима, сватов. Эта, увидя Абанкина, уже откровенно и, как тому показалось, ни с того ни с сего хихикнула. То ли – по молодости, то ли рада была хоть немножко отомстить за несбывшиеся надежды.
– Ты чего? – спросил Трофим, шагнув ей наперед. – Деревянную железку нашла?
Та надула щеки и захохотала пуще.
– Чего регочешь-то? – Трофим нахмурился. – Рада, что в голове легко?
– Спрашиваешь! – едва удерживая смех, запрокидывая голову, сказала Лиза, – Будто и не знаешь!
– Не знаю ничего. А что?
– Да все то же, над чем все смеются.
– Ну?
– Вот и ну! Не запряг еще, не нукай.
Из обшлага рукава она достала вышитый снеговой белизны платочек и потерла им острый вздернутый носик.
– Крестной кумой ты возьмешь меня. Ладно? – подмигнув, начала она заговорщическим тоном, и верхняя тонкая губка ее все время язвительно топорщилась, – Я уж один раз кстила. Умею. Ведь жена твоя родить собирается. Вот людям и на диво – только что, мол, свадьбу глядели, ан уж скоро наследника глядеть будут. Молодцы, говорят. Вы-то молодцы. В два счета…
Разрумянившееся от мороза лицо Трофима вдруг побледнело, потом покраснело, и он, щурясь, шарил слепым взглядом по нарядной фигуре девушки. Во взбудораженных мыслях его беспорядочно замелькали догадки, одна верней и несомненнее другой; столько признаков, которые явно подтверждали беременность жены, припомнилось ему. Выходит, уже весь хутор знает, а он до сих пор и не подумал об этом! Ну и простофиля! С минуту Трофим растерянно переступал с ноги на ногу, нахлобучивал до бровей свою мерлушковую с позументами папаху и, овладев собой, отвернувшись от Лизы, сказал с преувеличенной живостью:
– Нашли чему удивляться! Я уж думал – взаправду что-нибудь! Ну и народ! Все ему надо. Мы с Надькой еще до венца жили. Чего же тут… особого.
Лиза недоверчиво посмотрела на него – вздернутые носик и верхняя губка делали ее лицо озорным и насмешливым – и пошла своей дорогой.
В магазине, как в любой праздник, толпились люди. Одни входили, другие выходили. Из церкви – прямо сюда: поделиться новостями, позубоскалить, повздыхать на пустые полки. Трофим суетливо протискался к прилавку, ни на кого не глядя и дерзко отжимая людей локтями, купил папирос и, так же ни на кого не глядя, сбежал с крылечка. Он даже не заметил (по правде говоря, он только сделал вид, что не заметил) своего тестя Андрея Ивановича, стоявшего в уголке. Тот – в отрепанном сюртучишке, посиневший от холода, жалкий – тянулся на носках, высовывал голову из-за чьей-то в обхват спины и умильно взглядывал на зятя. Ждал, когда тот подойдет к нему или, на худой конец, поклонится. Слушки уж докатились до него, и он хоть мало верил им, но к зятю подойти не решился. «А ну-к да в самом деле…» Оно так и получилось: зять скользнул но нему взглядом, сдвинул брови и не поздоровался. Андрею Ивановичу стало не по себе: знаться не хочет, серчает, – значит правда… «Ах, су-укина дочь, настряпала делов! Теперь сваты и на порог не пустят. Ми-лушки, чем же я виноват? Пропало все! Все рухнуло! Ведь сваток Петро Васильич мне поддержку сулил. Как же быть-то теперь, а?..»
Из лавки Трофим должен был зайти в правление, где лежало письмо от брата Сергея, но сейчас ему было не до писем. С плаца он круто свернул в Большую улицу и зашагал, почти побежал домой. Шел, сунув руки в карманы, и толстые, короткие, как у отца, пальцы сжимались в кулак. Противоречивые жалкие и злые мысли скакали вперегонку: «Пригульным меня наградила… Пригульным? Меня-я! И ни слова мне. Не-ет, дело не пойдет. Не пойдет такое дело. Прибью, выгоню! Змею такую – вон!» Но сам он чувствовал, что не сделает так – прогнать Надю сил у него не хватит. Чувствовал, что без нее жизнь его станет пустой. И это озлобляло его еще больше. «Пускай придушит в утробе, чтоб и на свет не появлялся. Жить пригульный не будет. Подушкой задушу! Не-ет, не дам ему жизни!..»
А Надя в это время, ничего не ведая, была на редкость спокойна. Нынешний день у нее радостный: ждала бабку. Ведь только она единственная могла принести весточку от Пашки. Оттого Надя была нынче бодрая, веселая, и глаза ее, чуть впавшие, лучились теплотой. От брата – а ведь там и Федя – давно уже не было вестей. Пора бы! Знает ли он, Пашка, обо всем? Из того письма, адресованного отцу, которое Надя читала, этого не видно. О ней только и упомянуто там: «Поклон сестрице». А Федя? Слыхал ли он?
В прошлое воскресенье бабки почему-то не было. Должно, испугалась слякоти – весь день моросил дождик. А ныне сухо, морозно, и бабка вот-вот должна стукнуть костылем в дверь (о ее зароке и о всех пересудах Надя еще не знала). Поджидая, она убирала комнату. Нарядила кровать своим тканьевым девичьим одеялом, на окна повесила свежие занавески. С трудом отодвинула от стены сундук, обитый железом, – не сплошь, а полосами, – вымела из-под него сор. Когда сундук стала придвигать на место, вдруг вскрикнула от резкой боли в животе и согнулась. Щеки подернулись мертвенной бледностью, в глазах потемнело, и на лбу выступил мелкий зернистый пот. Под сердцем зашевелилось живое, требовательное и настойчиво раз за разом потолкало в бок.
В комнату, дрожа от бешенства, ворвался Трофим. Не говоря ни слова, вскинул кулаки и подскочил к Наде. Но взглянул на нее и опешил. Та, неузнаваемая, стояла все в той же позе: вялая, согнутая, с бледным искаженным лицом. Трофим разжал кулаки и в замешательстве отступил от нее.
– Вот… вот… – начал он, глотая слова. – Видишь вот. Довела себя, ишь! Довела! И мне – ни слова.
Надя облизала сухие бескровные губы, разогнулась.
– Придвинь сундук, пожалуйста, – слабо попросила она.
Трофим в ожесточении громыхнул сундуком, стукнул им о стену и, не раздеваясь, зашагал по комнате. Надя сбросила с себя штиблеты, с трудом взобралась на кровать и прилегла. Трофим, как маятник, качался по комнате.
– Ты что ж, кумушка, до сей поры ничего мне не сказала? – спросил он сурово, хотя и негромко, и, подрыгивая ногой, задержался у изголовья жены, – Думала, пройдет? Как-нибудь, мол, рассосется. Так, что ли? А оно вот не прошло. Показалось наружу. Какой уж месяц-то? Народ проходу не дает. Проклятые! И откуда они все знают?
Надя молчала. Ее немигающий и как бы удивленный взгляд был обращен внутрь себя. Она о чем-то тяжко и напряженно думала. На висках ее бисерными капельками все еще лоснился пот.
– Откуда люди знают? – раздражаясь ее молчанием, повысил Трофим голос. – А я не знал. Ты это как же?.. На что надеялась? Навязать на мою шею найденыша? Так, что ли? А мне он не нужен, нет, избавь. И тебе не позволю. Как хочешь, а найденыша быть не должно. Не должно быть! Сходи к повитухе – и чтоб и следа не осталось. Нынче же! Я сам найду повитуху, столкуюсь.
Надя повернулась лицом к Трофиму. В ее больших, широко открытых глазах вспыхнули голубоватые огоньки. Те самые отчаянные огоньки, которые Трофим один раз уже видел – в день сватовства, когда она так неожиданно убежала от него.
Трофим взбеленился, у него даже дыхание сперло, но и струсил в то же время: «Черт, круженая, от нее всего можно ждать. Как раз удумает…» Сдерживая рвущуюся наружу ярость, весь передергиваясь, он заговорил каким-то стенящим, не своим голосом:
– Ведь посуди ты сама, ну! Посуди! Я добром с тобой, по-хорошему. А ты… Сказал, что это… что мы до венца с тобой жили. Не выдал тебя. И ты говори так. Но как же можно самое… допускать! Смеешься этим… самым.
Надя, не меняя положения, тихо и твердо сказала, как бы самой себе:
– Больше об этом никогда не говори мне. Понял? Никогда!
– Ка-ак не говори! – Трофим бешено подпрыгнул и топнул сапогом. С кулаками он снова подскочил к Наде – та отшатнулась к стене, – но, не донеся до нее кулаки, Трофим разжал их и обеими руками вцепился в свой влажный растрепавшийся чуб, заметался по комнате. – Боже ж ты мой, навязалась на мою шею! Боже…
Надя порывисто привстала на кровати. Умоляюще глядя Трофиму в глаза, она попросила:
– Труша, родной, отпусти меня за ради Христа!.. Отпусти, не мучь. И себя не мучь, и меня. Я уйду. Отпусти.
Трофим, пристыв к полу, вытаращил на нее глаза и руки уронил.
– Ты… ты это… Лежи, лежи! – всполошился он. – Ишь ты, замучилась! Все никак дурь свою не выбросишь! Надумала! А то под замок посажу. Придет время… лежи! – С языка едва не сорвалось то, что в этот миг внезапно подумал: «Придет время, – может быть, сам выгоню». Он достал из кармана портсигар, закурил – пока ловил в портсигаре папиросы, сломал две штуки – и, хлопнув дверью, вышел.
На крыльце Трофим затянулся, постоял у перил и, облокотясь, выцедил папиросу без передышки. Через двор к колодцу Степан вел под уздцы рысака. Чуть косолапый, вычищенный до блеска пятилеток широко разбрасывал ноги, рвался из рук и, скалясь, выгибая шею, норовил поймать Степана за плечо. «У-у, зверюга! У, лодырь!» – покрикивал тот и, пыжась, всею силой тянул коня за повод книзу. Под навесом у тарантаса топтался Петр Васильевич. В громаднейшем черного сукна тулупе и черной шапке, он был похож на медведя. Собираясь в дальнюю дорогу, на станцию, в Филоново, он охорашивал сиденье, укладывал полость. Трофим, немного успокоенный, спустился по ступенькам и подошел к нему.
– Ныне, должно, вряд ли обернешься, – сказал он, выкатывая тарантас, – уже не рано.
– Знычт, вряд, да. Делов много. Заночевать придется.
– Там что… Насчет того сена, что на постоялом дворе… Все не отгрузили?
– Да все нет пока. Мошенники такие! Ждут, когда подмажешь.
Они еще перекинулись несколькими деловыми фразами, стараясь не встречаться взглядами, но каждый думал о другом. По голосу и лицу старика Трофим понял, что тот уже знает обо всем и, кажется, хочет по этому поводу сказать что-то серьезное. А Петр Васильевич, как только увидел Трофима на крыльце, тут же убедился, что то, что он слышал, правда.
Может, я, батя, поеду? – неожиданно вызвался Трофим.
Старик грузно повернулся к нему, откинув полу, и вприщур – по своей манере – оглядел его с ног до головы. «Так-так, сынок, дожили! Ничего себе… Бывало, от молодой жены силком не оторвешь, со двора не выгонишь, а то сам напросился. Вот они дела… семейные». Угрюмо спросил:
– Ты слыхал про новостишки-то? О чем народ болтает, знаешь?
Трофим смутился. Нагнувшись, попеременно подтянул голенища сапог, хотя это и не нужно было.
– Неладное болтают! Скверное! – Петр Васильевич подвигал челюстью, и окладистая борода его шевельнулась.
– О Надьке, что ли?
– Да.
– Пускай болтают! – Косой блуждающий взгляд Трофима пополз по необъятному подолу отцовского тулупа. – Мы с ней до свадьбы жили. Нашли диковину!
Старик шумно вздохнул, оживился:
– Нешто так? До свадьбы жили? Эк ведь!.. Ну, это, знычт, полбеды, ежели так. Пустяк! Я-то испугался. А это, знычт то ни токма… пустое! Уж тут было такое поднялось… Ну что ж, поезжай, коли хочешь. Только вот что. Первым долгом загляни к Власычу – знаешь? Мы как-то с тобой были у него, – сунь ему синенькую, а уж тогда с ним вместе… – и подробно рассказал о том, как и что нужно будет сделать на станции.
Через несколько минут Трофим, не жалея рысачьих сил, летел по обезлюдевшей, голой, чуть припорошенной снегом степи. Пусто и мертво на длинные десятки верст. Лишь блеклые придорожные кусты трав да грачи напоминали о недавнем великолепии степной жизни. Стаей переселяясь куда-то, грачи роились над тарантасом, обгоняли его и никак не могли обогнать.
Вечером, наспех управившись с делами, Трофим решил рассеять кручину. Хозяин пустующего по случаю войны трактира помог ему в этом.
Было уже около полуночи, когда Трофим, пьяный, разомлевший от духоты, сидел наедине с грудастой, на голову выше его девицей и угощал ее леденцами. В тесной, но уютной и чистенькой комнатке, обставленной по-городскому, было жарко натоплено. На столе в беспорядке громоздились консервные банки, рюмки, стаканы, всякая снедь, а посреди всего – ополовиненная бутылка водки. Трофим расслабленно покачивался на стуле, сплевывал под стол, туда же совал и окурки и с ненавистью озирал свою случайную напомаженную подругу. Ее ужимки и городские «финтифлюшки» Трофима раздражали. Он возненавидел ее с той минуты, когда она, поднимая рюмку, брезгливо сморщилась и сказала: «Фи, гадость! Я привыкла не такую пить!» – «Шваль какая! – подумал тогда Трофим, – Тоже мне!.. Корчит из себя…»
Девица, закинув по-мужски ногу на ногу, сидела против гостя. Она поминутно откидывалась на стуле – сквозь вырез кофточки на груди выглядывала, дразня Трофима, полоска тела, – закатывала глаза под лоб и, дергая за струны гитары, подпевала. Голос у нее был горловой, осипший. На цыганский мотив томно вскрикивала: «Эх, все равно жисть наша – пропащая!..» Ветхая, плохо настроенная гитара издавала дребезжащие звуки, гудела, и в тон ей где-то неподалеку на путях трубил маневрирующий паровоз. Девица угождала гостю с большим рвением, ее даже пот прошиб. Трактирщик успел шепнуть ей: «Постарайся, у этого сиволапа денег – куры не клюют». Но гость плохо внимал музыке: облокотясь о стол, он подпирал рукой взъерошенную отяжелевшую голову, кривил губы, подремывал.
«И-эх, все-о равно!..» – еще неистовей взвизгнула девица.
Трофим вскочил:
– К черту! Надоело! – Вырвал из рук растерявшейся девицы гитару и швырнул ее на сундук. – Разбирай кровать, довольно! И так тошно. Свет гаси!..
…А Надя в это время, бередя больное, изглоданное тоской сердце, писала Федору. Адрес его она узнала из письма брата. Огрызок химического карандаша еще засветло нашла в карманах старых мужниных брюк, а четвертушку курительной бумаги выпросила у Степана.
В доме давно уже улеглись последние шорохи, смолкли приглушенные голоса. Тихо. Лишь в спальне молодых на двуногом угольнике трещала, выгорая, лампа. Над угольником – низко склоненная голова Нади. Изредка за стеной кто-то простуженно бухал, кашляя – в комнате рядом помещались работники, – Надя вздрагивала, бесшумно поднималась и на цыпочках шла к двери, ощупывала крючок. Окна были закрыты ставнями, а изнутри еще одеялами: случайно вернется Трофим – чтоб не подсмотрел.
Столько хотелось сказать Федору, родному, любимому, единственному, а клочок бумаги такой маленький, измятый! Роясь в памяти, она мучительно подбирала слова – что понежнее – и все ниже склонялась над столиком. Лампа слабо помаргивала, и на оштукатуренной стене позади Нади трепыхалась тень. Слезы неудержимо наплывали на глаза, висели на ресницах, и карандаш капризно полз с угла на угол. Он попадал на сырые, густо разбросанные по бумаге пятна, и под ним вместо букв росли жирные уродливые закорючины.
А за окном, час от часу свирепея, лютовала метель. В этом году – первая. С вечера потянул всегдашний низовой ветер, гнал тучи, порошившие снег. К полуночи ветер разыгрался, забушевал уже напропалую – завывал, свистел, кружился, налетал на хутор то с востока, то с юга, снег валил хлопьями, и в зыбком непроницаемом мраке тонуло все. На колокольне, чтобы помочь заблудившемуся путнику, редко и протяжно, как по упокойнику, звякал колокол.








