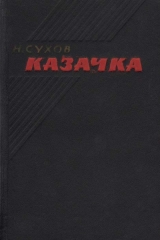
Текст книги "Казачка"
Автор книги: Николай Сухов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 41 страниц)
X
Так вот оно – как в жизни бывает! Вот когда они, враги новой власти, кадеты, пошли на ревком с винтовками! Не побоялись и ссоры со «своими» людьми. А Федюнин все боялся этого. Сам ежели не боялся, так тянулся на поводу у других, тех, кто думал революцию провести, так сказать, по-семейному.
Разные по хутору закружились слухи, после того как Федюнина, а затем и Федора Парамонова втолкнули в амбар. По одним слухам – завтра их, ревкомовцев, выведут на плац, разложат прямо на дорожке, на сырой землице, спустят с них штаны и всенародно всыплют им витых плетей, да так, чтоб и впредь неповадно стало. И делать это будет не разиня-полицейский, а вахмистр Поцелуев. Этому сподручнее.
По другим слухам – сечь их не будут, а просто-напросто посадят на подводу, спокойно, без скандала, и отвезут к станичному атаману. А тот переправит их к Дудакову, в Алексеевскую. Не так уж далеко это. Столько же примерно верст от хутора, как и до округа. Только в ином направлении: не на запад, а на юго-запад. «Народный» организатор Дудаков сам таких уму-разуми учит: «Именем круга спасения… согласно приказа…. статья сорок два» – на косогор, в песок, где ямы роются и засыпаются без особых хлопот.
Хуторян, которые злорадствовали, передавая эти слухи другим, было не так уж много. Но все же иных предположений об участи арестованных никто из хуторян, и даже благожелателей, не высказывал. И выручить их из беды никто уже не мог.
* * *
У Нади от нервного озноба подрагивали под сукном шинели плечи. Засунув хрупкие руки в карманы, еще таившие тепло комнаты, она стояла под окном парамоновского пятистенка, за воротами. Шалый ветер рвал ее походную кавалерийскую шинель, хлопал полами о голенища армейских, уже истоптанных сапог и, вскакивая на крышу, чиненную и перечиненную камышом, шуршал, стонал и визжал там, под застрехой, в воробьиных прошлогодних и свежих гнездах. Надя дышала резко, всей грудью. Сквозь редкие голые деревья в соседском палисаднике она глядела в улицу, в ночную сгущавшуюся чернь, исколотую желтыми огоньками ламп. Она глядела сухими, широко раскрытыми глазами, не мигая. Оттуда, из-за палисадника, вот-вот должен был показаться Мишка. А с ним, может быть, и брат.
Окно, под которым Надя стояла и через которое из хаты доносились женские выкрики, было изнутри освещено, и перед Надей на земле лежала узкая полоска света. Четкая полоска эта, вырывавшая из темноты кусок плетневой изгороди и часть дорожки, присыпанной песком, то гасла, то появлялась опять. И Надя знала: это Баба-казак загораживала лампу; это она, придя к Парамоновым, родне по горю, все бушевала в хате, кляла атамана, угрожая выцарапать ему и полицейскому бельма.
Вечером, когда в амбаре Федюнин был еще один, Баба-казак ходила туда, на плац, с обгорелым цапельником под мышкой: думала своими силами вызволить муженька. И уж было поддела замочную накладку. А полицейский тут как тут: поймал ее за бок – аж синяк вскочил – и вон со ступеньки. Она кинулась на него, что наседка на коршуна, но где там, разве же одной ей совладать с таким верзилой! Лишь этих бесенят-подростков приманила: сбежались со всех концов, словно бес им шепнул, и подняли гам.
Баба-казак все тужила, что ни Надя, ни Матвей Семенович не могли подпрячься ей под пару: Надя беременна, а старик болен. Утром находился по полю, провожая Алексея, и заохал опять. А услыхал про Федора – и вовсе: ткнулся ничком в постель и головы не поднимает. А ежели-де кто мог бы из них помочь ей, то вдвоем они, пожалуй, одолели б полицейского. Что из того, что у него не только шашка на боку, но к ночи и винтовка в руках появилась! Это, мол, так, для острастки. Как можно в своих людей стрелять!
Смешная, смешная Баба-казак, простая душа! Ей и невдомек, о чем говорили хуторяне, – кто в тревоге, а кто и в злопыхательстве. Она думала, что все это, как у казаков случалось: друг другу в спорах залепят по морде, и рядышком – в шинок, мириться. Думала, что люди в людей стрелять могут только где-то там, вдалеке, на чужбине. И уж, во всяком случае, не на хуторе, где все в одной купели купаны и вокруг одного аналоя окручены.
Ветер на минуту притих; шуршание над головой ослабло; и тут Наде почудились шаги, еще далекие, чуть-чуть слышные – в той стороне, куда она глядела. Ночь была черным-черна, и Надя ничего уже не видела, кроме двух-трех едва различимых верхушек деревьев, самых высоких. Она вынула из карманов руки, быстро пересекла полоску света и остановилась возле огромной, заслонявшей небо раины – к ней вплотную подходила изгородь.
Шаги зазвучали ближе: черк-черк-черк… – часто и легко; топ… топ… топ… – редко и гулко. Надя поняла, что брат тоже идет, и от души у нее отлегло. Она не обрадовалась этому, нет – какая уж тут могла быть радость! – а именно почувствовала некоторое облегчение.
Ждала она брата нетерпеливо, ждала его независимо от того, к чему придет их разговор. Даже больше: она предвидела исход этого разговора; потому-то, чтобы не терять даром время, и была уже одета по-походному. И брат ей нужен был для другого.
Две фигуры – одна высокая, другая вдвое ниже и чуть впереди – приблизились к углу парамоновского палисадника и свернули в узкий, между двух плетней, проулочек, ведущий к воротам. Вдруг низенькая фигурка как-то встрепенулась, подпрыгнула на месте и мигом подкатилась к Наде.
– Ты тут, тетя Надя? Вот и мы! О-о-о, и темно! – обрадованно и с какою-то лихостью защебетал Мишка и прижался щекой к колючему Надиному локтю.
Она молча взглянула на брата, который остановился было в нескольких шагах, но тут же вслед за Мишкой качнулся к ней, и торопливо склонилась над племянником. Обняла его за маленькие округлые плечи – движения у нее были беспокойные, быстрые, но, как всегда, мягкие, – Притянула к себе и опять-таки торопливо, но нежно поцеловала. Поцелуй ее пришелся в горячий и влажный от пота Мишкин лоб.
– Молодец, Мишенька! – сказала она тихо и не своим обычным голосом, веселым и немножко будто бы подтрунивающим, а скорее грустным и немножко будто бы отчужденным. – Молодец! Теперь пока все, Миша. Беги в хату… Спать. Беги! – И, еще раз прикоснувшись к его разгоряченному лицу губами, нетерпеливо, но ласково подтолкнула.
Мишка хоть и без охоты, а все же послушно пошел к воротам.
Пашка выжидающе стоял, привалившись спиной плетню. Шумно вздыхал, покряхтывал, как столетний дед. Колья у ветхого плетня были уже подгнившие – плетень трещал и выгибался. Хорошо, что раина его подпирала и упасть он не мог. Лица Пашки не было видно, и Наде трудно было поверить, что рядом с ней стоял, окутанный мраком ночи, именно он, Пашка, родной ей человек. Но запах сундука, исходивший от этого человека, тот особый гниловато-пряный запах, в котором одновременно слышались и нюхательный табак, и помада, и нафталин, и бог знает что еще, всякие бабки-упокойницы снадобья – этот запах для Нади был родным, знаком с самых малых лет.
Вдруг сердце у Нади нестерпимо заныло, хотя она и предвидела «это». Ей без слов стало все ясно. Человек, привалившийся, как старик, к плетню, ее однокровный брат, который раньше ни в жизнь не дал бы ее в обиду, теперь все равно что чужой. Как бы иначе, если бы это было не так, мог он, неугомон и острослов, торчать сейчас немой тенью, вздыхать и кряхтеть! Значит, он не только уже обо всем наслышан, но и не собирался что-либо делать, никуда не спешил. И, значит, она, Надя, не зря, одеваясь по-походному и дорожа временем, рассчитывала только на себя, на свои силы.
Пашка, в свою очередь, прислушивался и присматривался к сестре с чувством скорби. Ему было жалко ее. Но что же мог он сделать! Он сразу же, как только увидел на ней не домашнюю одежду, а ту, какую привык видеть на фронте, угадал ее настроение и понял, что помочь ей ничем не может и что советы, которые он приготовил за дорогу, идя с Мишкой, будут напрасными.
А посоветовать он ей хотел было то, что считал самым разумным: пусть Федор отречется от ревкома, и тогда его, мол, выпустят. Он, Пашка, этого добьется. Грудью за него станет, и тронуть его никому не позволит. Поехали бы о ним в поле землю пахать. Эх, милое дело! Тут тебе всякая травка цветет и пахнет; и букашки ползают, греют на солнце спинки и мохнатенькие брюшки; над головой жаворонки заливаются… Плевать на всех этих кадетов, атаманов, комиссаров!
Они минуту молчали.
Ветер поднялся опять, и ветви старой огромной раины, наполовину сухой вверху, заскрипели и застонали. Откуда-то с наветренной стороны, кажется с плаца, донеслись обрывки мужских неясных голосов. И уже одно то, что голоса эти донеслись с плаца, вселяло тревогу. По дороге, над двором Парамоновых, глухо и прерывисто зашуршало, будто кто-то мимо прошел. Тут же в улице тявкнула соседская собака и, заскулив, пугливо метнулась к своему палисаднику.
Пашка хотел было закурить. Свернул цигарку, вытащил из кармана спички. Но погремел коробкой и спрятал ее обратно в карман.
– Струсил, Павел, а? – сказала Надя. Она сказала это с той беспощадностью, которая в иные минуты поднималась в ней, и так, словно бы с мучительной болью, выносила приговор самому близкому, не оправдавшему надежд человеку.
Пашка, уязвленный ее вопросом, который прозвучал слишком утвердительно и обидно, повременил с ответом.
– Это уж ты напрасно, сестра, ей-бо! – сдержанно укорил он. – Говоришь, а сама небось не веришь. Чего бы мне трусить! Тебя жалко. Только и всего.
– Жалко? Так чего же мнешься? Чего же ты отираешь плетень? – внезапно вспылив, повысила она голос и свела его на горячий трепещущий полушепот. – Надо же скакать… на крыльях… в округ. Надо добиться подмоги. Немедля! А мы стоим, плетень подпираем. Может, из наших ускакал уже кто – не знаю. Но знаю, что медлить грешно. Я… тебе известно… мне трудно сейчас… А ты… ты бы сделал. Ты бы все сделал, кабы захотел! Федор…
– Я не могу-у этого захотеть, сестра! – с каким-то стенанием перебил ее Пашка, задвигав и руками и плечами. – Это же не по семейному делу… Если б, положим, тебя Трофим обидел, я бы голову ему оторвал. А тут не могу! Я же говорил вам с Федором. Что же еще… Что вы от меня требуете? Не могу! Кадеты – к себе, ревком – к себе… А мне все они… Да пошли они все!.. – Пашка, задохнувшись, длинно-предлинно выругался, грубо, дико, чего раньше при сестре никогда не делал.
Она отшатнулась от него на шаг, слушая его тяжелое, всхлипывающее дыхание и ужасаясь никогда не слыханным интонациям его голоса. И трудно ей было понять, что эти истошные интонации выражали: проклятие или мольбу. Но и в том и в другом случае в них слышалось прежде всего бессилие.
С плаца снова донеслись невнятные голоса. Где-то в конце хутора, в направлении Хомутовки дробно застучали ходовые колеса. Надя, настораживаясь, повернула голову: желтых точек в улице стало уже меньше. Вверху косяками мчались дымчатые клубящиеся облака, сгоняемые ветром в один большущий табун. Там, где небо было чистым, помаргивали неяркие, отуманенные звезды.
– Дай коня… – тихо, с еле заметной дрожью в голосе, но твердо, очень твердо попросила Надя. – Помоги хоть этим. На твоем коне мне легче… Я уж привыкла к нему, и он ко мне. А Федорова строевого – не знаю, куда они его дели.
Пашка молча постоял, пораженный таким сумасбродством. Но отговаривать не решился. Да и можно ли это было делать! Уж кто-кто, а он-то, Пашка, знал свою сестру. Упавшим голосом покорно сказал:
– Конь – он мой и твой. Эх, сестра, сестра! – и, сокрушенно вздохнул. – Не было печали, так… Мне недолго, я заседлаю, что ж! Дело твое. Я не указчик. Езжай. Только, смотри, полевыми дорогами. И осторожней, не потони в балках. Шляхом – ни в коем разе!
Он вздохнул еще глубже.
– Сейчас, что ли, заседлать?.. Ну, так делай, что тебе… и приходи. Отца не бойся, не увидит.
Ушел, тяжело ступая, задевая за кочки подошвами. А Надя на короткое время заглянула в хату и поспешила вслед за ним. Правая рука ее была засунута в карман шинели. Запястье этой тонкой руки облегал темляк казачьей плети, а узкую ладонь грел теплый металл браунинга – того личного оружия, которым обзавелась Надя в бытность свою на фронте.
XI
В пустом бревенчатом, на юру, амбаре, добротном, под листовым цинком, гуляли сквозняки: саманная обмазка почти вся осыпалась, и в щели дул ветер. До войны в этом амбаре, принадлежавшем лавочнику, торговали черной бакалеей: керосином, дегтем, краской, всякими маслами – и деревянный пол его и низ стен были навек всем этим пропитаны.
Федюнин, постукивая зубами, жался в угол, вытягивал по́лы ватника, подтыкал их под себя. А они, эти проклятые пОлы, были такими короткими, чего раньше Федюнин не замечал, что и до колен не доставали. Локтем он опирался о свою вербовую ногу – сидеть она мешала, и он отвязал ее. Сквозняки кружились больше всего посреди амбара, а в углу было ничего, терпимо.
Еще вечером, когда Федюнина только что начинал пробирать цыганский пот, он поколотил вербовкой о дверь, окликнул полицейского, который, развалившись на ступеньке, бубнил и высвистывал свою всегдашнюю неизменную песенку: «Сухой бы я корочкой питалась», и попросил его послать кого-нибудь к нему, Федюнину, на дом за тулупом.
– Что? Тулуп тебе? А перин с подушками не надо? – насмешливо сказал полицейский. – Может, и милашек прикажете, господин товарищ председатель!
Федор холода пока еще не чувствовал. Ему скорее было жарко, чем холодно, хотя одет он был не теплее Федюнина. Привалившись к его плечу, глядя в аспидную темь амбара, он сидел на корточках и беспрерывно курил: высасывал цигарку и прижигал от нее очередную.
Он страшно на себя злился. И за то злился, что не смог, как он считал, выжать из своего коня лишнюю каплю прыти, не смог минутой раньше доскакать до хутора Хлебного.
– Ведь это же Блошкин и был. Он. Ей-богу! А сказать ему ничего не успел… Кадюки! – вкладывая все свое ожесточение в последнее слово, вслух подумал Федор и плотнее придвинулся к Федюнину.
Цигарка его догорала. Федор хотел было завернуть новую, чуть ли не десятую, но еще раз затянулся, пыхнул огоньком, смутно осветив свои колени, которые от конского пота были как в засохшем тесте, и бросил окурок на средину амбара. Он ощутил на языке кисло-горькую терпкость, а внутри – легкую тошноту. За весь мучительный день у него во рту маковой росинки не было! Окурок подхватили сквозняки, и в темноте амбара зигзагами замережила красноватая полоска.
– Что это за Б-б-блошкин такой? Чего ты… ф-ф… про него?… – весь сотрясаясь от дрожи, с трудом ворочая языком, спросил Федюнин.
– Бэ-бэ-бэ, бублики! – невольно вырвалось у Федора. – Встань, побегай, что ли! А то ведь окочуришься к свету, пока солнце-то пригреет, огорчишь атамана.
– П-побегай! Хорошее д-д-дело! Чем же это я… ф-ф… побегал бы?
– Ух ты, черт, я и забыл!.. Ну, попрыгай, все одно.
А через амбарную дверь, глухую, вековой прочности, в железных скрепах, сочилась все та же тоскливая, порою заглушаемая ветром песня – не песня, а дремотное басовитое мычание и дремотный чуть слышный посвист: «Тобой бы, мой милый, наслажда-а-ала-ась… Фю-фи-фу-фи-ю-у…»
Как все же получилось, что попали сюда, под замок, не те, кому тут было бы самое подходящее место, – не верховоды «дружины», – а они, члены хуторского ревкома? Вспомнилось Федору недавнее заседание ревкома, который состоял, в основном, из служивых, что вернулись домой раньше других. Судили-рядили о многом: о связи с округом, с которым никакого общения пока еще не было; о душевой дележке угодий, причем не все члены комитета соглашались включить в число душ иногородних. А о самом главном, по мнению Федора, о том, чтобы ревком сделать действительной, бесспорной властью на хуторе, – об этом никто ни слова. И Федор внес предложение: всем, кто всерьез хочет, чтоб у них была советская власть, немедленно вооружиться, – а у фронтовиков, у многих, винтовки были, не говоря уже о шашках, – и, арестовав верховодов «дружины», отправить их в округ. Иначе, мол, разговоры наши – в пользу казанских сирот. Члены комитета уткнули носы в кисеты и – словно язык проглотили; а один из них, батареец Бережнов, брат Надиной подруги Лизы Бережновой, рассмеялся: «Смотрю я, Парамонов, – зуб на Абанкиных у тебя во какой, ей-ей! Сокрушил он тебя!» Федюнин вступился за Федора, но как-то вяловато, и предложение это провалили.
– Что ж это за Б-блошкин такой? – добивался Федюнин. – Чего ты… о нем?
Федор рассказал.
– Кручинишься о прошлогоднем снеге! Чего нет – значит нет, – выговорил Федюнин уже тверже, превозмогая дрожь во всем теле и даже осилив неуемную прыть нижней челюсти: от привалившегося к нему Федора Федюнин тоже начал согреваться. – Давай-ка лучше подумаем, как вот нам…
– «Подумаем»! – раздраженно заметил Федор. – Думал индюк!.. Знаешь? Что ж нам остается теперь! Давай думать.
Он поворочался, нащупывая рукой и выкидывая из угла какие-то комки, сучья; протянул затекшие ноги – повыше колен уж очень ломило; и, подобрав под себя полы праздничной поддевки, уселся на затоптанном, замусоренном полу так, как сидел Федюнин. Потом склонил на его ребристое, худое плечо отяжелевшую голову и вдруг, вконец измученный за день, начал засыпать.
Последнее из яви – в его помутневшем сознании: в хате у них, Парамоновых, высветленной ранним солнечным утром, – сизый дымок кизяка. У печи, гремя рогачами, суетилась Настя, ласково окликала через открытую в горницу дверь дочурку, гулившую в зыбке. Надя, пополневшая, давно уже освоившая немудрую парамоновскую домашность, поскрипывая столом, раскатывала голыми по локоть руками тесто. Он, Федор, понукаемый хозяйками, собирался в лавчонку. Уходя, уже взялся за дверную скобу. Надя повернула к нему счастливое лицо, с коричневатым, чуть заметным пятном матежины над переносицей, и, как-то неспокойно улыбаясь, сказала: «Гляди, Федя, не застрянь там! Возвращайся попроворней: печка – она ждать не будет».
Кажется, было это давным-давно. Бедняжка! Ровно бы ей сердце вещало… Теперь небось мечется стрепеткой в силках, не знает, куда деть себя. А мы… я… Как все же болят ноги! Просто невмоготу. И почему это? Ах да… А где же эти самые… как их?.. Пирожки с картошкой… Что? При чем тут пирожки!..
Федюнин замер, чувствуя спиной сквозь ватник острый в стене выступ. Культяпка ноги, прижатая к вербовке со скомканными ремнями, ныла. В паху и боку начиналось колотье. Так хотелось изменить позу! Но он крепился. Слышал у щеки сонный ребячий с причмочкой всхлип, слабый хруст зубов и мерное, глубокое, несколько стесненное дыхание…
XII
Пашкин совет сестре – ехать не шляхом, а полевыми дорогами – сам по себе был, конечно, добрым и умным, но воспользоваться этим советом Надя, к сожалению, могла лишь отчасти.
Ведь для того чтобы блуждать полевыми дорогами, да еще в такое время года, и притом такой ночью, надо было, во-первых, хорошо знать эти дороги, переходившие кое-где, как известно, в еле заметные проследки, а во-вторых, надо было иметь мужскую силу, чтобы в крайности выпрыгнуть из седла, ежели конь заноровится, начнет стрянуть в каком-нибудь топком месте, и провести его в поводу. Ни тем, ни другим похвастаться Надя не могла: полевых дорог дальше Терновки она не знала, а прыжки из седла – сейчас не ее удел. Да и сколько же времени понадобится на всякие задворки и крюки, когда дорога была каждая минута!
Спору нет: ехать теперь шляхом – дело заведомо рискованное. Глаза у врагов досужие и достаточно острые. Это ясно. Но что же тут еще придумаешь, как избежишь риска, раз запахло войной! А на войне – как на войне.
Все же до Терновки Надя ехала полем, тем слабо укатанным летником, что, покружась по степи, поколесив по большущей балке Солонке с цепью разобщенных озер, выходил у слободы на шлях. Когда-то этой потаенной дорожкой Алексей Парамонов возвращался из округа домой, нагнав тут своего шурьяка Артема Коваленко с возом хлеба из мокроусовских разгромленных амбаров.
Конь, подгоняемый Надей, бежал по проследку, который едва-едва угадывался во тьме, беспокойно и нехотя.
У него всё что-то екало внутри. Озирался по сторонам, то ослабляя, то натягивая поводья, к чему-то прислушивался, чутко навостряя уши, всхрапывая. А ночь была – глаз коли: неподвижная, молчаливо-настороженная. В ней был один только звук, бесконечно-тягучий и гнетущий: ш-ш-ш… ш-ш-ш… Шумел это, резвясь, все тот же низовой ветер. Ничто его здесь, на приволье, не сдерживало, и он гулливо метался по одичалым, пустынным полям, на минуту западал, как бы спотыкаясь, и поднимался опять. Был он попутным и, обгоняя коня, подталкивал его в зад, сипел, отвевая хвост.
Редко Наде приходилось в такое время бывать в степи, в глуши одной. В глазах – ничего, кроме густого мрака да смутной кромки земли. На десятки верст – ни единого людского пристанища. Хоть бы стан какой-нибудь! Ничего – что говорило бы о живой жизни: беспредельная мгла да неуемный шум ветра. Дико, пусто и жутко.
Но сказать, что Надю брала оторопь, что ей хотелось бы повернуть лошадь, – этого сказать нельзя было. Ее сознание жгла одна мысль: только бы не засесть где! Только бы поспеть в округ пораньше, чтобы застать начальников в присутствии! Все ее тело было напряжено, каждый мускул и нерв были натянуты. Когда конь, все пугаясь чего-то, начинал задирать голову, порскать, Надины руки сами по себе, непроизвольно меняли положение: левая перехватывала отмякшие от росы поводья, а правая быстро опускалась в карман шинели и туго сжимала в нем похолодевший, на боевом взводе браунинг.
Чем ни дальше Надя отъезжала от хутора, тем конь, видно смирившись с судьбой, бежал все рысистее. Еканье в его утробе прекратилось. Из-под копыт его на пригорках неслись частые и мягкие шлепки, а в лощинах чавкала грязь.
Под Солонкой, что ближе к Терновке, чем к Платовскому, впереди у дороги вдруг что-то замаячило, какое-то продолговатое, надвигавшееся, как сдавалось, пятно. Конь фыркнул и шарахнулся в сторону. Надя едва удержалась в седле, изогнувшись, схватившись за луку. Она в сердцах огрела коня плетью и, объезжая пятно, приблизилась к нему, успела его рассмотреть: это была огромная воловья арба с поднятым кверху, на подпорки дышлом. Что еще за невидаль? Как попала сюда?
Надя, поразмыслив, догадалась. Она слышала разговоры о том, как еще в феврале, в ту пору, когда так запохаживало на весну, Абанкины, удивляя хуторян, ставили на своих землях приметы, вешки. Не иначе арба эта и служила тут вехой, обозначала один из абанкинских удаленных участков.
«И тут-то все Абанкины! – ожесточаясь, подумала Надя. – Везде, везде они поперек дороги!»
В балке Солонке, где было заметно свежее, чем на просторе, и несло сыростью – не летней, душной, с запахами прели, а той, с холодком, что бывает от снеговой воды, – конь опять чуть было не вытряхнул Надю из седла. В самом низу, в теклине, в сплошном кочкарнике под мягким войлоком старых трав: мха, лебеды, ромашки и всяких иных, на коня в упор глянули волчьи глаза – красноватые, без мерцанья, огоньки. Конь ополоумел: задрожал, захрапел, упал в колдобине на колени и, кое-как, чуть ли не на брюхе, выкарабкавшись из суходола, помчался прочь во все лопатки, что духу. И не оглянулся ни разу.
Надя отпустила ему поводья, склонилась над лукой седла и, ласково похлопывая ладонью по вспотевшей жилистой и горячей шее коня, приговаривала:
– Шалопай, ах, какой же шалопай, и чего уж ты так!.. Трусишка ты! Кого испугался! Рукастых нам бояться надо – те страшнее.
Остаток пути до слободы Терновки конь отмахал мигом. Опамятовался, уже выбравшись с дорожки на шлях и почуяв близкое жилье. Внезапно приостановился, мотнул головой, как бы говоря: «Ну, и дела!», минуту постоял, расставив задние ноги, и зарысил сам, без понукания.
Горланили первые петухи, когда Надя выезжала из сонной слободской улицы с белобокими по-над шляхом избами. Тут, на шляху, Надя была настороженней. С конем она уже не разговаривала. Прислушивалась к ветру – не несет ли он подозрительных звуков, вспоминала попутные хутора и мысленно убеждала председателя окружного ревкома немедля – именно немедля – послать в Платовский взвод красногвардейцев. При этом председателя ревкома Селиванова, которого знала только по фамилии, она представляла себе в образе того смуглявого, хлесткого в казачьей шинели человека, что приезжал к ним в полк из Урюпинской, то есть в образе Нестерова.
Перед Надей был теперь самый большой, между селами, промежуток, верст на двадцать с лишком. Это – от Терновки до Альсяпинского. На этом же промежутке лежало и самое большое препятствие – Яманово урочище.
Конь шел теперь послушно, спокойно, довольный, видно, тем, что под ногами у него была уже не какая-то там сволочная дорожка, звериная тропа, а настоящая, большая торная дорога со свежими отпечатками многих копыт. По этим отпечаткам, увязая кое-где по грудь, покряхтывая, он перелез и через топь урочища, безмерно радуя этим Надю, уже начинавшую чувствовать в спине усталь.
Спустя некоторое время, близу часа, Наде показалось, что навстречу кто-то едет. Она была как раз в мелкой, отлогой лощинке и видела, как впереди на пригорке на фоне очистившегося от туч неба что-то будто зачернелось, то заслоняя, то открывая мелкие, скученные у края земли звезды. Ни топота ног, ни стука колес Надя не слышала. Да, пожалуй, хоть бы и были они, стук или топот, она все равно не могла бы их услышать из-за ветра, который хоть и укрощался уже, но все еще перепрыгивал и шуршал. Не доверяя себе, Надя вглядывалась в полуночную муть. Блеснули искры – такие на ветру в темноте летят от цигарки, – и сомнений у Нади уже не стало.
Конечно, никакой опасности для нее в этом не могло быть. Это же с той стороны, откуда ей ничто не угрожало. Мало ли кто и куда мог ехать ночью. У людей ведь и неотложные дела бывают. А тут, по этому шляху, сотни людей ездят, со всего Хоперского округа. Но все же лучше бы в такое тревожное время никого не встречать. Надя потянула за повод, стараясь свернуть коня на обочину шляха, чтобы разминуться с встречным.
Она уже видела одинокого всадника. Тот мутной тенью ехал шагом, и широкие полы его какой-то чудной накидки на ветру помахивали, как крылья у большой птицы. У затылка его что-то торчало, вроде тонкой палки. Может быть, ружейный ствол? Когда Надя приблизилась к этому всаднику, но еще не поравнялась с ним, ей почудилось, что он направил лошадь ей наперерез. «Какие отчаянные есть люди! Прямо о двух головах!» – подумала она и ударила коня плетью, чтоб разминуться скачью.
Но с конем вдруг случилось непредвиденное. Всю дорогу молчал он, а тут его прорвало, словно бы он очень чему-то обрадовался: заливисто, с захлебом заржал на все поле и сунулся к встречной лошади. Надя всею силой дергала за поводья, хлестала коня плетью под пах, по крупу, меж ушей, а ему хоть бы что. Носом к носу соткнулся со встречной лошадью, и они, остановившись, закивали головами, начали с прихрапом обнюхиваться, дружно и по-своему нежно гогоча.
Всадник приподнялся на стременах, вытянулся, свисая с лошади.
– Кто это? – спросил он басовитым голосом, хриплым, пропойным, с каким-то клекотом.
Надя молча и безуспешно рвала удилами коню губы.
Всадник повозился в седле, звучно чиркнул спичками, должно быть сразу целым десятком, всеми, словом, сколько щепотью захватилось из коробочки, и при яркой короткой вспышке, тут же погашенной ветром, Надя успела угадать вахмистра Поцелуева и под ним Федорова строевого, того самого коня, с которым Надин конь вместе служил.
– А-а-а… Так во-он это кто! Во-он оно в чем дело! – со спокойным удивлением сказал Поцелуев, и голос его не клекотал, как можно было ожидать, а скорее, ворковал: – Понимаю, понимаю… Гм! Та-ак! Ну что ж, придется, лапушка, повернуть назад, а? Вместе поедем, – и тем временем, перегнувшись через шею своего коня, вытянув руку, уже ловил за поводья Надиного.
Надя, ослепленная вспышкой, почувствовала, как размякшие, туго натянутые ею поводья вдруг резко дернули ее руку, рванулись и со все возрастающей силой начали ускользать. Она уцепилась за них левой рукой, напряглась, упершись ногами в стремена, и правой выхватила из кармана браунинг.
Лошади все еще гоготали. Надин конь, особенно неистовавший, только что было ткнулся губами в челку своего менее возбужденного сослуживца; только что было он, приседая на задние ноги, еще выше запрокинул голову – над его полуприжатым ухом, оглушая и обжигая, грохнул выстрел.
Конь, как стоял на шляху мордой в нужном направлении, так и прыгнул, звякнув стременем о поцелуевское стремя. Надя сунула дымящийся револьвер в карман, встряхнулась в седле, выправляя посадку, и налегла на плеть, опасаясь погони. Она хоть и стреляла чуть ли не в упор, но ведь как за себя ручаться! Не так уж часто ей приходилось держать в руках оружие, не только что стрелять в людей. Да еще в такой обстановке. А ну-к да промазала!
Погони не было слышно – Надя не знала, что Федорову строевому было не до того. Но вот она, держа голову вполуоборот, услышала другое: мимо нее, совсем близко, стремительно и коротко что-то жикнуло, ровно бы пуля пролетела, и вслед за этим приглушенно – бах! И – тут же: бах!.. бах!.. бах!.. Вззи-и-и… чиу-у… тьюу-у… «Промазала!» – озлобленно подумала Надя, нахлестывая коня, и в эти минуты ей как-то в мысль даже не пришло, что ведь пули и в темноте могут ее настичь.
Ах, Надя, Надя! Ребенок ты еще! В сторону, в сторону нужно. Пашня ли тут, по обочинам, такая, что ноги не вытащишь, или густой колючий терновник – все равно в сторону. Ведь шлях тут на версты – что шнур. Поцелуев-то знает это. Он бьет лежа, с локтя. Бьет он, правда, наугад, но ржавый винтовочный ствол направлен верно. А уж руки его, отпетого головореза, не дрогнут, посылая в тебя пулю. Далеко ли до несчастья!
Но вот взвизги пуль и все удалявшиеся звуки выстрелов прекратились. Надя, ощущая лицом густую, вязкую во тьме влажность и ничего, кроме мрака, по-прежнему не видя, с жадностью потянула в себя воздух. И еще не успела она, распрямив грудь, сделать глубокого облегченного вздоха – конь внезапно сбился с ноги и начал сокращать бег, начал трясти и подбрасывать ее в седле так, как никогда раньше не тряс ее и не подбрасывал. В страхе, в предчувствии беды она еще раз нерешительно хлестнула его плетью. Но тот лишь оступился при этом, весь задрожав, и перешел на спотыкающийся шаг.
Надя остановила его, кинула поводья на луку, поспешно перенесла через круп ногу и, забыв о себе, о своей беременности, прыжком опустилась на землю. И тут же скрючилась и застонала: в животе резнула неимоверная боль. Ее даже покачнуло. Но она уперлась онемевшими руками в горячее мокрое плечо коня и на ногах удержалась. Минуту постояла так, подавляя в себе рвущийся наружу вой, чувствуя, как все ее тело горит, покрываясь испариной. Облизала сухие дергавшиеся губы. И как только боль стала притихать, разогнулась.








