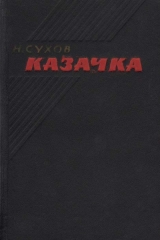
Текст книги "Казачка"
Автор книги: Николай Сухов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 41 страниц)
XII
На хуторском плацу возле церкви толпы людей. Тут и вездесущие с облупленными носами малыши, которые, визжа и хохоча, наскакивая на взрослых, гурьбой метались из конца в конец; и длиннобородые деды и прадеды, едва передвигавшие ноги, – они беззлобно поругивали сорванцов, грозя им костылями; и пышнотелые девки-невесты в разноцветных платках и сарафанах – шушукались между собой, пересмеивались. А против главного входа, у ограды, все удлинялась цепочка молодых казаков – на подседланных конях, при шашках, в военных гимнастерках.
На правом фланге – никогда не унывающий весельчак и насмешник Пашка Морозов. Вертясь в седле и подмигивая одногодкам, он изводил только что подъехавшего Латаного.
– Ты, односум, езжай домой, нечего тебе тут… – говорил он с напускной строгостью, и на лице его не было ни тени усмешки. – Ну, куда ты… скажи на милость? Ты хоть раз-то поглядел на себя в зеркало? Нет? Ну и не смотри, ей-бо. А то по ночам пугаться будешь, с постели вскакивать. Ты не смейсь, не смейсь, я всерьез. А служить с тобой я все равно не пойду, езжай домой.
– Ну, будя, будя, – Латаный смущенно прятался за коня. – Почему это не пойдешь? Телка, что ль, я у бога украл?
– Да как же, чудак человек, ты только из ворот выехал, а мы уж думали – второе солнце поднялось. Тебя ведь вон отколь заметно. Увидит австрияк в бинокль, ну-к наводи, скажет, батарею, лупи вон прямо по солнцу. Пропадешь ни за понюшку табаку, ей-бо!
– Ха-ха-ха…
– Гы-гы-гы…
– Го-го-го…
И как только стихало, Пашка начинал сызнова.
Федор Парамонов тоже был здесь. Перебросив ноги на одну сторону седла и отпустив повод, он перекидывался с ребятами шутками, изредка смеялся, а сам нет-нет да и метнет опечаленный взгляд на толпу девушек: он давно уж приметил там Надю. Знакомый клетчатый с махрами платок выделял ее среди девичьего цветника. Рядом с нею, неизвестно чему радуясь, толкалась Феня. В Надиных глазах, под пушистыми ресницами, она видела тревожный притушенный огонек и потому, может быть, подтрунивала над ней, кружилась волчком. Надя через силу улыбалась подруге, отвечала ей, а думала о своем. После того вечера на озере, когда Федор неожиданно стал так близок ей, она словно потеряла прежнюю беззаботность. Первая выдумщица на игры, стала какой-то странной: то хохочет вместе с подругами, веселая, общительная, то вдруг замкнется, повянет и без видимой причины уйдет домой. От таких непонятных перемен подруги лишь ахали и терялись в догадках.
Из-за пожарного сарая молодцевато выехал хуторской атаман – при шашке, с бурой, через плечо, портупеей, с урядницкими лычками на летнем мундире и с начищенными золой медалями на груди. Хозяйским оком строго осмотрел толпу, прикрикнул на малышей и подъехал к казакам-новобранцам. По давнишней, уже забытой привычке, хотел было поздороваться с ними, но, пошевелив губами, только и сказал: «Тпру!» Кончики ушей его внезапно порозовели, и он пугливыми глазами пробежал по казачьим лицам. Но молодые, еще не обученные казаки и не заметили его ошибки. Атаман облегченно вздохнул: строевики бы засмеяли за такое «тпру». Убедившись, что все новобранцы в сборе, он без команды приказал им ехать за ним по трое, отделениями, и направил коня в улицу, на шлях.
Казаки в беспорядке затолкались, выполняя приказание атамана. Трофим Абанкин на рыжем, заседланном новехоньким седлом дончаке пристроился к отделению и с ужасом увидел, что рядом с ним покачивался его всегдашний недруг Федор. Спасаясь от его язвительной улыбки, он рванулся вперед, к голове колонны, но все отделения впереди оказались полными, и он, под дружный гогот казаков, повернул к хвосту.
– Он от меня – что черт от ладана, – смеялся Федор, посматривая на недовольно обернувшегося атамана.
– Чего вы не поделили с ним?
– Не знаю, у него спроси.
Когда выровняли строй, Пашка, подбоченясь, затянул во всю мочь:
За Уралом за рекой казаки гуляют…—
и залихватская песенка, подхваченная десятками молодых крепких голосов, полилась по хутору:
Ге-е-е-ей, пей-гуляй, казаки гуляют…
Всадников до самой Гнилуши, сухой в трех верстах от хутора балки, провожали ребятишки. Не слушая угроз атамана, они мчались в обгонки сбоку строя, жалостливо засматривали в глаза каждый своему родичу и все упрашивали посадить на коня.
Посреди станицы у большого деревянного здания – Верхне-Бузулуцкое станичное правление – слонялись казаки с ближайших хуторов. Лениво бродили кучками, позевывали, поругивались. Томило их безделье и неизвестность. С нескрываемым любопытством, а порой и завистью рассматривали они холеные лица станичных и войсковых начальников, в погонах и без погон снующих то в правление, то из правления, вполголоса делали короткие замечания, оценки: «Гля-ка, паря, шею наел, как хуторской бугай», – и приглушенный хохот полз вслед за удалявшимся военным приставом.
Атаман подвел хуторян к коновязи и, распустив их, направился в правление. Федор поручил коня Пашке и пошел разыскивать двоюродного брата, одногодка, с соседнего хутора. На блеклой запыленной траве под тополем сидели незнакомые казаки: привалившись друг к другу, вяло переговаривались.
– И чего без толку людей мучить, – возмущался длинный белолицый детина, давя локтем маленького тщедушного казачка, – делать коту нечего, так он… Какой-то смотр выдумали. Подойдет срок – и смотри, коль охота, радуйся.
– Нет, браток, тут дело того самого… нехорошим пахнет.
– Слыхал я, на войну хотят турнуть.
– Ну, заныл! Раньше смерти умираешь.
– Он за благоверную боится, вот вам крест! Не робей, не пропадет. На твое место тут косая дюжина найдется.
– Эй, ты чего же: своих не узнаешь? – шутливо спросил белолицый, повернувшись к Федору.
– Нет, дружок, не узнаю, – Федор улыбнулся и прошел дальше.
Он исколесил весь плац, и все попусту. Забрел на крыльцо правления. Закуривая, прислушался к низкому, бесцветному голосу, долетавшему до него откуда-то сверху. Кто-то, важно и степенно покашливая, негромко рассказывал: «…милейший, знаете, человек, прекрасной души человек! Остряк, хлебосол! Отпрыск столбовой дворянской фамилии. Как-то он сказал мне: «Вы знаете, говорит, Максим Петрович, с русским человеком никак нельзя иметь дело». – «Да почему же?» – спрашиваю. «Знаете, ему только повод дай, он обязательно придет тогда в присутственное место, протискается через людей и ляжет перед вами прямо на стол, да еще и папироску попросит». Взрыв дребезжащего смеха на минуту заглушил рассказчика. «А? Немец? Нет, тот хитрый дьявол. Тот нарочно будет топтаться у порога, позади всех, пугливо вздрагивать».
«Разгутарились, сволочи!» – спускаясь с крыльца, ругнулся Федор. Он хоть и не понял ничего, но почувствовал, что это люди другого мира, белоручки. А таких людей он не то чтобы ненавидел, но не любил, считал их бездельниками, «зазря» пожиравшими хлеб. Проходя мимо высокого раскрытого окна, Федор заглянул внутрь: пожилой, в форме врача, военный с большим грушевидным носом что-то продолжал рассказывать, как видно, забавное, а его собеседник – молодой с черными красивыми усиками врач – подпрыгивал на стуле, трясся от смеха.
Федор направился к своим хуторянам, к коновязи, но дорогу ему преградил воз сена. Духовитыми степными травами – аржанцом, повителью, донником, – омытыми дождями, пахло от воза. Федор вздохнул, провожая глазами едва переступавших быков. От тяжелого предчувствия в груди у него больно ворохнулось.
– Заходи! – крикнул какой-то чин, выбегая из правления.
Из-под крашеного забора, из-под деревьев, из всех тенистых уголков высыпали казаки. Плац ожил и загомонил.
В гулком просторном зале, хранившем всегдашнюю прохладу нежилого помещения и разнородные, чуть ощутимые запахи медикаментов, началась врачебная комиссия.
А перед вечером, после всяких смотров лошадей, людей и снаряжения, сотни три казаков кривой линией выстроились перед фасадом станичного правления и, поднимая шум, гвалт, споры, совались взад-вперед и тревожно перешептывались. Пешим строем командовал молоденький щеголеватый офицер. Хладнокровно наблюдая за толчеей, он кривил в улыбке тонкие капризные губы, на пружинистых ногах, пятясь, отходил все дальше от строя и, по-видимому, думал:
«Согласитесь, мне очень неприятно смотреть на вас, таких неучей. Но долг службы обязывает меня это делать. Будем надеяться, что в запасных сотнях вас немножко выправят, научат строиться по-настоящему, как подобает». На крыльце недовольно жмурился высокий широкоплечий подъесаул – станичный атаман. За ним в дверях теснилась свита различных чинов.
Федор, вытягиваясь в струнку и «кося глаза на грудь четвертого человека», увидел, как к командующему офицеру подошел военный врач с грушевидным носом. Федор знал теперь, что это главный врач комиссии. Он передал офицеру список и что-то буркнул при этом. Офицер сунул список в карман, повернулся к строю.
– Смир-р-на-а! – мелодично прозвучала его протяжная, с напевом команда.
Три сотни новёхоньких фуражек вмиг вскинулись и замерли. Стало слышно, как у коновязи фыркают лошади, нетерпеливо перебирают копытами, а молодые меринки, чуя подле себя кобылиц, тщетно ярятся, всхрапывают. Где-то громко и совсем некстати закудахтала курица, и тут же донесся женский визгливый крик: «Куды тя нечистый занес!» Так же некстати перед строем закружился вихрь, осыпал казаков пылью и лохматым серым полотнищем упал на атаманову свиту.
Федор, хлопая веками – в глаз ему попала соринка – и с трудом удерживая улыбку, заметил: Трофим Абанкин подошел к коновязи, отвязал своего дончака и, перекинув через седло стремена, повел в улицу. Проходя неподалеку от главного врача, он снял фуражку и низко поклонился. Врач рывком отвернулся от него и сделал вид, что не заметил поклона.
– Смотри-ка, чего же Абанкин? – едва слышно, не шевелясь, спросил Федор у Пашки, стоявшего рядом.
– Ему вроде бы отставку дали.
– Ах вы, га…
– Казаки! – станичный атаман качнул насеку и, бряцая шпорами, спустился с порожка.
Первые слова атамана Федор не слышал – он думал о своем.
– …Приказом его высокопревосходительства наказного атамана… По высочайшему повелению государя императора объявлена, как бы сказать… Объявлена досрочная мобилизация м-м… первой половины года.
Новобранцы взволнованно зашевелились, зашаркали подошвами сапог, завертели фуражками. У атамана дернулась щека и на скулах выступил пятнистый неяркий румянец. Крепко стиснув челюсти, он глядел сурово, ждал тишины, порядка. Но по рядам все явственнее ползло шушуканье.
– Команда «смирно» была! – не вытерпел атаман.
И через минуту, когда строй успокоился, он властным глуховатым голосом чеканил слова, водил по рядам жестким взглядом. Говорил он мало, по-военному, что-то о долге казаков и всех русских патриотов перед священной войной, но из всей его речи каждый крепко запомнил только то, что послезавтра ему отправляться в окружную станицу, в Урюпинскую.
Назад хуторяне ехали пришибленные, унылые. Из головы не выходили два неожиданных и страшных слова: «досрочная мобилизация». Как-то даже не верилось, что послезавтра они в последний раз протопчут конским копытом вот эту пыльную родную дорогу, завеянную синим сумраком; последний раз сомкнут копытом искристую россыпь колючки и блеклый подорожник; вдохнут полынный горьковато-сладкий запах степей. А там… туманная, чужая, неведомая даль; грозное и роковое – война!
Пашка Морозов, стараясь быть по-прежнему веселым, несколько раз пытался затянуть песню. Но подхватывали недружно, вразнобой и даже невпопад, и песня каждый раз обрывалась.
* * *
Вечером, когда в залитых луной улицах надрывались гармони и ревмя ревели пьяные разухабистые голоса, по глухому переулку, ведущему в поле, в обнимку шли Федор и Надя. Избегая встреч с хуторянами, они шли в густой тени, поближе к плетневой изгороди, и думы у обоих были тяжелые и безысходные. Федор бодрился, утешал Надю, но слова его, помимо воли, получались вялыми, бескровными, и он сам чувствовал, что убедить они никого не могут.
– Окромя тут ничего нельзя, ничего, – как бы самому себе тоскливо говорил он. – Завтра откроемся твоему отцу, и если он чего-нибудь… завтра же повенчаемся сами. Поп Евлампий в два счета окрутит, глазом не моргнешь. А случаем откажется иль еще чего – съездим в другую церковь, в станицу. Не велико дело. Будешь у нас жить.
Затуманенными глазами Надя смотрела в тусклую, над бугром, синь неба, усыпанного мелкими звездами, на пепельную с перистыми окрайками тучу, безмятежно уплывавшую туда, где часа два назад спряталось солнце, цеплялась туфлей за лопухи, молчала. Губы ее по-детски дергались, вздрагивали, – она вот-вот готова была расплакаться.
Федор ласково погладил ее голову и поцеловал в щеку.
Она заговорила жалобно, давясь слезами:
– Но… Федя, ты посуди сам, ты… ты подумай. Нешто я… Где это видано, чтоб… чтоб… – Она внезапно всхлипнула, споткнулась о куст лебеды и зарыдала.
– Надя, Надюша, что ты? – Федор растерялся. – Милая, зачем же… Ну вот, вот! Ну зачем же… у-у т-ты! – Он бережно охватил ее трясущееся от рыданий тело, поднял и, шагнув в канаву, за широколистный, буйствующий в цвету татарник, усадил к себе на колени.
Она немножко успокоилась, прижалась к нему и, целуя жесткую, в мозолях ладонь его, глотая слезы, зашептала:
– Фе-едя-я, стыду-то! Нешто можно говорить! Ты подумай! Где это видано, чтоб… чтоб до венца… Люди засмеют. Ты – из дому, а я… к тебе. Как можно! Буду лучше у себя… дома ждать. Какая тут свадьба! Нельзя будет на люди… Глаз нельзя показать будет.
Дрожащей рукой Федор гладил ее мягкие, пухлые, все еще вздрагивающие плечи, витую косу, глядел безотрывно в большие любящие глаза, прощально смотревшие на него снизу вверх, – под тенью ресниц, отсвечивая лунный луч, блестели слезы, – и тихонько скрежетал зубами.
А в улицах все пуще стонали гармони, рвали в клочья безотрадную старинную песню – спутницу проводов: «Последний нонешний денечек…» – и где-то за канавой в кустах репейника однотонно и заунывно дребезжал дергач.
XIII
Случилось как-то так, что из церкви Андрей Иванович выходил вслед за Абанкиным. Молельщики, утомившиеся в тесноте и духоте, разноликой толпой лезли к выходу, силком выталкивали друг друга наружу. Андрей Иванович, обливаясь потом, откидывался назад, кряхтел, напрягал силы – ему никак не хотелось подтолкнуть Абанкина. Но как он ни упирался, а у самой паперти, где струйками проскальзывал ветер и от этого каждый еще больше стремился поскорее вырваться на волю, его все-таки притиснули к спине Петра Васильевича. Тот участил шаги и хмуро оглянулся. По лицу Андрея Ивановича расползались багровые пятна, и Абанкин сощурился в улыбке:
– Эка, знычт, прут, дья… – и спохватился: – как волы все равно.
Подле него хихикнула веснушчатая бабенка со сбитым на сторону платком и носом уткнулась ему под мышку. Абанкин, не роняя достоинства, медленно спустился с паперти, окинул взглядом изображенного над входом Христа и протянул Морозову короткопалую руку.
– Ну, здоровеньки живешь, Андрей Иваныч.
– Доброго здоровья, милушка Петро Васильич, доброго здоровья! – старик расшаркался и, забегая к нему наперед, умильно засматривая в глаза, наступил на юбку веснушчатой бабенке. Та, мотнув подолом, не к месту выпалила такое словцо, от которого Андрей Иванович вспыхнул, как мальчишка, и съежился.
Абанкин сдержанно усмехнулся.
– Давненько будто я не видел тебя, Андрей Иваныч.
– Да все дела наши, Петр Васильич, дыхнуть некогда. То косим, то молотим; теперь вот время подоспело – жита сеять. Так и идет своим чередом.
– Это уж так, Андрей Иваныч, так, – грузно ступая по дощатым подмосткам, говорил Абанкин, – в этом и жизня наша проходит.
За оградой, на плацу, у пожарного бассейна, в котором, вопреки полагавшемуся, воды никогда не бывало, толпились люди, блестели на солнце лампасы, платки, бороды. Атаман, стоя на табуретке, читал объявления о потерянном и приблудившемся скоте, спотыкался на каждой строчке. Старики, Абанкин и Морозов, выходя из ограды, увидели в уголке подле крашеных двустворчатых ворот Березова. Тот, как сурок из норы, высовывал из-за ворот голову, в нетерпении взглядывал на паперть. Андрей Иванович задел его плечом:
– Ты чего тут?
– Да вот наставника поджидаю, волохатого, – многозначительно подмигнул Березов, – хочется знать, как он толкует кафизмы от Луки, двенадцатый стих.
Абанкин сердито крякнул, пробурчал что-то и зашагал крупными шагами к кругу. Вскоре на паперти показался поп. Размахивая широченными рукавами, он было направился к этим воротам, но вдруг резко повернул, стукнув каблуками, и, выгибая подмостки, почти рысью заспешил к другому выходу. Березов ухмыльнулся и вылез из засады.
– Чудной, милушки мои, человек. Паршивая овца в кайдале, – сказал Андрей Иванович и покачал головой, прислушиваясь к тягучему атаманову чтиву.
– «Рябая одно… рогая, однорогая телка, – читал по складам атаман. – Лысая. Брюхо – белое. Мы-асти…. масти муругой. Шести… шести лет». Гм! Что за едрена… Какая ж это телка? – Позвякивая медалями, атаман вцепился в листок всеми сучковатыми пальцами, поднес его к глазам. – То бишь «…шести мес…», месяцев, стал быть. Вишь ты! – и широко улыбнулся, рукавом вытер со лба пот. – Загогулина какая, ничем не догонишь!
Петр Васильевич зевнул, перекрестил рот.
– Ну, ты как, Андрей Иваныч, по шкалику перед обедом не супротив пропустить? А? Знычт то ни токма, для праздника. Зайдем? А? Водки нет? Ну, для нас, знычт, думаю, найдут как-нибудь… по шкалику.
Андрей Иванович от такого панибратства земли не чуял. Еще бы ему не согласиться! Кто ж не почтет для себя за честь побыть в компании Абанкина! Много ль таких чудаков найдется? Может быть, один Березов. С гордым видом Андрей Иванович окинул из-под руки толпившихся стариков, небрежно сунул ладонь торчавшему подле Матвею Семеновичу – несостоявшемуся свату – и засеменил вслед за Абанкиным.
Они сидели в полутемной с одним оконцем комнатке – шинке, и Петр Васильевич, придерживая локтем трехногий стол, потчевал растроганного старика. После третьей рюмки Андрей Иванович расслаб вконец. По своей привычке полез было целоваться, но Абанкин, загородившись бутылкой, предусмотрительно сел по другую сторону стола и, закусывая помидорами, жалобился:
– Уж так, знычт, хотелось пойтить ему, Трофиму, на службу, так хотелось! Но нет. Не под той, видать, планидой родился. А ведь ничем ни в жисть не хворал. Вот ты и пойди. На комиссии дохтур – такой, дьявол, продувной! – щупал-щупал, как цыган лошадь: «Э-э, говорит, да у тебя биение сердца, пиши пока льготу». Потом, дескать, посмотрим.
– Да о чем ты, милушка, толкуешь! О чем? – Андрей Иванович елозил по табуретке и, привскакивая, все пытался обнять собеседника. – Молебен надо отслужить, а ты жалуешься… Пашка мой аж захворал никак. Война, она, мил… кого, может, и в люди произведет, чинами наградит, а кого и калекой на всю жизнь сделает. А офицерство – на что оно вам? Вы и так полковники.
– Вот и я трахтую, – соглашался Абанкин, – на что, мол, тебе, Трофим, офицерство? Достатку, что ли, не хватает? Пока, слава богу, не нуждаемся.
– Ну и смехотворщик, пра слово! – Андрей Иванович фыркал и расплывался в пьяной унизительной улыбке. – «Не нуждаемся!» Тебе ли, Петро Васильич, вспоминать про нужду.
– Это к примеру. Так уж говорится. А тут… – Абанкин обвел глазами пустующую комнатку, низко свесился над столом и захрипел: – Дельце к тебе есть, Андрей Иваныч. Большое, знычт, дельце. Думал, в другой раз об этом, да уж все равно, коль выпал случай… Раз, мол, на службу тебя не взяли, говорю ему, сыну, то надо к делу приближаться, своим гнездом-семейством обзаводиться.
От радостного предчувствия у старика Морозова дрогнули руки. Он выронил на колени рюмку и растерянно вскочил, забормотал что-то невнятное.
– Эка ты, Андрей Иваныч, а-а! – благодушно укорил Абанкин. – Что? Старость? Ну, мы еще поскрипим, Андрей Иваныч, поскрипим, – Он подергал окладистую с седыми косичками бороду, приосанился. – Мы люди старинной закваски. Не чета теперешней молодежи. Как чуть – так охи да ахи. Да… Вот я и говорю ему: гнездом, мол, надо обзаводиться. Так уж извека заведено. Самим господом богом поставлено. Птица там какая ни на есть, даже самая никудышная, и та свое гнездо знает. Одни, мол, кукушки по чужим гнездам шляются… – Абанкин вел-вел свой длинный разговор кружными путями и свернул напрямую: – Посылает он к тебе, Андрей Иваныч. Уж дюже твоя дочка пришлась ему по ндраву.
Андрей Иванович хоть и пьян был, но рассудок его работал довольно трезво. Наконец-то! Наконец-то сбываются его затаенные желания. Шутка ли дело – сам Абанкин навязывается. По совести говоря, он уже было потерял эту надежду. Потерял с того времени, как им дегтем намазали ворота, положили на невесту охулку. Знает ли о том Петр Васильевич? Ведь завистники и злые языки не преминут растрезвонить, если дело коснется сватовства.
– Приданого мне не надо, Андрей Иванович, – текли медовые слова Абанкина, одно приятнее и слаже другого, – разорять тебя не буду. Даже совсем наоборот: ежели что – могу помочь тебе, для свата не посчитаюсь. Пашню там распахать аль что по хозяйству – пошлю работников, вмах обделают. На кладку тоже не поскуплюсь.
Лицо Андрея Ивановича подернулось грустью, и он опустил глаза.
– Этто, милушка, все так, – и вздохнул, – дочка у меня невеста, этто правда. Сваты не раз уж прибивались. С Черной речки мельник о прошлой год прибивался. Но ведь она еще дите, совсем дите. Осемнадцатый годок сравнялся… Петро Васильич, ро-одненький, и не думал пока. Вроде бы и рановато. Да и как-то боязно без нее оставаться. Отобрали у меня Пашку…
– Знычт то ни токма, дело хозяйское, конечно, – не настаивал Абанкин, – только насчет чего другого, а насчет помощи не беспокойся. Сказал – помогу, и помогу. А касаемо чего протчего, погутарьте, посоветуйтесь. Через недельку пришлю сватов. Уж как там и что, знычт, конечно…
В чулане зашуршали шаги, колокольчик на дверях запрыгал, и в шинок ввалился Березов, стукнул клюкой по полу. Абанкин метнул в него ненавидящий взгляд и перевел разговор на хозяйские дела.
Домой Андрей Иванович попал только к полудню. Ждали-ждали его из церкви, да так и не дождались, пообедали без него. Бабка, сердито ворча под нос, собирала на стол. Андрей Иванович лоснился, как облитый маслом, улыбался. Бабка косо поглядывала на него:
– И когда сыт будет, нечистый его знает. Так и нюхает, где бы налакаться. Ни нужды ему, ни заботы.
Надя, прихорашиваясь перед зеркалом, собиралась на улицу. С того дня, как казаков проводили на службу, она никуда еще не выходила. Ныне утром гоняла в стадо коров и встретила Феню. Та сообщила ей, что девки-подружки собираются в лес и приглашают их, Надю с Феней. Надя рада была немножко рассеяться. Наряжалась она просто по привычке. После отъезда Федора показываться в хороших платьях она никому не хотела. В ее мыслях Федор был неотступно, и днем и ночью. И странно: у нее было такое ощущение, будто он уехал всего лишь на несколько дней и скоро вернется.
– На-адя, до-очка! – сонно покачиваясь за столом, позвал Андрей Иванович и ложкой ткнул куда-то мимо щей. – С-сывадьбу играть скоро будем, сватов жди.
Надя с накинутым на голову платком стояла перед зеркалом, завязывала у подбородка узел. Руки ее внезапно онемели, и она никак не могла поймать концы платка.
– Какую… свадьбу? – бледнея, спросила она.
– Твою, дочка, ты-вою. Первеющие сваты придут.
– Ты не бредишь с пьяных глаз? – бабка насторожилась.
– Первеющие, говорю. Сам Абанкин. Это понимать надо. Не какие-нибудь замухрышки. Абанкин самолично.
Надя все еще смотрела в зеркало, но перед глазами дрожало только мутное серое пятно.
– Я… я пока не соб… не собираюсь… замуж, – она задохнулась.
Андрей Иванович шумно хлебал щи; иногда, не попадая в рот ложкой, плескал на новые с лампасами брюки, под стол.
– Ты, дочка, счастья своего не знаешь, вот что. Учить тебя надо. Уму-разуму учить. А мне не перечь. Я добра желаю. Отец я или… иль кто? Кому зря не отдам.
– Ты проспись допрежь, «оте-ец», – издевалась бабка. – Да не лей на штаны, царица ты моя небесная, господи! Новые штаны и так устряпал, головушка горькая!
– Будя причитать-то, – Андрей Иванович икнул. – Штаны они и есть… как бы сказать… на то они и есть… штаны, – По жирной клеенчатой скатерти локоть его вдруг соскользнул, и он сунулся грудью на стол. Уложил кудлатую, седеющую, с плешиной голову рядом с чашкой, окунув в нее клок волос, и засвистал разноголосо. А через некоторое время он уже сполз на пол и, размазывая лампасами лужи, все дальше уползал в угол, под скамью. Подле него суетились поздныши-цыплята. Подбирая крошки, они постукивали клювиками, щипали друг дружку. Андрей Иванович двинул сапогом, и шустрый в коричневом пушке куренок задрал кверху лапки, судорожно затряс ими.
Анчибил тебя возьми! – охнула бабка. – Да что ж это такое? Подушит, всех подушит! – Она подбежала к цыпленку, нагнулась к нему. Тот слабо дрыгнул лапками, крошечной бисеринкой глаза взглянул на нее с укором и притих. – И куда вы лезете в погибель! – Подтащила скамейку, свалила ее набок и плотно придвинула к лавке, загородив вытянувшегося под ней Андрея Ивановича.
Он лежал теперь, как в закрытом ящике, пускал в темный угол пузыри носом, всхрапывал, и снились ему всяческие сны. Будто в гости к нему приехал станичный атаман. Тройка, гремя бубенцами, поднесла к воротам фаэтон, атаман соскочил с него, вошел во двор и растерялся. «Какое у тебя поместье, Андрей Иванович! – восхищенно говорил он, вертясь на каблуках, – богатое, роскошное, как у помещика все равно». – «На бога, милушка, не гневаюсь», – глядя в землю, скромно отвечал Андрей Иванович и, как бы невзначай, плечом столкнул гостя на дорожку: отсюда через плетень видны были утепленные катухи, сараи, новый амбар под жестью. «Какие у тебя замечательные сараи! – и станичный атаман, с завистью рассматривая, протирал пенсне. – Целый полк можно расположить». – «По нужде и два уместятся», – так же скромно соглашался Андрей Иванович и все подталкивал гостя поближе к тесовому навесу – под ним, что сотня на параде, выстроились в ряд косилки, сеялки, плуги… «А этот Полкан у тебя не сорвется?» – увидя лохматого на привязи кобеля, спросил атаман и попятился к крыльцу. «Нет, нет, не извольте беспокоиться!» Андрей Иванович тайно захохотал и, взяв кобеля за уши, почесал ему гривастую спину почмокал губами. Тот звякнул цепью, лизнул хозяину руку и полез в будку. Из трубы потянуло самоварным дымком, и Андрей Иванович раскланялся перед гостем, пригласил его на чашку чая. «С превеликим удовольствием, – охотно согласился станичный атаман, – с таким человеком завсегда рад буду разделить компанию». Он занес на приступку лакированный сапог, повернулся к Андрею Ивановичу, и тот не узнал его: перед ним стоял, оказывается, не станичный атаман, а Петр Васильевич. Только без бороды. «Знычт то ни токма, я послал плужок на твое поле, – сказал он, взбираясь на резное крыльцо, – послал. Для свата не посчитаюсь». Андрей Иванович поймал его за руку и потащил в хату. Но когда он переступил порог, то увидел, что хата эта – совсем не хата, а хуторское правление. И в нем полно народа. Старики почтительно сняли фуражки, расступились. Но вот Андрей Иванович заметил впереди отца Евлампия, в новых золотистых ризах, с дымящимся в руках кадилом. Тот что-то кричал нараспев, размахивал кадилом. А люди ни с того ни с сего толпами полезли в разные стороны, столкнули Андрея Ивановича, и он ничего уже не мог понять…
Бабка успела побывать у соседей, пошепталась, повздыхала там; согнала с огорода телят; а Андрей Иванович все храпел под скамейкой. Она принялась было выжимать разбухшие в воде сухари, чтоб покормить цыплят.
– Ай-яа-а!.. – дурным голосом, будто его резали, рявкнул Андрей Иванович и, громыхнув скамейками, опрокинув стол, выскочил на середину хаты.
У бабки от страха подломились ноги, и она присела на пол.
– Господи Исусе, что такое! Что такое, господи! – бабка закрестилась.
Андрей Иванович, как загнанный зверь, дико вращал выпученными, налитыми кровью глазами, сопел. Лицо его было мертвенно бледным. На ободранном носу трубочкой розовела кожица.
– Из ума выжила, старая! – захрипел он, придя в себя. – Додумалась! До разрыва сердца могло дойти. О-о-ох! Думал уж, похоронили меня. Проснулся – темно. Толк рукой – доска, внизу – доска, вверху – доска. В гробу лежу… О-ох!
Бабка как сидела на полу, так и свалилась, раскинула сухие в синих узелках руки, затряслась в неслышном старческом смехе. Из-под сморщенных губ ее выглянули черные беззубые десны.








