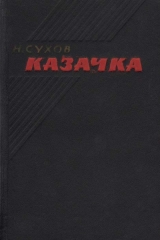
Текст книги "Казачка"
Автор книги: Николай Сухов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 41 страниц)
На спуске с последней перед хутором горы меринок отчаянно вильнул хвостом и взял трусцой, хотя к этому его никто не понукал, – почуял конец мучениям. Алексей, усаживаясь в тарантасе поудобней, всматривался в надвигавшийся хутор. Влево от дороги на кургане стоял ободранный ветряк, вокруг которого на бурой полянке извивались две-три глубокие, уже зачерствевшие на пригреве колеи, – как видно, завозчик здесь гость не частый; вправо полукругом до самой речки тянулись вишневые сады, разделенные полусгнившими плетеньками и приземлившимися, уже разрушенными насыпями. Прямо, уходя вниз, расстилалась широкая кочкастая улица с двумя пестрыми рядами изб.
Алексей всматривался во все это и чувствовал, как на глаза его невольно набегают слезы, щиплют веки. Сердце учащенно и радостно стучало, но откуда-то из глубин непрошенно поднималась грусть. Вот он, незабвенный, родимый угол, милее которого нет во всем свете! За два с половиной года много пришлось Алексею повидать селений – и богатых и убогих, но ни одно из них не вызывало, да и не могло вызвать столько чувств. После сырых, промозглых окопов, в которых довелось столько выстрадать; после бесконечных, выматывающих душу походов, боев; после каждодневных тревог, смертей, голодного пайка, вшей и грязи; после всего, чем красна на фронте солдатская доля, – каким блаженством и счастьем казалась ему жизнь в этом мирном степном углу! Но как за эти годы обветшал он! Куда ни кинь глазом – на всем следы запустения и нищеты.
Двор Игната Морозова – брата Андрея Ивановича, с кем Алексей неразлучно тянул лямку службы, почти совсем разорился. Он и тогда-то был не очень завидный, а теперь и вовсе – смотреть жалко. Передние решетчатые из досок ворота сорвались с верхней петли, перекосились, толкни – и рухнут. Прясла ощетинились кольями, обнизились; одного угла совсем не стало, – должно, на подтопку пошел. Крыша с единственного во дворе сарая сползла, обнажив слеги, и между ними черно зияли прогалины. На гумне – хоть шары гоняй. Знать, руки Игнатовой работящей жены Авдотьи бессильны были сдержать натиск тлена и разрушения. У кособокой, облупленной хатенки со слепыми в заплатах окнами, в которой коротал дни инвалид Федюнин со своей благоверной Бабой-казак, труба рассыпалась до самой подошвы; куски глины и кирпича, свежеразмытые дождем, расползлись по камышу крыши бурой неприглядной полудой. Амбар трехпалого старика Фирсова против дома, через дорогу, щерился приоткрытой, покачивающейся от ветра дверью; в петле праздно висел заржавленный в полпуда весом замок. Уж если в хозяйстве Фирсова, такого рачительного и прижимистого, по закромам гуляют ветры, то что же спрашивать с тех хозяйств, в которых не осталось казаков! У ближайших соседей Парамоновых завалился колодец; над засыпанной золой рытвиной, как могильный памятник, похилившись, стояла вековая в трещинах соха.
Соседский палисадник миновали, и меринок, не дожидаясь вожжины, свернул к своим воротам. Алексей с забившимся сердцем заглянул во двор. С крыльца, в одной клетчатой раздувавшейся рубашке, в больших старых, соскакивавших с ног сапогах – чуть ли не дедовы подцепил второпях, – без шапки бежал вихрастый розовощекий малец, в котором служивый узнал своего Мишку; вслед за ним, силясь догнать и оступаясь, придерживая юбки, спешила сияющая Настя. Алексей, забыв про свою рану, прыгнул с тарантаса, покачнулся и чуть было не упал – острая боль пронизала ногу так, что даже в глазах потемнело. Он поморщился и, готовясь подхватить сына, раскинул руки…
VII
Хворь к Надиному ребенку привязалась не на шутку. За какую-нибудь неделю он извелся так, что легок стал, как пушинка – в руки взять нечего. Такой горластый, беспокойный – ведь орал, бывало, на весь большущий абанкинский дом и постоянно требовал то грудь, то соску – теперь редко когда завозится в зыбке, захнычет хриплым, еле слышным голоском. Как подснежник, прихваченный морозцем, он на глазах увядал и блекнул. По тельцу его разлилась сплошная красноватая сыпь. Грудь сосать разучился – Надя приложит его к себе, заставит взять сосок, но он вяло почмокает губами и забудется. У Нади сердце разрывалось, глядя на это милое, чуть живое тельце.
За дни, полные тревог, она и сама-то извелась не меньше, чем ребенок. Бесконечная, до изнеможения усталь сквозила во всех ее движениях; глаза подсинились густыми полукружьями; лицо заострилось. Да и не удивительно: нередки были дни, когда она почти ничего не ела; целыми ночами напролет простаивала над ребенком и иногда, склонившись над ним, так на ногах и засыпала. Она считала, что ребенок заболел по ее вине, и это мучило ее всего больше. Воспоминания о той ужасной ночи, когда она без памяти бежала от Абанкиных и ребенок под полой ее почти оголился, раздирали ей душу. Бабка, не спуская с нее глаз, вздыхала, охала и без конца уговаривала:
– Что ты, непутевая, мучаешь себя! Может, богу угодно, чтоб ангельская душа преставилась. Грешно противиться, да и все одно руки не подставишь. Ляжь, поспи. Я присмотрю за дитем. Ты и так уж на себя не похожа – кости да кожа, щека щеку съела. Свалишься – что я с вами делать тогда буду?
Всеми силами стараясь помочь внучке и отвести от нее беду, она приводила старух лекарок, одну даже из соседнего Суворовского хутора заманила. Те подолгу ощупывали ребенка, пялили на него тусклые, запавшие, еле зрячие глаза, перебрасывали с руки на руку и, определив всяк по-своему болезнь (одна находила на ребенке глотошную, другая – младенческую, третья – сглаз), не откладывая, принимались вызволять: шептали предлинные, уже забытые молитвы и заклинания с непонятными словами, купали в наговоренном с оттопленными травами зелье, умывали и сбрызгивали крещенской водой. Но сколько ни лечили они, сколько ни выпугивали недуг заклинаниями, мальчуган не только не выздоравливал, но с каждым днем все плошал. Надежд на лекарок у Нади хоть и мало было, однако, уступая настояниям бабки, лечить она им дозволяла, не противилась. И только после того, как одна слепая карга, кладя ребенка, стукнула его о зыбку и едва не уронила – тот дико вскрикнул при этом, – Надя вытолкала ее за дверь и уж больше никого к зыбке не подпускала.
С большим трудом ей удалось упросить отца съездить в станичную больницу за доктором. Чувствовала Надя, что ребенка везти сейчас невозможно. На дворе к тому же было сыро и все еще холодно. Дело нелегкое – доставить сюда доктора, в станице единственного, но Андрей Иванович все же согласился. Он согласился потому, что упрямство и непокорство дочери вводили его в смущение и даже пугали. Он хорошо понимал, что отказать ей в просьбе теперь – значит потерять ее навсегда. А доводить до этого ему, конечно, не хотелось, хотя, говоря начистоту, жалости у него к ребенку не было. Не было жалости потому, что чересчур много для него было темного и загадочного в появлении этого ребенка на свет. Вряд ли, думал он, законный муж причастен к этому, и не ребенок ли причина тому, что дочь ушла от сватов?
То, что Надя ожидала от доктора, не сбылось. Приехав, он внимательно, даже очень внимательно осмотрел, ослушал ребенка, пробормотал что-то непонятное и сделал укол. Не щадя чувств матери, строго предупредил, что болезнь – кажется, скарлатина, осложненная крупозным воспалением легких и, по-видимому, кишечника, кажется так, – болезнь эта глубоко запущена, и требуется немедленная помощь специалиста. Посоветовал обратиться к известному детскому врачу Мослаковскому, о котором Надя уже не однажды слышала. Тот жил в окружной станице Урюпинской – девяносто восемь верст от хутора, занимался частной практикой и пользовался заслуженной славой. Но нужен был толстый карман, чтобы привезти его сюда, в такую даль. Доктору, конечно, было известно об этом, но он потому порекомендовал именно Мослаковского, что Андрей Иванович, когда приглашал доктора к себе, не преминул спекульнуть фамилией Абанкиных и представил Надю их снохой. Доктор так и понял, как только можно было понять, что заразно больного ребенка временно, пока он выздоровеет, удалили из семьи Абанкиных, у которых, нужно полагать, есть еще детишки (в доме у них он никогда не бывал). А для Абанкиных, людей с большим достатком, привезти Мослаковского не трудно.
Из станицы Андрей Иванович вернулся злой, насупленный. Буланая кобыла его чуть не «дала дуба» в Гнилуше, илистой, по дороге на станицу, балке, которая в полую воду всегда наливалась с краями вровень. Пришлось старику сбрасывать штанишки, опоясывать кобылу вожжами и вместе с доктором и подоспевшими хуторянами выволакивать ее на берег. Такой конфузный случай! Знатье бы дело, надо было ехать горой, а не прямиком. Но беда в том, что горой всегда ездит только гольтепа на своих клячонках (имущим людям, у кого кони подобрее, перемахнуть балку – плевое дело), а ведь Андрей Иванович хвастался перед доктором самым тесным родством с Абанкиными – одна, дескать, чашка и ложка. А уж коль назвался груздем – полезай в кузов. Дернула его нелегкая! Кляня беспутицу и «клещеногую» кобылу, сел обедать.
Не успел он отделаться от одной напасти – Надя огорошила его снова. Как только он вошел в хату и порядком еще не разделся, она настойчиво стала упрашивать его сейчас же ехать за Мослаковским. Доктор, мол, сказал, что дитя может вылечить только он, Мослаковский, и надо его немедля привезти, попусту терять время нечего. Андрей Иванович исподволь работал ложкой, пожимал в недоумении плечами. Отрезая хлеб, он мельком взглянул на дочь, и трудно сказать, чего в его взгляде было больше: жалости или досады. Надя, копаясь в детском свежевыглаженном бельишке, стояла к нему боком, чуть нагнувшись, и на впалой пожелтевшей щеке ее все заметней разгорался от возбуждения румянец. «Хоть бы сама-то, девка, не свихнулась, – подумал он с тревогой, – что-то ты несуразное начинаешь гутарить». Крепясь и силясь не показать раздражения, он попробовал внушить ей:
– Какая ты, Надька… чудная! Аль мне охота глядеть на больного. Говоришь, а с тем не сообразуешься, по карману нам эта затея или нет. Шутишь ты – уломать такого человека! Черепками его ведь не заманишь сюда. Надо капитал. А где набраться нам такого капиталу? Ну, к примеру, давайте свои потроха загоним. А потом что? Сумки через плечо да под окошки. Таких, милушка, и так хватает. Да и на чем ехать по такому пути? Тут до станицы-то с плачем пополам, не токма что…
Но все эти трезвые суждения до сознания Нади не доходили. Как за Мослаковским ехать, на чем за ним ехать, где брать денег, – думать обо всем этом она была не в состоянии. О чем и к чему, собственно, отец ведет речь? О каких-то, бог знает, черепках, капитале, сумках… При чем тут черепки и капиталы, когда ее бедного, еле копошащегося мальчугана душит болезнь. При чем тут какие-то сумки, когда ее милого, родного мальчугана, в ком все ее счастье, надежды и жизнь, ее последнюю в свете радость вот-вот отнимет смерть. О каких тут капиталах растабаривать, когда, не теряя ни секунды, надо гнать без передышки коней, скакать, лететь за тем человеком, кто эту смерть от мальчугана может отпугнуть.
С нашим ли носом соваться, – хлебая щи, продолжал внушать Андрей Иванович, – и без того никак из зуб кровь течет. В священном писании сказано: без божьей воли волос с головы не упадет. Все в его, милостивца, руках. Мыслимое ли дело – залучить такого знатного человека. Он как взглянет на нашу кобылу, ежели она, к примеру, дотянет туда, – и крышка, арканом близко не подтащишь. Шутка ли! Поди на тройках разъезжает, да еще каких!
Сознание Нади вдруг прояснилось, и она отчетливо поняла, что никогда ей своего спасителя Мослаковского здесь не увидеть. Никогда отец за ним не поедет. Она поняла, что спасти ребенка никто ей не поможет, что все эти родичи – и отец, и Трофим, и сам Абанкин – никто из них не двинет пальцем, она поняла это сейчас особенно отчетливо, и ее до дрожи, до судорог в теле прожгла неукротимая ненависть ко всем этим людям. Опалив отца злым горящим взглядом воспаленных от бессонницы глаз, она запальчиво крикнула:
– Я сама пойду! Сама! Без вас… Я понесу дитя на руках. Ночью буду идти. Ползти буду. По грязи, по воде… Доктор не откажет. Не посмеет. Он не такой, как вы. Он пожалеет. А вы… В вас нет жалости. Вы не люди, Зверье! Хуже!..
– З-замолчи, ш-шлюха! – багровея до черноты, зашипел Андрей Иванович. – Косы выдеру!
Но ни остановить, ни запугать Надю было уже невозможно. Вся дрожа, задыхаясь от гнева, все ближе подступая к столу, она выкрикивала слова одно резче и страшнее другого, нещадно разила за все перенесенные обиды:
– Кто меня загнал в кабалу, в неволю? Пропил меня за посулы? За богатую приманку? Кто это сделал? Ты! Ты загнал меня в кабалу! Ты пропил! С попом у вас сговор. Заодно. Святители!.. Вы думаете, я не знаю? Думаете, вам пройдет? Не-ет, не пройдет! Спросят. Спро-осят! Подожди. Еще как!
Андрей Иванович брякнул ложкой о стол, и темно-розовый, слинявший в цветочках черпачок звучно хрустнул и раскрошился. С мутными глазами, точно пьяный, он вскочил и качнулся к Наде. Но, уже выбросив руки, чтоб схватить ее за волосы, он вдруг взглянул на нее и оторопел. Никогда раньше не приходилось ему видеть этих странно чужих, незнакомых глаз – отчаяние и бесстрашная решимость были в них. Мгновение он стоял неподвижно. Потом его раскоряченные, в застаревших цыпках, с кривыми обломанными ногтями руки как-то сами по себе круто изменили направление, сорвали со стены отрепанный будничный пиджак, шапку. Кое-как накинул их старик на себя, угрожающе и глухо прорычал что-то и, будто на пожар, без оглядки засеменил к дверям.
Ночью мальчугану стало хуже.
С вечера он было немножко обрадовал Надю, повеселел: чмокая губками, пососал, как и прежде, соску, повозился в зыбке, заснул. Дышал спокойно, хотя и с хрипотцой. Но сон его длился недолго. Только что Надя управилась с делами и легла в постель – по всему ее телу разливалась тяжкая до ломоты усталь, и она, едва коснувшись подушки, сразу же стала забываться, – мальчуган слабо чихнул и захныкал. Голосок у него – прерывистый, рыдающий. Дрема слетела с Нади. Слух ее настолько был обострен и напряжен, что еле внятный всхлип ребенка ее, как встрепанную, ставил на ноги. Больше мальчуган по-настоящему уже не засыпал: на минуту сомкнет светлые с расширенными зрачками глазки, притихнет; но вот ресницы его пошевелятся, и на прильнувшую к нему мать снова глянут осмысленные тоскующие глазки. Надя в величайшей тревоге всматривалась в них, – мерещились ей те, одни во всем свете глаза, которые давно уже не ласкали ее и без которых жизнь ей была в тягость. Глотая слезы, пела свои грустные протяжные песни про котика-кота и про гулю.
К полуночи ребенку стало еще хуже. Из горлышка его чуть слышно вырывались стонущие необычные всхлипы; дышал он неровно, часто; покрасневшее тельце горело все сильнее. Надя в тоске и смятении приникала к зыбке, исступленно шептала: «Сынуля моя, родный, крошка моя! Нельзя нам расставаться, нельзя… Пожалей меня. Одни мы. Нет у нас защитника. Детка моя! Отец твой далеко-далеко. Никто нам не поможет. Если бы он был тут!.. Выздоравливай, моя картиночка, расти! Он придет, увидишь…»
В ногах у Нади елозила старая корноухая кошка, мурлыкала, просясь во двор. На печке, мучаясь бессонницей и болью в пояснице, шуршала бабка, терлась о кирпичи больными боками. Из горницы через дверь изредка долетало покашливанье Андрея Ивановича, который переселился туда с того времени, как пришла Надя, – зимой горницу не отапливали. В окно заглядывала безмолвная иссиня-голубая апрельская ночь. В улицах давно уже погасли огни, песнями и смехом отзвенели последние девичьи голоса – на берегу речки, у амбаров девушки по весне хороводились почти до зорьки. Жухли в темноте, теряя очертания, домишки и хатенки – спал в них натруженный, забывший о горестях и дневных заботах люд. Во всем хуторе лишь у Морозовых, слабо мерцая, светился огонек.
Придремнула над зыбкой Надя или нет, но вот ей показалось, что в окно будто стукнули. Вздрогнув, она подняла голову, насторожилась. Легкий и дробный стук повторился. Недоумевая – кто может быть в такую пору? – и безотчетно волнуясь, она накинула на себя юбку, шагнула в сени и отжала задвижку. В приоткрытую дверь шмыгнула кошка и вдруг, ощетинившись, метнулась назад: ее чуть было не придушил тяжелый сапог ступившего на крыльцо человека. Молча и поспешно, словно боясь, что его не впустят, приземистый, угловатый и плечистый, он с силой нажал на дверь и вошел в сени.
– Что ж ты босиком стоишь? Простудишься! – участливо сказал он знакомым голосом и, мягко повернув Надю, вошел вслед за нею в хату.
Надя, разочарованная, вернулась к зыбке. Не для этого непрошеного гостя встрепенулось ее сердечко, не покорное ни воле, ни сознанию, встрепенулось больно и томительно-сладко; не его тщетно звала она в тревожных, гнетущих снах и такой же изнурительной яви.
– На огонек… на минутку забрел, – усаживаясь на скамейку и пристально всматриваясь в Надину фигуру, пробурчал Трофим. Он удивился, как за эти дни она сильно извелась. И в то же время отметил, что, хотя под глазами ее залегли тени, а щеки опали, она нисколько не стала хуже. Откинув полу нового суконного пиджака, он степенно извлек из кармана кисет и так же степенно, не отводя от Нади глаз, начал закуривать.
О чем размышлял он в этот момент, глядя на свою законную непонятную жену, которая принесла ему столько беспокойства, какие мысли обуревали его – на скуластом, угрюмо-замкнутом лице его не отражалось. Скользнув взглядом по зыбке, он тихо и добро спросил:
– Хворает?
– Хвора-ает… – вздохнув, протянула Надя шепотом.
Трофим подумал.
– Лечить надо, – сказал он, – что же…
Он сказал эти, как бы сами собой напрашивающиеся слова и, вертя цигарку, выжидательно умолк. Несмотря на то что к Морозовым он не заходил после того посещения, когда Надя наотрез отказалась вернуться к нему, – несмотря на это он знал всю подноготную их жизни. Шаря по карманам спички, вяло, медленно, выигрывая время, он ждал, когда Надя заговорит. У той при слове «лечить» сдвинулись к переносице брови и еще туже сжались тонкие, упрямые, в четких извилинах губы.
– Надя! – позвал Трофим с неподдельной в голосе мольбою. – Надя! Что ты мучаешь себя, изводишь. Ты посмотри на себя. Ты за это время… тебя ветер скоро валить будет. Кому этим загрозишь? Какая крайность! Разве я чего для тебя жалел? Лиходей я тебе разве? Ну что ты тут, скажи на ми… – на печке сонно зевнула и запричитала бабка. Трофим покосился на печь и, снизив голос, зашептал еще более горячо: – Кому ты тут, скажи на милость… Жила бы ты со мной – ребенок здоров был бы. Не сушил бы тебя хворью. Ты знаешь, что я… я не в силах к нему… особенно… но если нужно, для тебя я ничего не пожалею. Давно бы привезли любого доктора, хоть самого Мослаковского. Иди, не изводи себя, не мучайся. Если бы ты… – Трофим взглянул на Надю и вдруг запнулся.
С опущенными ресницами, закусив губу, она какая-то необычайно прямая сидела возле зыбки, и побелевшие ноздри ее шевелились. Каждый мускул ее был страшно напряжен. Сцепленные на коленях руки мелко вздрагивали. Она сидела так с минуту. А когда глаза ее открылись, то были неестественно большими, округлившимися, и неуловимый взгляд их был устремлен внутрь себя. Но тут же взгляд этот упал на ребенка, опаленного предсмертным жаром, и она, разжав губы, сказала чужим, безжизненным голосом:
– Посылай… сейчас же… посылай за Мослаковским…
Трофим на мгновение опешил. Что это? Как понять?
Что слова эти означают? Неужто случилось то, чего он и сам не ожидал? Некоторое время сидел с застывшим на лице вопросом. Но вот наконец он все же понял, что это – не что иное, как согласие Нади вернуться к нему. И как только он понял это – степенность с него сразу же соскочила. Не в силах сдержать торжества, сорвался со скамейки и по-мальчишески закричал:
– Надюша! Да нешто я… Эх, ты!.. В два счета прикачу. Мигом! Пошли домой! Как придем – сразу же…
Боясь, как бы Надя не раздумала, он ступнул к зыбке, вытащил из нее ребенка и торопливо, но неумело принялся его укутывать. Надя, едва держась на ногах, покачиваясь, сняла с кровати ватное одеяло и молча подала его Трофиму. Щеки ее были все так же белы, как полотно, и зубы туго стиснуты…
* * *
Рано утром – еще не рассвело как следует – Андрей Иванович уже был у сватов. Он угодливо семенил по их двору, хозяйским тоном покрикивал на работников и вместе с ними закладывал рысаков в блестящий, на рессорах, фаэтон. Своему слову – привезти врача – Трофим оказался верен: Андрей Иванович по его настоянию отправлялся в Урюпинскую станицу за Мослаковским. Послать за врачом Трофиму было тем легче, что ему не потребовалось даже выспрашивать на это согласия отца, Петра Васильевича. Тот уже вторые сутки был в отъезде, и хозяйством управлял он, молодой Абанкин. Отлучаться из дома самому Трофиму было некогда – на самом же деле он просто не хотел оставлять жену, – и он сговорил на это своего тестя. Сговорить его было очень просто, тот даже и не думал перечить. Еще бы!..
Зять щедро дал ему денег, нарядил во все добротное – диагоналевый, чуть поношенный пиджак, совсем еще крепкие, хотя и старые, сапоги, фуражку. Андрей Иванович натянул на себя все это, расчесал усы, бороду и – хоть под венец. Выслушав наставления Трофима, взобрался на рессорный фаэтон, куда взобрался он не без робости, потому что никогда ему такими лихими рысаками управлять не приходилось, гоголем воссел на козлы и, перекрестившись, тронулся в путь-дорогу.
Когда ободняло, к Абанкиным прибежала бабка Морозиха. Она торопилась по делу – принесла внучке письмо. Письмо это – на имя Андрея Ивановича – было с фронта, от Пашки. Бабка знала, с каким нетерпением Надя всегда ждала весточки от брата, и не замедлила порадовать внучку. Старуха хоть и обижалась на нее, не крепко, правда, ну уж, видно, бог ей, Наде, судья. Как же: не простившись, не сказавшись, отроилась ночью и улетела. Только и было ее слов: «Закройся, бабаня, я ухожу». Бабаня пока расчухалась и сползла с печи – в хате уже пусто: ни дитя, ни внучки. Хапун сцапал.
Письмо ободрило Надю. Читала она медленно, вслух, вникая в каждую строку. Бабка, топыря туговатые уши, слушала и все сморкалась в платочек, заглушала Надю. В начале письма шли бесконечные поклоны родным и знакомым. Потом, обращаясь к отцу, Пашка с угрозой спрашивал: «…в какой раз я все твержу тебе сообщить про Надьку – как она там и что, – а ты все молчишь, как замок на губы навесил. Писал ей – тоже ни слуху ни духу. Что у вас там деется? Где сейчас сестра? Нехорошее вы там, батя, творите. Смотри, как бы лихо тебе не пришлось. И не столько от меня, как от другого. Упреждаю об этом…» В конце письма сообщалось о том, что полк теперь перебросили в тыл, на отдых. Расположили в местечке Бриены, подле станции Арцис, в Бессарабии. Отдыхать, по слухам, придется не меньше месяца. Удастся ли столько отдыхать, видно, мол, будет.
Про Федора в письме не упоминалось. Но если прямо о нем не упоминалось, то догадаться было нетрудно, кого Пашка разумел, говоря, что отцу придет от «другого» лихо. Ясно, кто это «другой». Значит, жив он, здоров. Только вот укор брата был непонятен: «Писал ей – тоже ни слуху ни духу». Но когда же писал он? Ведь она ничего не получала. Надя еще раз перечитала строки, вздохнула и, любовно свернув листок, спрятала его за пазуху. Почувствовала, как от души у ней немножко отлегло, будто письмо впитало в себя часть ее горя. И как будто день ускорил свои шаги, заторопился к исходу – в нетерпении увидеть Мослаковского минуты ей казались часами.
Врач приехал только на второй день к вечеру.
Степан, видевший, как с бугра на галопе спускалась знакомая пара, загодя распахнул ворота, и припотевшие рысаки, не сбавляя скок; внесли фаэтон во двор. Андрей Иванович молодцевато задернул рысаков, уткнул их разгоряченными носами в крыльцо, и фаэтон, мягко вздрогнув на рессорах, остановился. Из кузова выглянул рыжеватый, уже стареющий человек с коротенькой клином бородкой. Левый глаз его был резко прищурен (зрачок из-под сведенных ресниц – что шильце), в то время как правый смотрел открыто, и оттого лицо врача казалось слегка кривым. Пухловатой маленькой ладонью он оперся о железный ободок и легко спрыгнул с фаэтона. В движениях, несмотря на склонность к полноте, – стремителен; ростом – чуть ниже среднего. Не дожидаясь приглашения, выхватил из кузова аккуратный емкий чемоданчик, похожий скорее на портфель, и, осведомившись у Степана, жив ли ребенок, короткими, под стать Андрею Ивановичу, шажками заспешил к крыльцу.
В сенях он столкнулся с вышедшим к нему навстречу Трофимом, перекинулся с ним несколькими отрывочными фразами и, похлопав его по плечу, ободряюще осыпал скороговоркой:
– А вы не беспокойтесь, не беспокойтесь, сейчас мы… не беспокойтесь!
Прежде чем войти к больному, пожелал стряхнуть с себя дорожную грязь, обмыться: бурыми крапинами суглинка испятнана была не только его войлочная горская бурка, но лицо, и руки. Раздеваясь и оправляя себя, он все это делал быстро, на ходу, дорожа минутами. Плескал на себя воду, расспрашивал, советовал, успокаивал, восклицал по поводу дорожных приключений – и все это одновременно. Трофим, на правах хозяина, следовал за ним по пятам. Из кухни, где врач приводил себя в порядок, он под всякими предлогами выпроводил всех – бабку Морозиху, Андрея Ивановича, мать. Прислуживал сам. Когда Степан по какому-то делу хотел было зайти в кухню, Трофим так на него зашипел, что того как ветром смахнуло. Молодого хозяина явно что-то волновало. Опаской и настороженностью были проникнуты все его скупые слова, резкие жесты, недоверчивые и пытливые взгляды. Врач закончил свое короткое умывание и уже намеревался идти к больному – Трофим в коридоре поймал его за рукав и, глядя в сторону, сказал:
– Господин доктор, обождите. У меня к вам… словцо. Наедине. Давайте вот сюда. Пожалуйста.
У врача над правым глазом приподнялась и выгнулась дугой рыжая, тронутая сединою бровь. Недоуменно гмыкнув, он подошел к открытой хозяином двери и заглянул в комнату. Первое, что увидел, – это огромную в углу под потолком икону: богоматерь с младенцем на руках. Чуть склонив гладко причесанную античную голову (над ней в бледной позолоте, как новолуние, – полукруг), богоматерь смотрела на прильнувшего и обращенного к ней худым личиком младенца, который покоился на ее коленях, и кроткий, умиротворенный взгляд ее был полон печального раздумья. Перед иконой, помаргивая, горела лампадка. Вдоль стены горой высилась кровать и в конце ее, чуть не до потолка, громоздились подушки. Глухая, с одним маленьким во двор окошком, комната эта служила старикам спальней. Воздух в ней был сперт, отдавал чем-то кислым, и врач поморщился.
– Надо же проветривать. Эка же!..
– Не в том дело, господин доктор, – Трофим досадливо махнул рукой и так же, как и врач, хотя и по иным причинам поморщился, – вы присядьте… послушайте. Между нами только… Сядьте.
Врач нетерпеливо оглянулся на прикрытую и заложенную на крючок дверь.
– Но… болезнь ведь не будет ждать. Возможно, потом?..
– Я прошу вас, доктор! – обидчиво сказал Трофим, и верхняя, в пушке, губа его свернулась корытцем.
– Нуте-с?..
…Спустя какую-то долю часа врач выскочил из спальни вне себя. Лицо его, обычно добродушное, было злым, живые, проницательные глаза как-то странно мерцали. Сминая галстук, он долго дергал себя за крахмальный воротничок, вертел головой, словно бы воротничок ему стал тесен и он выпрастывал из него шею. Маленькими шажками, морщась и передергивая плечами, побегал взад-вперед по кухне, потряс кулаком, потом поднял свой аккуратный, похожий на портфель чемоданчик и пошел…
В то время как врач с Трофимом сидели в спальне стариков, Надя, не находя места, металась в своей комнате. В ожидании спасителя она десятый раз принималась одергивать на ребенке новую, только что надетую рубашку, одеяльце, охорашивать зыбку. О себе она настолько забыла, что даже не переоделась и не сменила платья. То и дело заглядывала в пустующий зал, откуда должен появиться врач, прислушивалась, ловя шаги. Но в коридоре стояла тишина, и врач все не показывался. Наконец Надя не вытерпела и, чтоб узнать: скоро ли? – послала не отходившую от нее бабку. Та через несколько минут приковыляла в величайшем смятении.
– Ну, что-о делать?! – сокрушенно запричитала она. – Батюшки!.. Проклятые скупердяи! Дохтур-то уходит. Господи! Хоть что – ценой не сошлись, поскупились. Анчибил их возьми! Какие страсти…
Надя на мгновение обомлела. Цветастый в шелковой расшивке колпачок, который она хотела надеть на закрученные волосы, выскользнул из руки и мягко шлепнулся на пол. Широко открытыми глазами смотрела на бабку и не понимала, о чем та говорит. Но вот, придя в себя, метнулась к сундуку, куда Трофим иногда клал деньги, грохнула крышкой. Вышвыривая все, что подворачивалось под руку, – какие-то бумаги, ленты, ремешки, – рылась в потайном и открытом ящиках, под ящиками – нашла три десятирублевки. Сунула их за пазуху, где хранилось Пашкино письмо, порылась еще. Но денег в сундуке больше не было.
Бабка узловатыми, костлявыми пальцами зашарила у себя по груди. За многие-многие годы по полушкам да по алтынам скопила она две золотые монетки – полуимпериалы. Монетки эти, зашитые в ладанку, носила на себе вместе с крестиком. Уже не один гайтан истлел на ее худой морщинистой шее. В ладанке помимо золотых еще хранился кусочек дерева. И не какого-нибудь дерева, а того, святого, на котором был распят Христос. Кусочек этот, принесенный из Иерусалима, за гостеприимство подарил ей проходящий монашек. Золотые монетки, облитые слезами и потом, сберегались ею про тот неминучий день, который рано или поздно придвинется к любому смертному. Бабка хотела, чтоб ее проводы в последнюю путину ни для кого не были в тягость. Обнажив впалую с выпяченными ключицами грудь, она сорвала с гайтана ладанку и сунула ее в руку внучке:
– На, бежи скорей, зови!
Врача Надя настигла во дворе. Мелкими нетвердыми шажками, чуть скособочившись, тот шел в направлении ворот. Темно-синяя фетровая шляпа с широкими полями сидела на нем как-то смешно, сдвинувшись набок. Прищуренные глаза его в задумчивости блуждали по огромному богатому двору, уставленному инвентарем – аксайскими буккерными плугами, железными боронами, телегами. Подле инвентаря, постукивая ключами, суетились и покрикивали люди. Врач хотел было подойти к ним, но, заслыша топотанье ног позади себя, повернулся. К нему в одних белых шерстяных чулках – без обуви, в распахнутой кофтенке, верхней, бежала девушка. За плечами у нее развевалась волнистая распустившаяся коса. Она бежала, не глядя под ноги, и только чудо переносило ее гибкое молодое стройное тело через разбросанные по двору ярма, воловьи дышла и всякие другие предметы. Когда она приблизилась, врач взглянул на нее, и редкая отточенность линий в ее фигуре и лице его поразила: «Какая чудесная девушка!» – подумал он. В голубых горячих глазах, с мольбой устремленных на него, – беспредельное, до исступления отчаяние.








