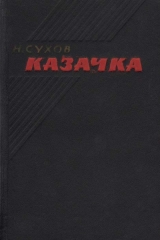
Текст книги "Казачка"
Автор книги: Николай Сухов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 41 страниц)
– Нет, любый, никуда я не поеду, – сказала Надя твердо и еще плотнее прижалась к Федору. – Никуда от тебя. Нет. Пойдем с тобой завтра в штаб, и я запишусь в сестры, при сотне останусь. Вместе будем, везде.
Рука Федора, которой он гладил Надино плечо, дрогнула, и он непроизвольно стиснул ее плечо до боли. В глубине души он и сам хотел, чтобы Надя осталась тут, но сказать ей об этом не решался. Побаивался, что ей будет страшновато, когда их пошлют на позиции, да и опасно.
– А если… угробят меня? А? – затая дыхание, спросил он. – Буду тебе по ночам мерещиться, пужать. Лучше б не видать тебе этого, дома бы лучше.
– Нет, не лучше. В случае чего, как ты говоришь, я сама тогда под пули пойду.
Он порывисто, но мягко обнял ее, желанную, единственную, отзывчивую на ласки, и с жадностью прижал к себе; Надя, радостно смеясь, прильнула к нему, и мир в эти минуты с его извечными треволнениями перестал для них существовать.
III
Русская армия, растянувшаяся по тысячеверстным пространствам – от берегов Балтийского моря до Турции, к июню тысяча девятьсот семнадцатого года, к тому времени, как ее толкнули в широкое наступление по всем фронтам, была вконец измучена.
Уже три года длилась бесславная кампания, три года страдала армия, испытывая на каждом шагу нехватку и боеприпасов, и вооружения, и продовольствия, и фуража. А тут еще измены, предательства в верхах. Голодная и оборванная, погибающая за чуждое ей дело, тщетно тянулась она, русская армия, к единственному выходу – миру. Временное правительство было озабочено иным: отечественные и союзные англо-французские капиталисты жаждали продолжения войны.
По фронтам с шиком раскатывали толкачи – комиссары правительства, сами временные правители, и, клянясь будущностью родины, гнали войска сражаться до победы. Встречали толкачей в армии по-разному: случалось, что кое-где им кричали «ура», где злобно освистывали – это было чаще; а на одном из участков юго-западного фронта солдатский корпусной комитет, ожидая Керенского, военного министра, приготовился к встрече по-своему: заранее сооруженная и в духе времени украшенная трибуна, откуда всероссийский краснобай должен был обратиться к войскам с речью, была взята под точный, выверенный прицел орудия. Только случайность увела Керенского и его свиту от этой трибуны.
Армия в июньских наступлениях обессиленно падала, поднималась, истекала кровью… Но преступная эта затея буржуазных временщиков с самого начала была обречена на провал, и она провалилась. В умах армейской массы победило – и уже окончательно – недоверие к Временному правительству; последние надежды на то, что это правительство когда-нибудь вытащит страну из тупика, куда ее, до дна вычерпав, загнал царизм, навсегда рухнули. Временщики, чтоб внушить и упрочить веру в себя, ввели на фронте полевые суды и смертную казнь. Но при первых же выстрелах в солдат по приговору судов одновременно с пороховым дымом развеялись и остатки оборонческих настроений, что кое в каких солдатских прослойках еще были, а ров, отделявший солдат от чуждого для них командного состава, пролег еще глубже.
* * *
Тридцатый полк, отправленный на фронт походным порядком, через несколько дней после того, как выступил из местечка Бриены, переправился через порубежную реку Прут, которая струистой, в крутых берегах полосой отделяла Бессарабию от Румынии, и после короткой передышки в селе Слободзе-Канаки двинулся на позиции. Теперь было уже недалеко: верст тринадцать – пятнадцать. Впереди 30-го полка в голове дивизионной колонны шел 32-й Донской полк.
Вслед за второй сотней 30-го полка, где ехали в строю Пашка и Федор, тянулась канцелярская, непомерно громыхавшая двуколка, накрытая брезентом. На ней рядом с сотенным писарем и ездовым сидела Надя. Она была зачислена добровольцем в полк и в качестве сестры прикреплена ко второй сотне. Фельдшер этой сотни на ходу, кое-как научил ее накладывать повязки, пользоваться шприцем и даже успел дать некоторые советы: как оказать первейшую помощь при контузии и ранении, остановить кровь и прочее.
Полк переменным аллюром приближался к позициям, и беспрерывные громовые раскаты артиллерийской пальбы с обеих сторон становились все оглушительней. Русские батареи всех калибров, ведя подготовку к наступлению, слали бешеный огонь, достигавший необычайной силы и плотности, и противник отвечал тем же.
На узкой полосе к этому времени по распоряжению командующего фронтом генерала Щербачева было стянуто громадное количество конницы: части 3-й, 16-й, 13-й кавалерийских дивизий и части 3-й Донской казачьей дивизии, в состав которой входил и 30-й полк. Этим кулачищем командование метило нанести противнику сокрушительный удар и прорваться к нему в тыл. Полки торопились к позициям, где за буровато-глинистыми увалами, за сизым, задернутым мглой перелеском в окопах лежала русская пехота, подкрепленная ударными добровольческими батальонами.
Надя, сидя на двуколке, тревожно посматривала по сторонам, с поднимавшимся в груди страхом озирала чужую, нелюдимую, как ей казалось, местность и все вскидывала глаза кверху, бессознательно разыскивала в небе ту чудовищную тучу, что глушит и давит все вокруг. Но на небе, в сторону противника блеклом, цвета охры, а позади редкой чистоты и свежести – не было ни единого облачка.
В полуверсте от колонны, по проселочной дороге, скрытой травой и далью, торопилась бог весть откуда и куда женщина с небольшим, лет пяти ребенком, который был в одной рубашонке. Женщина шла в направлении противоположном движению войска. Ребенок все время отставал, крутил головенкой, вертелся, поворачиваясь к войску, и как-то смешно бочком подпрыгивал.
А впереди колонны, за холмами и перелеском все отчаянней громыхало, стонало, и вместе с запахом едкой кисловатой гари наплывала мгла. Шафрановое солнце, стоявшее почти в зените, поблескивало, меркло, точно спрятанное в мешок.
День был безветренный, знойный, но Надя чувствовала, как по спине ее проползал холодок. «Господи, за что ж такое людям наказание?» – думала она. Зубы ее норовили выбить дробь, как на морозе, и она с силой сдерживала себя: своего страха выдать ей не хотелось.
Оглядываясь назад, на казаков третьей сотни, напиравших на двуколку, Надя видела, что потные и запыленные лица у них словно вылиняли, вытянулись, а у некоторых будто даже позеленели. Все взгляды были направлены вдаль.
Казак со светлым, торчащим из-под околыша чубом и такими же светлыми усами, что ехал в переднем ряду, левым в отделении, с жадностью курил и сплевывал через голову коня. Обращаясь к рябоватому соседу с полоской приказного на погонах, он то и дело притрагивался к его колену рукоятью плети, восклицал: «О, о, гля, гля!..» (Надя не знала, что верховые сквозь едкую мглу уже отчетливо различали черную сплошную вихрастую гряду разрывов.) Приказный, покашливая, нервно тер щеку, и на поднятой руке его, пугая лошадь, раскачивалась плеть. Из-за плеча светлочубого казака то показывались, то снова скрывались чьи-то суровые, под нахмуренными бровями, глаза. В задних рядах взвода перебрасывались обрывками фраз, и в глухих тревожных голосах явно слышался ропот. Волнение казаков успело передаться даже коням, и они, похрапывая, поводя ушами, начали спотыкаться чаще обычного. Один лишь угрюмый, нахохлившийся на коне есаул, ведший сотню, казался спокойным. Резко угловатое квадратное лицо его, словно наспех и небрежно высеченное из камня, было сурово и непроницаемо.
А гул, нарастая, подкатывался все ближе, сотрясал, кромсал воздух, притихал на минуту и взметывался с еще большей силой.
– Чисто в ад кромешный едем, че-ерт знает! – возмущался худой долговязый писарь, вертевшийся на подстеленных бумагах, как на углях. – Содят же, черти!
– Погоди, еще не то будет, – посулил бородатый казак-ездовой, неторопливо похлестывавший лошадь, – вот подзорники узрят нас в трубу и так начнут чесать – поворачиваться успевай.
– Ну их к… бабушке! Пускай лучше не узрят, не накликай! – Писарь поежился и, заглянув Наде в лицо, пытаясь улыбнуться ей, спросил: – Ну как, сестра, а? Приятственная музыка? Небось никогда не слыхала?
Ответить Надя не успела. В вышине, мгновенно приближаясь, послышался какой-то сверлящий, судорожный на низких тонах клекот. Надя еще не знала, что означает этот звук, но по тому, как писарь внезапно побледнел и заерзал на сиденье, она поняла, что это что-то страшное, и в ожидании замерла. Снаряд, свистя, скрежеща и буравя воздух, пронесся над их головами и плюхнулся саженях в двухстах, в редком сосновом мелколесье. Раздался грохот, и к небу, опережая космы песка и камней, опережая багряно-серое облако дыма, искр и каких-то хлопьев, взвились вырванные с корнем кусты. Надя с ужасом смотрела, как в сторону от взметнувшегося пожарища по наклонной линии кружилась юлой и летела сосна, ветвистая, рослая, сажени в две, размахивала, будто хвостом, длиннейшим корневищем.
– Вот оно! – охнул писарь. – Оркестр сатаны. Держись теперь!
Не отзвенел еще в ушах первый разрыв, и не успела Надя опомниться, как снова и еще пронзительней: кле-кле-кле-кле… гу-гууу… вззи… Этот снаряд упал по другую сторону от дороги, на таком же примерно расстоянии. Затем снаряды, уродуя почву, начали ложиться все чаще и ближе; один по одному и по два сразу, фугасные и шрапнельные; в воздухе и на земле; справа, слева и над головой. Противник бил по колонне из тяжелых дальнобойных орудий, и все, что происходило в дальнейшем, Надя помнила смутно, будто сон.
Сотни, поломав ряды, свернули с дороги и целиной, по прошлогодним, заросшим сорняками пашням, по делянам кукурузы и вызревшего жита-падалицы, под углом к прежнему направлению пошли крупной рысью. Двуколка, не отставая, приплясывала на бороздах, подскакивала, металась из стороны в сторону, и седоки едва удерживались на ней. Надю от страха трясло и било хуже чем в лихорадке. Сидя между орущим на лошадь ездовым и писарем, выгнувшимся кренделем и цеплявшимся своими выпачканными в чернилах руками за бечеву, Надя до боли жмурила запорошенные пылью глаза, вглядывалась в мелькавшие впереди спины всадников, стараясь угадать Федора с Пашкой – целы ли они?
Среди вытоптанного копытами жита, возле огромной дымящейся ямы, откуда на проезжавших тянуло удушливым запахом серы, копошились две подбитые лошади. Та, что лежала на разворошенном бугорке, головой к колонне, вороная, с белым на лбу клином и в «чулках», была видна отчетливо. Сотрясаясь вся, она била землю передними в подковах копытами, как бы продолжая бежать. Бок ее, опоясанный подпругами седла, от хребтины до паха был разорван. Куски алого, вывернувшегося наизнанку мяса все еще кровоточили; по свежей глинистой насыпи, набухая, пузырясь и курясь, расползалась темная масса кишок. Другая лошадь была скрыта рожью. Из-за опаленного куста торчал только ее костлявый, со слабо пошевеливавшимся хвостом круп.
Возле лошадей, обезумев, кружился молодой с полотняно-белым лицом служивый. Волосы на его обнаженной голове были всклокочены; шашка, блестя эфесом, болталась на животе. Он приседал, размахивал руками и, как можно было догадаться по разинутому перекошенному рту, надрываясь в крике, звал кого-то на помощь. Но голоса его не было слышно. Под сапогами у него, во ржи, валялась белокурая с никлыми усами голова, отделенная от туловища; а чуть поодаль лежало и само кинутое навзничь туловище, в старенькой, заплатанной и сморщенной на груди гимнастерке.
Писарь подтолкнул Надю, она взглянула на все это и, содрогнувшись, закрыла глаза. Ей делалось не по себе, дурно. Боясь упасть с двуколки, она прижималась к ездовому.
Двуколка с разгона остановилась, и если б ездовой не удержал Надю – лежать бы ей под колесами. Вахмистр с каким-то казаком – вдвоем, разрывая сапогами траву, по цепкости похожую на повитель, подносили убитого. Вахмистр держал его за ноги, казак – под лопатки. Лица убитого из-за локтя казака не было видно, но по санитарной с красным крестом сумке, покачивающейся на нем, свисая, Надя с внутренним трепетом признала сотенного фельдшера, своего учителя. Пальцы правой руки у нее сами собой сложились в трехперстие, и она перекрестилась.
– Слазьте! – тяжело сопя, приказал вахмистр, и голос его прозвучал оскорбляюще грубо, – Ну-к, писарь, помогай, чего раскрыл хлебало!
Труп фельдшера плашмя уложили на двуколку, и вахмистр, сняв с него санитарную сумку, браунинг в кожаной кобуре и передавая то и другое Наде, сказал:
– Все… царство ему небесное. Нет лекаря… Надевай и садись вон на энтого коня, вон, что топчется. Это его конь, упокойника.
Сказал, отвернулся и по-медвежьи зашагал к лошадям, вырывавшим у коновода поводья. Сознание у Нади работало плохо, и она смутно представляла, для чего ей, собственно, надо садиться на коня и что ей надо делать. Но, подчиняясь приказанию начальника, она прицепила к поясу револьвер, с которым еще не умела обращаться, перекинула через плечо сумку и, подбежав к беспокойному, неказистому с виду, но туго подобранному и крепкому в поставе маштачку, впрыгнула в седло. В волнении она забыла осмотреть и перетянуть стремена – фельдшер был повыше нее ростом – но маштачок, влекомый стадным инстинктом, уже мчал ее вслед за вахмистром и казаками к сотне.
Зона дальнего огня противника миновала, и сотни, подравнивая уже потрепанные немножко ряды и давая лошадям передохнуть, перешли на шаг. Снаряды ураганили теперь и месили землю несколько левее. Там, в кустах, маскировались русские гаубицы, и с холма казакам видно было, как они, дружно горланя, размеренно и почти одновременно выплескивали волны бледного с краснинкой света. Изредка над головами все еще погромыхивала шрапнель, злобно визжали осколки и в смрадной безветренной вышине, не та́я, плавали сивые круги разрывов. А впереди, за перелеском, все пуще лютовали трехдюймовые орудия, свои и вражеские, закатывались в истерике пулеметы, и в короткие, редкие паузы слышалась ружейная трескотня. До позиций оставалось верст шесть-семь.
Надя, укрепившись в седле и овладев собой, удерживала скок маштачка, обгоняла ряды всадников, пестрые, извилистые, растянувшиеся по бездорожью версты на две. Сотни шли обычным строем, по три. Вдогонку Наде иногда летели из рядов насмешливо-ласковые, а то и сальные добродушные восклицания. Но она не слышала их или, вернее, старалась не слышать. «Какие, скажи, люди есть, – думала она, – шутки шуткуют, а в тороках у них смерть сидит». Своих ребят с радостным облегчением она угадала еще издали. Федор, кособочась в седле и покачиваясь, упорно смотрел в ее сторону – выражение лица его было скрадено расстоянием; а брат, в ту минуту как Надя глазами разыскала его, ехавшего чуть позади Федора, почему-то держал навытяжку руку, – видно, разговаривал с одновзводниками и что-то им указывал. Надя заняла положенное ей в строю место – в конце замыкающего взвода, а в голове колонны в это время произошла какая-то заминка: взводы сгрудились в низине и замедлили шаг.
– А-а, сестрица… сюда давай, и у нас конплект будет, – с теплой улыбкой сказал ей тихий, ехавший в одиночку казак и, взглянув на маштачка, погрустнел. – Укокошили фершала… Его это лошадка?
– Да… – вздохнув, протянула Надя.
– Рядом со мной бедняка кокнуло, – продолжал словоохотливый казак. – Как оно его… Снаряд – вот-вот, рукой подать трахнул. Чуть податься ему – наворошил бы не таких делов. У меня только ухо карябнуло. Вишь как… – Казак выгнул шею и показал Наде грязную, резко оттопыренную, с крохотной мочкой раковину, разделенную осколком почти пополам. На краях косой зубчатой рассечины – пятнышки подсыхающей крови.
Надя рассеянно и молча взглянула. После всего, что ей только что довелось увидеть, это легкое ранение уже не вызвало в ней никакого чувства. У ней даже и в мыслях не шевельнулось, что ведь она в своей новой роли обязана как-то помочь казаку, хотя бы смазать йодом рассечину. Но она совсем забыла – и что она тут, и для чего. А казак, видно, и не нуждался в ее помощи. Отпуская повод коню, лизавшему на ходу травы, он принялся было рассказывать о подробностях гибели фельдшера, но оборвал и насторожился.
По колонне полка откуда-то с хвоста его, становясь все ясней и отчетливей, катилась разноголосая и дружная перекличка, напоминавшая перекличку петухов на заре: тут были и почти неслышные пискливые тенора и теноришки всяческих высот и оттенков, и басы, хриплые, гудящие. Сперва голоса, ломаясь, захлестывали друг друга, и смысла выкрикиваемых слов уловить нельзя было. Но вот ступенчатая разноголосица докатилась до третьей сотни, и кто-то надтреснутым, но густым басом уже различимо протрубил:
– Головной, наза-а-ад!..
– Гля, вот добро! Назад, говорят, – И Надин сосед расцвел в улыбке. Потом он выпрямился на стременах, расправил грудь, наполнив ее до отказа воздухом, и что было силы с наслаждением перекинул дальше: – Наза-а-ад, головной!
Около скученных взводов второй сотни на злой, строптивой и непомерно вертлявой, что оса, полукровке-кобылице появился командир сотни, все тот же плотный с одутловатым лицом подъесаул Свистунов, которого, несмотря на его храбрость, многие казаки второй сотни, в том числе и Федор Парамонов, не выносили за сумасбродство.
– Кто тут провокацией занимается? – закричал он, потрясая и щелкая по сапогу плеткой, – Кто паникерствует? Срыв боевого приказа… Самочинство… под суд!
Но клич незримой птицей уже перемахнул через его голову и, удаляясь, покатился по рядам первой сотни:
– Головной, наза-а-ад!.. наза-а-ад!.. а-ад!..
Надя, возясь с санитарной сумкой, перетягивая на себе ремень, так же слишком длинноватый для нее, как и стремена, и взглядывая на багрового, бессильно мечущегося около взводов подъесаула, заметила, как из-за седлистого, в прошве мелкого лиственника холма выползают, колыхаясь, звенья конницы, идущей навстречу. Издали казалось, что между двумя встретившимися потоками всадников нет никакого промежутка, и они движутся бок о бок: один поток – к холму, другой обратно. Утихшая было перекличка поднялась снова. Теперь она катилась уже с другого конца и, по мере приближения встречной колонны, становилась все более многоголосой и пестрой. Сотни 30-го полка, идущие замедленным шагом, остановились вовсе. Ряды сдвинулись и поломались. Надя не успела еще застегнуть пряжку у сумки, как забурунный маштачок ее носом ткнул в хвост поджарому вислозадому дончаку и ощерил зубы, грозя укусить. Потный, гнувшийся к луке казак, Надин сосед, побаивавшийся, как бы из сослуживцев кто-нибудь не доказал про него подъесаулу, приосанился и заулыбался снова.
– Гля, никак тридцать второй полк… Во молодцы!
Тут же из передних столпившихся взводов второй сотни, осилив все другие голоса, послышался насмешливый выкрик, и Надя узнала голос Пашки:
– Эй, братики, вы как: по новой тахтике, задом наступаете?
Из колонны 32-го полка в ответ дружно гаркнули:
– Кому нужен Бухарест, пущай передом наступает, а нам он без надобности.
– Трогайте, трогайте, чего стали! Вас ждут там, скучают.
– Поскорея, блины у тещи прокисли.
– Кум Данил, здорово!
– Домой, будя…
– Односум, задери тебя… мое почтение!
Скрип седел, шорохи копыт, порсканье людей и коней, бряцанье оружия и густой, резко бьющий в ноздри запах конского пота…
Пашка Морозов, радуясь подвернувшемуся случаю позубоскалить, выехал в интервал между колоннами, перекинул ноги по одну сторону седла и, выгибаясь, поблескивая урядницкими галунами и болтавшимися на груди Георгиями, без конца выкрикивал шутки, смешил казаков. В ответ получал иногда не менее острые, крепко сдобренные матерном словечки, но это его не смущало.
– Ты, голова, развесил уши – кобыла кверх спиной у тебя, ей-бо!.. А ты, эй, обозник, ось в колесе, не видишь?
Вдруг в беспорядицу гама, просверлив его, вклинился пронизывающий до дрожи в теле знакомый посвист и приковал к себе внимание всех: хлю-хлю-хлю-хлю… Гам мгновенно смолк, как обрезало. Повисла напряженная тишина. Кони, вскинув головы, застрочили ушами, кожа на них задергалась. Металлический посвист опалял уже горячей струей, и тут дико прозвучала чья-то команда:
– Рассыпа-айсь!
Крайние в рядах всадники, наскакивая друг на друга, шарахнулись во все стороны. Надиного маштачка и ее самое чуть не подмяли рослые, широкогрудые, с бешено выпученными глазами дончаки. Уцелела Надя только благодаря своей расторопности. Посреди скученных взводов, где был зажат Федор, закипело и забурлило. Испуганные лошади, кусаясь, взвизгивая, становясь дыбом, полезли одна на другую. Снаряд угодил в колонну 32-го полка, саженях в двадцати от Пашки. Подле выхваченной в пояс человека ямы, полукругом, в различных позах легли убитые люди и кони, обсыпанные суглинком. Пашка вылетел из седла. Его в бок, наоскользь толкнул осколок. Сгоряча он вскочил. Но, кинувшись ловить свою убегавшую лошадь, переступил несколько раз и упал опять, зацарапал ногтями землю, вырывая с корнем мелкий сорняк…
Первым к нему подскочил Федор. Он спрыгнул с коня, нагнулся и, не в силах унять трясущуюся нижнюю челюсть, с трудом выговорил:
– Павлуша, Павлуша, ты… ты чего это… живой ли?
– Я-то? – приподняв меловое в капельках пота лицо, отозвался тот, и голос его был поражающе обычен. – А как же! Живой, ей-бо! Вот только… ф-ф… как бы окрутить тут, у пряжки… хлещет…
Федор сунулся к седлу, где хранился бинт. Перевязать рану он решил сам, и попроворней, пока Надя не подъехала. Видел, как она в сотеннике от них рвала маштачку губы, кружила его. Пыталась проскочить к ним, но, должно быть, обессиленная испугом, никак не могла совладать с заупрямившейся лошадью. Федор не только не хотел звать ее на помощь – он не хотел даже, чтобы она увидела рану.
Нервно копаясь в переметных сумах, вышвыривая из них содержимое, он только успел разыскать бинт, как к ним подскочил Жуков, ведя в поводу Пашкина коня. В это время в небольшом отдалении от них рявкнул другой снаряд, затем – третий, уже ближе: осколки прожужжали над их головами. И разрывы, сливаясь в сплошной рев, как при первом обстреле, загрохотали на земле и в воздухе.
Казаки, воспользовавшись заминкой в голове колонны, где до драки разгорелись споры – идти дальше им или не идти, – а также заразительным примером самовольно повернувшего в тыл 32-го полка и невесть кем отданным и стихийно прокатившимся по сотням приказом «назад», поворачивали коней, пригибались к лукам и стайками, а то и в одиночку, выходя из подчинения офицерам, мчались в тыл.
Федор с Жуковым подхватили Пашку на руки, бережно вскинули его в седло, вскочили на коней сами и, придерживая раненого с обеих сторон, привычным, в три лошади, строем пошли шибкой рысью. Пошли они под отложину пригорка, к смутно блестевшей вдали полоске жита, где под чертой горизонта маячили рассыпавшиеся всадники.
Надя, сломив наконец норов маштачка, приблизилась к ним, и Федор с больно сжавшимся сердцем увидел в глазах ее ужас. Стараясь ободрить ее, он задорно, насколько мог быть задорным в такой час, крикнул:
– Не робей, Надюша, ничего, не робей! Держись за нами!
Скакали недолго. Как только участок обстрела остался позади и у стоптанной полоски жита, куда они подъехали, ничто не угрожало им, они задержали коней, сняли с Нади санитарную сумку, с Пашки – пунцовую отяжелевшую рубаху, которую Федор разрезал шашкой, и вдвоем, не торопясь, сделали перевязку. Сделали ее самобытным способом, изведя флакон йода, громадное количество марли и почти весь запас ваты. Рана была не смертельной, как определил Жуков, но и не из легких. Мышцы правого бока толстогубо вывернулись, разъехавшись на вершок в поперечнике и на четверть в длину; одно ребро как будто было перебито, хотя точно сказать это ни Жуков, ни Федор не могли. Надя из сестры милосердия или даже из фельдшера была произведена в коноводы. Она держала взмокших лошадей и, опустив голову, по-детски всхлипывала. Утешал ее не только Федор, но и сам Пашка. Пряча от нее лицо, кусая губы и весь передергиваясь, но силясь сохранить свой всегдашний шутливый тон, он говорил ей:
– И чего ты, Надька, ей-бо! Ну, чего ты… Хуже бывает. А у меня что? Ребра лишь пощупало. И то не все. С другого бока ничего, целы.
Федор кончил перевязку, подошел к Наде и, загородившись лошадьми, на минуту привлек ее к себе, тихо, грустно и нежно сказал:
– Крепись, родная, не падай духом. Пока… не так опасно, заживет… Война – она такая, будь ей трижды анафема! – добавил он уже другим голосом, злобно.
Перетянул у Надиного седла стремена, подогнав их по ее росту, помог ей взобраться на маштачка; потом они с Жуковым кое-как усадили Пашку на одну сторону седла; и все четверо рядышком медленно тронулись дальше, беря направление на село Слободзе-Канаки, где за песчаными в лучах солнца холмами только что скрылись из виду всадники.








