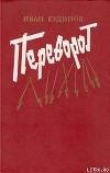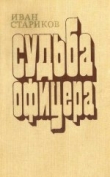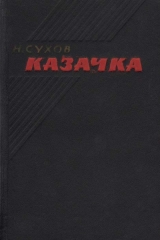
Текст книги "Казачка"
Автор книги: Николай Сухов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 41 страниц)
– Да ты это как, иродово семя, да ты это что!..
С живостью, которой никак нельзя было предположить в ней, она схватила свой увесистый сучковатый посошок, ожгла Трофима по спине и, оттолкнув его, вскочила на крыльцо. С шумом и грохотом пробежала по коридору, ворвалась в спальню молодых, и вдруг душа у ней, как она сказала, ушла в пятки: ни внучки, ни зыбки с мальчуганом она не обнаружила, след простыл. Откуда-то из боковой комнатушки появилась сваха Наумовна. Не поздоровавшись, принялась костерить бабку на чем свет белый стоит. Та, стуча по полу посошком, ответила ей. И тут такое поднялось! Чуть было друг дружке в волосы не вцепились. За пустяками дело осталось.
Слушая бабку, Надя звонко и раскатисто хохотала – давно уж она так не смеялась. А та, разводя руками и улыбаясь всеми морщинками, без конца вспоминала:
– Уж она-то меня, уж я-то ее… ну и доводили! И немытые вы, и нечесаные, и такие вы, и сякие. Весь род ваш такой. Какими только прозвищами не обложила меня. А я ей – блинешники вы, скупердяи. Она как прыснет опять да как прыснет!..
Бабка упрямо и настойчиво уговаривала Надю вернуться домой. Обидно-де и прискорбно ей видеть внучку в прислужницах, да еще у кого! У медведя у какого-то, прости господи. Хоть бы стоящий человек был, не досадно бы. А то так, тьфу – пенек на ногах. Бабка клялась, что если, мол, дурень старый, то есть Андрей Иванович, вздумает по-прежнему самоуправствовать и терзать Надю, она скрутит его в бараний рог. Но Надя плохо верила в это. Бабка обиделась и поджала губы.
– Однова тут долго не промыкаешь, вот попомни мое слово, – сказала она, прощаясь.
И действительно, как ни горько это было для Нади, предсказание это вскоре сбылось.
На Алексея-с-гор-потоки, собирая обедать, Надя заметила, что хозяин сегодня почему-то не такой, как всегда – простодушный и откровенный, а все прячет глаза, отворачивается. По его обличию она сразу поняла, что он чем-то томится, хочет, видно, сказать что-то важное и никак не осмелится. Предчувствуя неладное и внутренне готовя себя к этому, Надя помогла ему.
– Нового, дядя Иван, ничего у тебя нет? – спросила она.
Моисеев в нерешительности помычал.
– Как бы оно… Есть, Андревна. Вишь, дела, волки тя… И не хотелось вроде бы… Да нельзя… Не под силу нам, Андревна, того… держать тебя. И рады бы душой, да нельзя, силов нет.
Надя хоть и готовила себя к удару, но при этих словах все же оторопела, и в лице ее что-то жалко дрогнуло.
– Но ведь я, дядя Иван… я ведь ничего с вас не требую. Никакой платы мне не нужно. И ничего мне не нужно.
– Нет, нет, Андревна, не обессудь. И рады бы душой. Не могем, – глядя в ложку, твердил свое Моисеев, – Никак не могем, не обессудь.
Он, конечно, утаил, почему вдруг держать Надю ему стало «не под силу». Незадолго перед тем на улице он встретил Абанкина Трофима. Поклонился ему я хотел было пройти мимо. Но тот подал руку и задержал его. Несколько минут говорили о том о сем. Трофим угостил его папиросой. Моисеев, почему-то смущаясь перед ним, собрался было ввернуть словцо о своей работнице, потолковать о ней. Но Трофим опередил его. «Надька к тебе, что ль, приблудилась?» – спросил он. «Ага, ко мне. Дня четыре живет, Трофим Петрович…» – «А старуха твоя так и не встает?» – «Нет, волки тя… Замордовался я с ней, никак некому стряпать. Прямо беда! Все больше всухомятку. Теперь вот малость полегчало. Спасибо Андревне, такая молодец!» – «Ну, ты вот что, – строго, почти с угрозой сказал Трофим, – ты Андревну уволь. Слышишь? Уволь! Ссориться со мной… Сам понимаешь. А ссоре не миновать, коль не уволишь. Смотри тогда! Если уж в работнице тебе крайность, найди кого-нибудь, я помогу. На, вот!» – И сунул ему в карман несколько новых шелестящих бумажек.
Надя уходила от Моисеевых в сумерках. Больной ребенок на руках и скудный сверток под мышкой… За лопоухими ветряками на окраине хутора и синим обнаженным бугром, где в рытвинах, поблескивая, все еще лежал скипевшийся снег, дотлевал закат; с юга перекатами наплывал ветер, теплый, ласковый, по-весеннему пахучий и влажный; а с востока, из степи и садов, затопляя улицы, торопилась темень. Где-то в подоблачной вышине, промереженной звездами, летели казарки. Летели они, видно, большой стаей. Перекличка их была дружная, зычная и торжествующе радостная. Волнуя людей, долго она раздавалась над хутором, то умолкая на минуту, то возобновляясь с еще большей силой; долго звала она туда, с собою, в неведомую, сказочно-прекрасную даль. Напрасно! Людям в этом старом мире пока было суждено иное: до гробовой доски топтаться по утоптанным дедами и прадедами тропам, по-кротовьи вгрызаться в землю, стонать по ночам от горестей и болей, злобствовать, ссориться, мириться и ссориться вновь.
Надя шла нетвердой, спотыкающейся походкой. Ни манящие, взволнованные крики казарок, ни ровное, чуть внятное журчанье ручьев, катившихся с бугра, ни гулкий шум воды в речке, падавшей через плотину, – ничто до ее сознания не доходило. В мыслях ее было только одно, беспросветное и всепоглощающее: «Дожилась… дожилась!..»
В извилистой и длинной ульчонке, ведущей в Заречку, никто ей не встретился. А может быть, и встретился, да она не заметила. Переход через речку – в две доски настил на козлах – еще не был снят. Лед вздулся, покорежился, глыбы местами взгромоздились одна на другую. Доски под тяжестью Нади зыбились и выгибались. На средине речки под переходом дымилась черная громадная полынья. Вода, вырываясь из-под обсосанной льдины, кипела, как в котле, пенилась и булькала. Тускло мерцали у льдины края, острые и зубчатые.
Подойдя к полынье, Надя заглянула вниз, в черную пенящуюся коловерть, и вдруг знойная, дикая и вместе с тем облегчающая мысль словно опалила ее. Кровь ударила в лицо, в ушах зазвенело. Как скоро и просто!.. До чего же просто! Как она не додумалась до этого раньше! С непонятной опаской и торопливостью Надя метнула по сторонам глазами – ни на той, ни на другой стороне речки никого не было, лишь тускнели крутые глинистые берега, задернутые тьмою, – зачем-то присела на одно колено, больно стукнувшись о торчавший в доске гвоздь, и еще сильнее прижала к себе ребенка. Словно бы боясь расстаться с ним там, за чертою жизни, она накрепко, до отеков сцепила пальцы. Полу шубы, спустившуюся в воду, мягко и настойчиво влекло течением. Вот тело ее уже начало крениться, нависать над пучиной – и вдруг под полой заворочался и резко вскрикнул ребенок:
– Уа-а-а!..
Надя очнулась. Судорожно выбросив руку, ту, под которой был бельевой сверток, она ухватилась за корявый, угловато стесанный выступ козла и невероятным напряжением сил, в кровь раздирая пальцы, отшатнулась назад. Каким-то чудом она удержалась на переходе, и только сверток плавно скользнул вниз. Подхваченный водоворотом, минуту он метался взад-вперед по полынье, белел чуть заметным пятном и наконец, захлестнутый струей, нырнул подо льдину.
Властное, первобытное чувство материнства заговорило в Наде. Она легко вскочила на ноги, подняла ребенка повыше и, пробежав по переходу, взобравшись на крутобережье, свернула влево. С полы шубы стекала вода, попадала в штиблет, на чулок, но Надя не ощущала этого, В улице неподалеку мелькали огоньки, и один из них, бледный, знакомый, – в окне того дома, где незаметной вереницей пробежали Надины восемнадцать лет. И уже то, что раньше ей казалось большим и значимым, – как встретят ее в этом доме, куда она так давно не заглядывала, теперь уже стало не важным.
* * *
В первое же воскресенье к Морозовым пришел Трофим. Он пришел к ним как обиженный, но знающий себе цену зять. Появление его в доме ни для кого неожиданным не было. Надя знала, что рано или поздно он обязательно явится, а тесть, Андрей Иванович, просто ждал его со дня на день. Разговор Трофима с Надей и Андреем Ивановичем – главным образом, конечно, с ним – был в меру строг и обходителен. Попеняв жене за легкомыслие и непозволительный поступок – виданное ль дело, убегать от законного мужа! – он потребовал, чтобы она раз и навсегда бросила эти глупости и немедля вернулась домой.
– Нельзя же, в самом деле, выставлять себя на посмешище людям, – привел он в заключение свой излюбленный довод.
Как к этому отнесся Андрей Иванович, угадать, конечно, нетрудно. Кому же еще, как не ему, порадеть о мире и согласии между детьми! С той минуты, как еле живая, без кровинки в лице Надя вошла вечером в хату, он не знал покоя, хотя до поры до времени угрюмо безмолвствовал. Еще тогда, когда она жила у Моисеевых, он совсем было собрался пойти к ней, потом – к сватам и распутать петлю. Но сделать этого не успел. Ему казалось, что она ушла от сватов поневоле, – прогнал муж. Тогда – куда денешься! – пришлось бы примириться с судьбою и взять свою незадачливую невесту назад. Коль оказался товар с браком, хочешь не хочешь, а принимай обратно. Но, выходит, что муж не только не прогонял ее, но даже и не бил. Тут уж Андрей Иванович просто ума не мог приложить. Как же это: ни с того ни с сего взбрыкнуть и помчаться куда глаза глядят! Ну и шалава! В кого только уродилась такая!
– Вы, милушки мои, жизни еще не знаете, вот что! – рассудительно сказал он, обращаясь сразу и к зятю и к дочери. – Не знаете вы жизни, нет. Разве ж можно так-то… Мало ли что не бывает между супругами. Можно поругаться, посерчать, повздорить. Даже можно, на худой конец, и поцапаться немного – куда ни шло! Все бывает. А уж так, как вы, – спиной о спину да врассыпную – это уж ни в какую дырку, милушки, не лезет.
Бабка сидела на печи, грела поясницу и, слушая эти разговоры, помалкивала. Она хоть и обещала Наде скрутить дурня старого в бараний рог, если он вздумает самоуправствовать, но у ней хватило духу лишь дать такое обещание. А сейчас она, сгорбленная, незаметная, пряталась в уголок, прижимала к теплым кирпичам свое худое, костлявое тело и за все время не проронила ни слова. Андрей Иванович пригрозил ей, что, если-де она вздумает свой нос совать туда, куда не следует, он выгонит ее во двор.
Надя тоже молчала. Согнувшись над зыбкой и низко опустив голову, она покачивала ребенка, шептала «баю-баюшки-баю» и ни разу не посмотрела в сторону стола, где сидели отец с Трофимом. На бледном высоком лбу ее, прикрывая бровь, лежала прядка волос. Трофим, как ни старался, никак не мог из-за этой прядки заглянуть ей в глаза и понять: что в их голубоватой глубине скрывается.
В ее молчании (а ведь молчание – знак согласия) и в том, что она терпеливо выслушивала попреки, Трофиму чудились ее раскаяние и готовность вернуться к нему. Видно, за дни скитаний отведала нужды и поняла, как худо жить одной. Не зря сказывают старые люди: нужда научит богу молиться. Какую-нибудь неделю горе мыкала, а что было бы, если б впрячь в нужду на годы! Такие-то они, женушка, игрушки. В миру жить – это тебе не хороводы с подругами водить. Теперь вот прячешь глаза, совестишься. Ничего, ошибку можно исправить. Будет уроком на будущее. Осмелеешь и скажешь свое слово. Подождать не трудно, не к спеху.
Радуясь этому и снисходительно выжидая робкого согласия, Трофим спокойно и ласково, как мог ласковей, затеял разговор о войне, о погоде, о приближающихся полевых работах. Андрей Иванович поддакивал ему, но поддакивал неохотно, вяло. Он не был так благодушно настроен, как зять, – лучше знал нрав дочери – и все больше хмурился. Трофим прервал этот нудный и никому не нужный разговор; осторожно, так, чтобы не обидеть Надю, он еще раз коснулся того главного дела, по которому пришел. Надя снова не отозвалась, будто и не слышала. По скуластому лицу Трофима пополз багрянец – он уже начал сердиться, но все еще крепился, надеялся. Вторично завел разговор о всяких посторонних и скучных вещах; еще раз и уже прямее намекнул Наде, не пора ли, мол, собираться. Та опять не обратила никакого внимания на его слова. И даже головы не подняла. Наконец Трофим вскочил и резко сказал:
– Одевайся, Надька, будет тебе!..
Надя отстранилась от зыбки, выпрямилась, гордая, озлобленная, и зрачки ее сухо блеснули.
– Господи! – вскричала она. – И когда ты перестанешь ко мне лезть! Есть ли у тебя совесть? – Она дышала горячо, часто. Негодование душило ее. – Никогда я не пойду к тебе, никогда! Заруби на носу. Краше – в полынью головой. Понял? Один раз опутали, и будет. Научили, будет! – Вдруг голос ее круто изменился, и она, задыхаясь, сверкая глазами, закричала на самых высоких нотах – нервные потрясения последних дней не прошли даром – Как вы все противны мне! Господи! Как вы опостылели! Головушка моя!.. И куда бы от вас!.. – Стиснув руками голову, она грудью упала на зыбку и заплакала.
Трофим ошалело вытаращил на нее глаза, попятился. Потом кинул на затылок папаху и, не прощаясь, хлопнул дверью.
VI
Матвей Семенович Парамонов получил сразу два взволновавших его известия. Одно из них о том, что на днях свергли с престола государя Николая Второго. Перед тем по хутору упорно бродили слушки о неполадках в царском доме; в частности, о том, что якобы слабохарактерным и недалекого ума царем всячески помыкает Александра Федоровна, его супруга. И как будто она, урожденная немка, ведет дело так, чтобы русские на войне оказались в проигрыше. А другое известие особенно радовало старика: старшак его Алексей, который около трех лет сгибал на фронте, теперь едет домой. От него пришла телеграмма – просит, чтобы завтра за ним выехали в Филоново. Весть эта была тем радостнее, что с того злосчастного дня, как узнали о его ранении – месяца два тому назад, – от него ничего еще не получали.
В хуторском правлении, где Матвею Семеновичу вручили телеграмму, было полно людей, главным образом стариков. Встревоженные переворотом и теряющиеся в догадках – как это могло случиться? триста лет стоял дом Романовых! что же будет дальше? – они топтались в прокуренной комнатушке-правлении, дымили цигарками и, горячась, толковали всяк свое. За столом, во всех своих регалиях – урядницкие лычки, позеленевшие, во всю грудь, медали – сидел хуторской атаман. Огромным набалдашником насеки, с царской короной над двуглавым орлом, он нервно почесывал свою волосатую, почти вровень с бровями, переносицу, блуждал по комнате взглядом. Изредка, откидываясь и старчески покряхтывая, он поднимал растерянные, глубоко посаженные глаза – перед ним на стене в тяжелой золоченой раме висел портрет последнего императора, – подолгу, с укором вглядывался в него и, вероятно, мысленно вопрошал: «Что же это вы, ваше величество! Как вы оплошали! Как же без вас жить теперь будем?» Но сухощавый, хрупкий, с короткой рыжеватой бородкой и такого же цвета подкрученными усами император молчал, и атаман отводил глаза, вздыхал. А в правлении, сплетаясь и заглушая друг друга, не умолкали голоса. Моисеев стоял под золоченой рамой, покачивался, космами овчинной шапки стирал пыль с сапог царя, изображенного во весь рост, прищелкивал языком и без устали твердил одно и то же:
– Дела-а, волки тя!.. Н-ну и дела!.. Да… дела-а…
– Знычт то ни токма, доигрались, идоловы…
– Кто же Русью будет управлять? Пастухом кто же будет? – невесть к кому обращаясь, сурово допрашивал старик Фирсов и все почему-то вскидывал к лицу свой культяпый кулак.
– А на кой леший нужен он, пастух? Без него обойдемся, – возражал кто-то молодым баском. – На свободе-то вольготней: пасись где хошь.
– Много знаешь, молокосос! Ишь выдумал! А как хохлы полезут пастись на нашу землицу? Того не соображаешь, невдомек!
– Казаков, грец их возьми, поди насмарку теперь.
– В священном писании, милушки, сказано…
– О перемирии пока не слыхать? Войну не прикончили? – в десятый раз допытывался Матвей Семенович у писаря. Но тот, крутя гнедым загривком и не слушая его, орал кому-то во все горло:
– Михаил будет царем, Михаил! Его высочество великий князь Михаил Александрович. Эх ты, кочан, не понимаешь! А не то – великий князь Николай Николаевич.
– Ура! Ура! – мотая своей облезлой шапчонкой, с вылезающей из нутра ватой, кричал Березов, и непонятно было, по какому поводу он возликовал: то ли потому, что царя свергли, то ли потому, что царем заступит один из великих князей.
– К черту! Под такую!.. Никаких царей и князей! Кто учинял войну? – стариковатый Семен Федюнин, муж Бабы-казак, полгода назад вернувшийся с фронта калекой, подпрыгивал на единственной ноге, гремел по полу деревяшкой. – Без надобностей! Хватит! Тащи его оттуда, гада! Проклятый! Будя ему!.. – и громадным, с оглоблю, костылем совал в портрет императора.
– А ты дубиной не махай тут, не махай! – одергивал его атаман. – Расходился! Потрет увольнять не имеем права. Предписаниев пока не воспоследствовало.
Матвей Семенович с полчаса потолкался среди стариков, послушал беспорядицу выкриков, суждений, в которых мало было толку, потому что никто ничего доподлинно не знал, и вышел из правления. Отлучаться от людей ему хоть и не хотелось – авось, часом, подоспел бы какой-нибудь сведущий человек и рассказал бы потолковее, – но терять время было нельзя. Завтра к поезду нужно быть на станции, в Филонове, а к дороге у него ничего еще не готово. Надо подкормить лошадь, починить хомут, выпросить у кого-либо из соседей легкий тарантасик. На своей повозке по теперешнему пути далеко не расскачешься. Хоть бы тарантасишко с горем пополам дотащить, Добиться ответа на вопрос – будет ли прикончена война? – ему так и не удалось. А события его, собственно, интересовали только с этой стороны. Что ему до того, будет ли царем Михаил или кто-нибудь еще, или совсем никакого царя не будет! От этого ему ни холодно, ни жарко. Его хата с краю. Что ни поп, думалось ему, то и батька. Вот ежели б сынов удалось собрать! Правда, теперь, после радостной телеграммы от Алексея, дышать стало легче. Но все же как было бы хорошо, если бы еще и Федор приехал домой, и приехал бы здоровым!
Из хутора Матвей Семенович выбрался на рассвете – ехать ночью никак невозможно было – и к вечеру, часа за два до прихода поезда, кое-как дотянулся до станции. Меринок его под конец дороги уже не только не мог рысить, но и переступал не как следует. Летник раскис – шагнуть нельзя, по балкам все еще играли потоки, и ехать пришлось ощупью, по непаханой, скрепленной кореньями старых придорожных трав обочине.
Оставив подводу на постоялом дворе, Матвей Семенович пошел на базар – купить кое-что по домашности: соли, спичек, мыла и прочего. Но магазины оказались на запоре, и огорченный старик бесцельно закружил по площади, томясь нетерпением поскорей увидеть сына. У просторного комаровского лабаза – из пиленого леса, под оцинкованным железом, куда Матвею Семеновичу иногда приходилось ссыпать пшеничку, – толпились мужчины, женщины, наряженные по-праздничному. На рукавах у некоторых, одетых почище, алели широкие кумачовые повязки, кое у кого в петлицах пальто болтались красные ленточки. Посреди толпы неопределенного возраста мужчина, без усов и бороды, стоявший, видно, на каком-то возвышении – вряд ли он был такой рослый, – ерошил пальцами густые, длинные, как у псаломщика, волосы (по обличию он скорее всего и был псаломщик), встряхивал головой и, надрываясь, кричал:
– Граждане! Граждане великой раскрепощенной России! Волею народа самодержец низвергнут. Лучезарная заря свободы занялась. Ликование и торжество перекатываются по городам и весям. Наступило всеобщее равенство и братство. В новую жизнь, светлую и счастливую, пойдем единодушно. Вкусим от плодов революции…
Матвей Семенович робко подошел к толпе, минуту слушал оратора, моргая подслеповатыми глазами. Все ему казалось здесь необычным: один говорит, а все остальные спокойно слушают – на хуторских сходках так не бывает; называет не «господа старики» и не «казаки», а «граждане»; рукава для чего-то перепоясали лоскутками материи; ленточки нацепили… Возле Матвея Семеновича стоял солидный господин в добротном суконном полушубке, прасольских сапогах и черной каракулевой шапке. Старик почтительно оглядел его с ног до головы. «Важный какой! Не иначе – купеческого звания», – подумал он и нерешительно ткнул кнутовищем в красную на его рукаве полоску.
– Слышь-ка, чего это у вас? Всчет чего ото?
Господин повернулся к нему лицом. Оно у него мясистое, одутловатое, глаза заплыли жиром. Увидя перед собой чумазого деревенского старика, в широком, забрызганном грязью тулупе, он брезгливо шевельнул губами и откачнулся.
– Митинг! Не видишь? – буркнул сердито, не поняв вопроса.
– Митинга?.. А это по какой части? Чин, стало быть?
– Слушай вот! И узнаешь!
Матвей Семенович недовольно помялся, пошуршал тулупом. «Барина из себя корежит, а огрызается, как собака», – подумал он о собеседнике. Сдвинул со лба треух и прислушался. Но сколько он ни вникал в краснословие оратора, в его замысловатые, ученые слова, не каждое из которых старику удавалось разжевать, услышать то, что ему хотелось и что его волновало, он не мог. Оратор все твердил о светлой жизни, Учредительном собрании, наступающем народном счастье. А вот о том, что для Матвея Семеновича было всего важнее и всего ближе, он ни разу не обмолвился. Уходить отсюда неосведомленным ему не хотелось, и он покосился на сердитого господина. Неужто и он не знает? Быть того не может! Такой по виду представительный человек, газетки поди читает, образованный – все должен знать. Вот только неразговорчив он. Да леший его дери! Что с ним – детей, что ль, кстить. Скажет – и ладно, а не скажет – что ж, в ухо не ударит. Матвей Семенович отер усы рукавом, пододвинулся к господину поближе и, покачав кнутовищем – тронуть им незнакомца уже не осмелился, – осторожно спросил:
– Слышь-ка… вы уж звиняйте нашу темноту… Хочется знать: как всчет войны? Скажите, пожалуйста. Как там по газеткам… Не конец ей? Не прикончили?
Господин снисходительно выслушал его, полуобернув голову, и так же снисходительно заговорил:
– А кампанию, дед, мы выиграли? А? Войну выиграли?.. Не знаешь? То-то! Нет пока. Пока не выиграли. А раз – нет, то о каком же конце войны говорить? Выиграем – и тогда конец.
– Хм! Диковинно! – Матвей Семенович подергал бороду и в недоумении развел руками. – И на кой ляд, скажи на милость, она сдалась нам, гоп-компания эта? Никак то ись в толк не возьму. Для чего же с должности царя уволили? Выиграть, выиграть – только и речи. Выиграть – это еще не резон. А вот чего ради надо было игру эту учинять, кабы кто сказал, – был бы резон.
Господин вдруг ощетинился, у него даже как-то заволновался второй подбородок.
– Ты это что, дед? Ты что говоришь? В тюрьму захотел? Ты кто такой? Кайзеровский шпион? Дурачком прикидываешься!
– Что вы, что вы, бог с вами! – растерянно залепетал старик. – Какой шпиён, бог с вами! По глупому разуму, спроста пытал. Нешто я… что вы!.. – Задом-задом, втягивая голову и чмакая сапогами по луже, он отделился от господина, повернулся на носках и, к великому удовольствию, увидел подле себя толстущую, с широкой, в обхват, спиной даму, за которой и спрятался. «Вот про́клят! Ишь чего выдумал! – успокаиваясь, ругнул он собеседника. – «Шпиён», говорит. Хм! По какому же такому случаю на шпиёна я похож? Чего доброго, еще и зацапают. Дернуло меня, дурака старого, к незнамому человеку лезть с допросами!»
Старик несмело огляделся. Теперь он стоял рядом со смуглым, строгим и сухопарым человеком в кожаной кепке и такой же изрядно поношенной куртке. Чуть прищурившись и вздрагивая бровями, тот внимательно следил за оратором, попыхивал папироской, и в разрезе его жестких губ, зажавших папироску, таилась усмешка. Матвей Семенович украдкой взглянул на него. «Должно, из мастеровых, со станции, – догадался он, – али с паровой мельницы». Оглядел его большие жилистые руки – одна была засунута под отворот куртки, другая свободно висела, – но определить по ним ничего не смог.
Подмывало старика выведать про войну еще у этого человека, но так и не хватило смелости. «Кто его знает – в какую сторону повернет дело. Привяжется, как тот брюхастый, и не рад будешь». Он свернул цигарку, прикурил от папиросы мастерового. У Матвея Семеновича в кармане хоть и лежала коробка серников, но зачем губить спичку, коль рядом есть огонек. И, вспомнив о том, что меринка уже пора напоить, зашагал к квартире.
На вокзал Матвей Семенович пришел загодя – на постоялом дворе ему не сиделось. Широкоплечий, коренастый, каким он казался в своем дубленом с распущенными полами тулупе, он стоял на краю платформы, у багажной, и, не отрывая глаз, помаргивая, глядел в сторону железнодорожного, через Бузулук, моста – в версте от вокзала. Оттуда, из синего под легким мартовским небом леса – по берегу Бузулука – вот-вот должен показаться поезд. Лицо старика свежо блестело, морщины разгладились, и весь он как-то помолодел, выпрямился, будто с плеч его слетел не один десяток лет; в прищуренных, под линялыми бровями глазах – нетерпение и радость. Вороную бороду его трепал ветер, и прядки волос свивались кольцами. По платформе, обходя старика, под руку разгуливала молодая пара, сдержанно посмеивалась; на ступеньке, у дверей первого класса, стоял мрачный, щегольски наряженный и подтянутый урядник – блюститель порядка; из служебного входа, на минуту показываясь и исчезая, появлялся начальник станции в своей необычной красноверхой фуражке. Издалека, нарастая, явственно донеслось тарахтение колес. День клонился к исходу, и над фигурчатым, красного кирпича вокзалом, над разбросанными пристанционными постройками, над синим лесом в лучах солнца цвело нежное складчатое облако.
Раздались звонки, извещавшие о приближении поезда, и старик заволновался; он хотел было закурить, но листок в пальцах никак не сворачивался в цигарку, он бросил его и почему-то устремился к другому краю платформы. По ней с грохотом прокатили тачку, нагруженную ящиками различных цветов и фасонов. Откуда-то появились и засновали люди. Послышался грозный окрик урядника. Мимо Матвея Семеновича, отдуваясь и посовывая взад-вперед огромными рычагами, прополз закопченный паровоз; замелькали продолговатые грязно-зеленые пассажирские вагоны, бурые товарные, – сначала быстро, потом все медленнее; наконец лязгнули стальными тарелками, покачнулись и замерли.
Старик, топчась на месте, забегал взглядом по подножкам вагонов. Повсюду со ступенек спрыгивали пассажиры – за кипятком, к торговкам за снедью или просто поразмяться; платформа закишела народом. Матвей Семенович растерялся. Но вот, повернувшись к хвосту состава, он заметил, как из предпоследнего товарного вагона выходят военные, и стал вглядываться. Совсем еще молодой, с болезненно худым лицом служивый, в грязной, затасканной шинели, правой рукой придерживаясь за выгиб поручня, прыгнул, и левый рукав его, сломавшись посредине, широко и безжизненно болтнулся. Матвей Семенович хоть и увидел сразу же, что это – не сын, но все же в груди у него больно кольнуло, лоб внезапно вспотел, и он с тревогой, с нараставшим страхом подумал, что ведь он еще не знает точно, в каком виде встретит сына. Ему как-то и на ум не приходило, что сын, как и другие, может вернуться калекой. Из госпиталя Алексей извещал о своем ранении – немецкая пуля пробуравила ему бедро, – но чем окончилось лечение, неизвестно. Задирая голову, толкая людей, старик напролом двинулся к последним вагонам. В это время на площадку вышел еще один служивый – вышесреднего роста, сухощавый; удлиненное черноусое лицо его обметано короткой, как и усы, черной бородкой; казачья фуражка – уже не первой свежести, на плечах – блеклые погоны урядника. Матвей Семенович взглянул на него и забыл обо всем: где он и что он.
– Алеша!.. Сынок!.. – со всхлипом вырвалось из его груди.
Вокруг старика мягко и сочувственно заулыбались люди, кто-то ласковым голосом отпустил шутку: «Эк его… совсем обалдел». Но старик ничего не слышал. Наскакивая на пассажиров, спотыкаясь, он бежал со всех ног. Полы тулупа, не поспевая за ним, бурно развевались, обдавали людей запахом овчины. Алексей спустился с площадки, пожал какому-то военному руку и, увидя бегущего к нему отца, широко улыбнулся. Взволнованный, чуть прихрамывая, он заспешил навстречу. Они обнялись тут же, на глазах у людей. Старик с разбегу повис на плече у сына, припал к его груди и, булькая что-то неразборчивое, ласковое, прослезился; а тот, охватив ладонями его голову и чуть склонившись, коснулся щек троекратным служивским поцелуем.
– Сынок… слава богу… довелось… – растерянно шептал старик.
– И не чаял, батя. Прибыл вот… Да ты здорово никак постарел! – Алексей, откидываясь, еще и еще раз заглядывал в родное, размякшее от волнения лицо.
Звякнули один за другим три звонка; пассажиры заметались, хлынули к вагонам, и вокруг Парамоновых платформа опустела. В ушах застрекотал пронзительный свисток кондуктора, паровоз взревел, дернул, и вагоны, щелкнув сцеплениями, поплыли мимо вокзала, все чаще постукивая колесами. На платформе остались Парамоновы, начальник станции, мрачный урядник и еще несколько человек. Матвей Семенович, оправляя тулуп, перехватил щупающий взгляд урядника, устремленный на Алексея, и забеспокоился:
– Нам туда, сынок, в ту сторону, пойдем!
– На постоялый?
– Ага.
Из-за угла вокзала, тренькая шпорами, показался пожилой в чине есаула офицер – на белом без звездочек погоне его синий продольный просвет. Четко отбивая по камню шаг, он обогнул Парамоновых, не удостоив их взглядом, и зашагал на платформу. Матвей Семенович хоть и плохо воспринимал все постороннее (от радости он не чуял под ногами земли; радость его была тем сильнее, что сын, к счастью, оказался в полной исправности – с руками и ногами), однако обратил внимание на то, что при встрече с есаулом Алексей не только не оторопел и не заспешил отдать ему честь, как по службе полагается, но даже не уступил ему дорогу, не посторонился, ровно бы и не заметил его. Это немножко удивило старика и в то же время наполнило его гордостью. За такое дело, как известно ему, казаков греют, и греют как следует. По крайней мере раньше было так. Но все же какой молодец Алексей, что свою голову ни перед кем не гнет, не ломает шапки! Вот она, парамоновская порода!
* * *
На другой день еще засветло они подъезжали к хутору. Точнее сказать, подходили, потому что за всю дорогу старик лишь несколько раз присаживался на тарантас, чтоб закурить иль закусить, а то все шел рядом. Алексей сходил с тарантаса реже, только на подъемах, – рана его до конца все еще не зажила. За разговором версты таяли незаметно. За таким разговором старик, не охнув, прошагал бы еще столько же. Много услышал он от сына такого, чего никогда в жизни слыхивать ему не приходилось. Оказывается, царя хоть и прогнали, но войну заканчивать новые управители все же не думают. А он-то надеялся, все пытал об этом! Тот брюхастый, что вчера обозвал его «шпиёном», выходит, неспроста на него напустился. Алексей долго хохотал, когда отец поведал ему об этом происшествии. Но есть такие люди, политические, – и много их, – которые добиваются, чтоб войну прикончили. Видеть этих людей Алексею не довелось, зато разговоры о них до него доходили частенько – и на фронте и в госпиталях. Это – большевики. Как и откуда они появились и в какую сторону хотят повернуть Россию, представить отчетливо Матвей Семенович не мог. Пытаясь все же сделать это, он неоднократно возвращался к расспросам о них. Алексей рассказывал сбивчиво, туманно и не совсем толково, – видно, и сам-то знал нетвердо. Но то, что большевики стоят за бедных и войне стараются конец положить, – это старик понял крепко. «Башковитый народ, – решил он, – побольше бы таких! Скорее бы свернули рога кому следует».