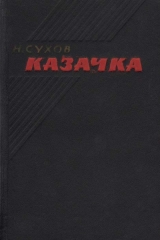
Текст книги "Казачка"
Автор книги: Николай Сухов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц)
IV
В конце тысяча девятьсот шестнадцатого года, после того как русские и союзные румынские войска оставили Добруджу, 30-й казачий полк был отведен в город Рени – на нашей стороне Дуная. Город забит был войсками. Тридцатый полк разместился на окраине, и так тесно, что порою в каком-нибудь домишке или избенке располагалось по целому взводу.
Позиции полка находились по ту сторону Дуная, неподалеку от местечка Песики – верстах в пятнадцати от города. Туда на два-три дня отправлялись на пароходе по две сотни; отдежурив, они возвращались, и их сменяли другие. Переправу эту прикрывал военный катер Дунайской флотилии, стоявшей тоже в Рени. Верстах в шести от местечка Песики по сопкам держали позиции болгары. Впереди них, в направлении местечка, лежали непроходимые болота, плавни. Тридцатый полк стоял длительное время, лишь охраняя рубежи, защищенные болотами, и не входя в соприкосновение с противником.
После памятной схватки Федор на несколько дней выбывал из строя. Рана на его плече засохла быстро: палаш баварца, к счастью, задел только мышцы, чуть потревожив плечевую кость. Ему даже отпуска не дали. Но другая рана, невидимая, которая осталась в его душе после Пашкиного сообщения и боя, – это, как известно, случилось почти одновременно и потому слилось в душе Федора во что-то единое и страшное, – вот эта рана не только не засыхала, но, наоборот, с каждым днем все острее ныла. Воспоминания о пережитых в бою ужасах преследовали его во сне и наяву. Он силился найти в себе оправдание массовой кровавой резни – и не находил. За последнее время он резко изменился: стал задумчив, угрюм и чрезвычайно вспыльчив. Какой-нибудь пустяк, на который раньше он не обратил бы внимания, выводил его из себя. Похудел Федор, осунулся.
Пашка Морозов отчасти догадывался о причинах, изнурявших его друга, и по-своему старался помочь ему. Он относился к нему с дружеской лаской и даже нежностью, угождал во всем. О хуторских делах, и в особенности о Наде, вспоминать при нем избегал. Он подозревал, что в столь быстром замужестве сестры – не все хорошо и благополучно. На ее имя на днях он послал письмо – хотел узнать о свадьбе от нее самой и более подробно, но пока помалкивал об этом.
За спасение жизни командира сотни подъесаула Свистунова в бою на Сетиновом поле Пашка был представлен к награде: сперва он получил георгиевский крест четвертой степени, а в скорости и второй крест, третьей степени. И как дополнение к ним по уставному правилу – звание урядника. Награда в конечном счете зависела от самого командира сотни, и он не поскупился. Внешне Пашка отнесся к этим милостям равнодушно, тем более что его задушевный друг Федор недолюбливал чины и «побрякушки», как он называл кресты. Но втайне Пашка был бесконечно рад.
Как-то в знобкий февральский день, выйдя из квартиры, Федор увидел, что у ворот стоит сотенный писарь с почтой под мышкой. Писарь долго копался в пачке разноцветных и разной величины писем, грязных, захватанных руками, и наконец отделил одно – серенькое, мятое, со множеством штемпелей. Федор глянул на конверт, и все в нем задрожало. Дрожащими пальцами взял он письмо, пробежал глазами по кривым и тусклым строкам адреса, неумело написанным химическим карандашом, и поспешно сунул письмо в карман. Он хоть и не знал точно, от кого оно – обратный адрес на конверте не был указан, – но сразу же почувствовал это. Крупными шагами, не выпуская письма из засунутой в карман руки, Федор вошел во двор и свернул к полуразваленному сараю-конюшне.
Лошади, гремя привязью, повернули головы к Федору, дружно и жалостливо заржали. Ни в кормушках у них, ни под ногами не было ни клочка сена. Доски и слеги, за которые они были привязаны, изрубцованы зубами, обглоданы. В другое время Федор не утерпел бы – как не подойти к своему заморенному коню! Он обязательно потрепал бы его за челку, приласкал и нашел бы в карманах корочку хлеба. Но сейчас он о коне даже и не подумал. Присел на слегу в уголке и достал письмо. Долго осматривал его со всех сторон, поворачивая то так, то этак, и наконец с величайшей бережливостью вскрыл. Четвертушка курительной бумаги была густо испещрена химическим карандашом. Косые и неровные извивы строчек кое-где переплетались, местами чернели расплывшиеся пятна.
Затаив дыхание, Федор впивался глазами в строки, стискивал зубы, и впавшие щеки его все больше принимали синеватый оттенок. Длинногривый маштачок, крайний в ряду, тот, которого Жуков отобрал у молдаванина, вытянув шею, обнюхал Федоровы колени и смахнул с них языком конверт. Федор не заметил этого. Но вот он резко поднялся с места и потряс кулаком. Маштачок шарахнулся от него. «Проклятые! Гады! Что они… М-м-м… проклятые!» С минуту Федор размахивал кулаком, грозил кому-то, пугая лошадей, и, прислонясь к сохе, снова поднес листок к глазам.
«…и еще сообщаю, роднайка мой, что моченьки моей терпеть больше нет. Нет больше моих сил. Иль с ума сойду от таких радостей, а то и руки на себя наложу. Не жизнь, а каторга. И в каторге, должно, нет таких мучений. Уж сколь времени я не казала глаз на свет божий. Сижу сиднем, как в тюрьме. А ребеночек будет, – и вовсе. Приезжай, роднаечка, хоть на один час, приезжай, ради Христа. Вырвись как-нибудь и меня вырви из этой… Одной мне некуда податься, а с тобой – хоть в огонь, хоть в воду. В хуторе мне однова не будет жизни. Съедят заживо и косточек не оставят…»
Как ошпаренный Федор выскочил из конюшни. В хате он накинул на себя шашку, перетянул пояс, отряхнулся и, не отвечая на расспросы казаков, куда он так спешит, выбежал на улицу. Охваченный нетерпением, он даже и не подумал о том – осуществимо ли то дело, о котором хочет хлопотать. Миновав штаб – Федор знал, что из начальства теперь никого в нем нет, – свернул к угловому в переулке дому, где разместились офицеры. В воротах, подпирая столб, стоял здоровенный неуклюжий казачина – денщик подъесаула. Федор, не выносивший лизоблюдов, как он величал денщиков, презрительно окинул его взглядом и хотел было пройти мимо. Но тот покачнулся и, выставив шашку, преградил дорогу.
– Куда прешь?
– А тебе что? Мне нужно командира сотни.
– Ну так и скажи. А то… разлетелся. Подожди, доложу.
Ждать Федору пришлось долго. Волнуясь, он то и дело поглядывал на двери, за которыми скрылся денщик, но оттуда никто не появлялся. «Должно, пьянствуют, сволочи, или в карты режутся, – ругался Федор, – вот и часового выставили». Наконец двери раскрылись, и на крылечке вырос плотный, средних лет офицер с помятым лицом. Глаза – рдяные, как видно, от бессонницы; на лбу, повыше брови, высокая коричневая родинка. Федор глянул на подъесаула, и в груди у него похолодело: тут же понял, что толку из его затеи не будет. Но он все же подошел, щелкнул каблуком о каблук и козырнул. В нос ему ударил запах вина и папирос.
– Ты чего, Парамонов? – коротко зевнув, спросил офицер.
– Ваше благородие! – с отчаянием в голосе крикнул Федор, – Я получил письмо из дома… В семье очень неладно. Дюже неладно.
– М-м… вон что! Умер, что ли, кто?
– Нет… хуже… С женой неладно.
– С женой? Но ты же не женат, кажется.
– Так точно, ваше благородие! Но у меня есть невеста – все равно как бы жена.
– Вот как! Ну и что? Выходит замуж, да? Ждать не хочет?
Федор помялся. Ему совсем не по нутру было раскрывать душу перед человеком, которого он ненавидел за грубость и самодурство.
– А ты, братец, плюнь на это дело, плюнь, велика ль беда! – отечески-наставительным тоном, но как-то бесцветно и вяло внушал подъесаул. – Придешь со службы, невест – завались. Казак ты… Вот только с дисциплинкой у тебя неладно. Это действительно неладно. Подтянись, братец, подтянись, а то худо… Вахмистр мне рапортовал…
– Ваше благородие! – перебил его Федор.
– Что?
– Отпустите домой хоть на недельку. Приеду – отквитаю. За мной не пропадет. На позициях бессменно буду.
Подъесаул еще раз зевнул, прикрывая рот ладонью, и глаза его заволоклись влагой.
– Вот уж этого, братец мой, нельзя, не могу. Нет, не могу. У меня казаки по четыре года служат и на побывках еще не были…
– Но у меня особенные причины! – настаивал Федор.
– Какие там… особые. Нет, этого нельзя. Служба! Да. Это тебе не игра в чурконики. Нельзя. Доложи своему взводному… впрочем, не надо. Можешь, братец, быть свободен. – И, показав плоскую спину, офицер повернулся к дверям.
Федор, как побитый, пошел со двора, и в нем кипела злоба. У штаба он встретил своего нового взводного офицера – прапорщика Захарова, тонкого, высокого и добродушного человека, одних лет с ним. Его прислали к ним недавно, вместо убитого в бою хорунжего Коблова. Прапорщик Захаров мало чем походил на тех кадровых офицеров, которых казаки знали. Только что со студенческой скамьи – в полк Захаров попал по мобилизации, – он был вежлив и мягок в обращении с казаками. Видимо, мало нуждался в чинах – не выслуживался. Относился к подчиненным, как товарищ, и притом близкий, душевный. И несмотря на то что придирчивости, которой отличался Коблов – придирчивости бестолковой, по мелочам, – у Захарова не было и в помине, казаки стали гораздо службистее: не хотели подводить командира. Федор, взяв со взводного слово сохранить их разговор в секрете, откровенно, начистоту рассказал о своей беде и попросил помочь ему. Захаров выслушал с большим участием. У него от возмущения даже зарделись девичье-нежные щеки. Но когда дело коснулось помощи, он подергал плечами и виновато отвел глаза.
– Очень сочувствую тебе, Парамонов. Очень! Но, сам знаешь, отпустить тебя не в моей воле. Попробую поговорить с подъесаулом. Но… не могу обещать.
Федор придвинулся к нему вплотную и, наклонясь, горячим Шепотом ожег ему ухо:
– Ваше благородие! А ежели я того… ежели я сам себя отпущу… сам. А недельки через две вернусь. Что мне за это будет?
У Захарова полезли на лоб тонкие брови, и он в испуге метнул по сторонам глазами. Подле никого не было, и, убедившись в этом, он укоризненно закачал головой:
– Ох, какой же ты, Парамонов!.. Ну и… Смотри не вздумай. Погибнешь! Честное слово, погибнешь. Как муху раздавят. Да-да. Полевой суд. В двадцать четыре часа. Поверь мне, я ведь добра тебе хочу. – И долго, словно бы не узнавая, глядел в возбужденное лицо Федора.
Вечером, как только Пашка Морозов вернулся из наряда, Федор, не дав ему поужинать, моргнул и увел от казаков. На улице он достал из кармана гимнастерки письмо. В руки Пашке письма не дал – подворачивал листок и заставлял читать отдельные строки. А когда изумленный и оторопелый Пашка медленно провел глазами по строчкам, Федор бережно спрятал письмо и сказал ему коротко, спокойно, но таким тоном, словно бы произносил клятву:
– Нынче же садись и пиши отцу. Пущай этот милушка немедля возьмет Надю домой. Немедля! А если он этого не сделает, так пущай зарубит на носу: как только попаду в отпуск – первым же долгом снесу ему шашкой башку. Так и напиши ему. Вот и все!
Ночью Федору не спалось. Лежа на реденькой, пропитанной конским потом попоне и натягивая на голову шинель – изба хоть и была забита людьми, но тепла в ней не было, – он ворочался с боку на бок и без конца вздыхал. Мысли его были тяжелые и беспросветные. Казаки, угомонившись, давно уже похрапывали, иные что-то бормотали во сне. Двумя плотными от порога и до стола рядами, врастяжку, они лежали на полу. Рядом с Федором, уткнувшись лицом в седельную подушку, прикорнул Пашка Морозов. По его дыханию Федор слышал, что он тоже не спит, но разговора с ним не заводил. Переворачиваясь, Федор высунул из-под полы голову, и вдруг до его уха долетел придушенный шепот. По отдельным, едва различимым словам он понял, что речь тайком шла о том, что так волновало его самого. Федор напряг слух.
– …я сам читал, что ты! Так и называется… да, да… в госпитале, – убеждал чей-то голос.
– Тш-ш, тш-ш, – удерживал другой.
– …на кой она нужна нам, посуди сам! А им приспичило, им нужна эта война. Они жиреют, а наш брат кровь тут проливай, гибни… что он… царь… с него с первого шкуру стянут. Не по его ли приказу… Да нет, ты не понял…
Федор лежал не шевелясь, весь обратился в слух. Но голоса путались, затихали, и он ловил только обрывки фраз. И казалось ему, что все время как-то бессвязно вышептывал один голос:
– …когда ехал сюда, давно ли?.. А письма, письма!.. Голодают вовсе, озлоблены. Многие заводы совсем закрыты… Да что, не видишь? Слетит царь, обязательно слетит… Грохнет революция… теперь особенно… Никогда так не будет, нет… Думаешь, тебе это… и казакам тоже навтыкалось…
У стола кто-то завозился. Шепот оборвался. Взъерошенный, сопящий казак поднялся, накинул на плечи шинель и, мелькая кальсонами, широко зашагал через людей к двери. Федор подставлял ухо, жадно ждал, но разговор уже не возобновился. Ругая про себя проснувшегося, Федор пытался вникнуть в смысл пойманных фраз. Он догадывался, что шептал их молодой, побывавший в городах казак Ежов, только что вернувшийся из госпиталя. То, о чем шла речь, странным образом перекликалось и отчасти отвечало на недоумения Федора и еще больше расшевеливало глухое, враждебное, что зрело в его сознании. Под утро Федор стал забываться. Но сон его был очень неспокойным. То и дело Федор вскидывал голову, лихорадочно ощупывал карманы, ища Надино письмо, постанывал, толкал коленями соседей и снова забывался.
Утром Федора послали в штаб полка ординарцем. Целый день он протолкался там без дела. И только в конце дня, уже в потемках, адъютант вручил ему засургученный пакет и срочно направил на радиостанцию, которая помещалась на другом конце города при штабе 61-й стрелковой дивизии. Федор переменным аллюром проскакал по улицам и у каменного, вросшего в супесчаник дома свернул к подъезду. У коновязи оставил лошадь, вбежал в помещение. Пакет принял у него один из дежурных радистов – уже немолодой светловолосый пехотинец в чине уптерофицера. Пока тот осматривал пакет и расписывался, Федор вытряхнул из кармана махорку. Спичек у него не нашлось, и он попросил у дежурного. Радист погремел коробочкой, взглянул на Федоровы побуревшие лампасины, и под белесыми ресницами его мелькнула затаенная улыбка.
– Ну как, казачок, дела? – вкрадчиво спросил он, подавая спички.
– Да так… как сажа бела.
– Служим?
– Да. Служим… царю-батюшке, ни о чем не тужим.
– Ага! Царю-батюшке! – со злорадством вырвалось у дежурного. – А батюшку-то вашего – коленом под задницу! А? Что?
Федор выкатил на него глаза. «Чего он… Малость рехнулся, что ли, али каши объелся?» Старообразное, в косых морщинах лицо радиста было серьезно, даже строго. Белесые, редкие и длинные ресницы его часто взмахивали.
– Ты чего мелешь, Емеля, – предостерегающе сказал Федор, – за такие речи как бы того… язычок тебе как бы не подрезали.
Старый служака, ожесточаясь, хлопнул себя ладонью по голени – она была у него костлявая, сухая – и обдал Федора горячим потоком слов:
– Нет, будя! Теперь уж не отрежут, казачок! Будя! Свобо-ода! Царя-то уж нет теперь. Конец! Отрекся царь. Вот радиограмма! Вот! – И перед носом Федора потряс розовой шуршащей бумажкой. – Свобода, казачок! Царя – поминай как звали!
Ошарашенный Федор глядел на порхавшую перед ним розовую бумажку и никак не мог сообразить, что это такое случилось – к добру или к худу. Но радист слово «свобода» выкрикивал с таким торжеством и воодушевлением, и такое ликование было написано на его лице, – даже морщины разгладились, – что Федору невольно передалась его радость. Через минуту, придя в себя, он уже начал понемногу соображать – что это такое означает: «царя нет», и в его сознании с лихорадочной быстротой заклубились мысли, одна горячей и напористей другой: «Войну зачинал царь… по его высочайшему повелению… защищать царя… а теперь его нет… свобода… что хочу – то делаю… конец войне!» Над бровью Федора, как всегда в минуту наибольшего волнения, вздулась синяя жилка. Вдруг зрачки его блеснули сухим злобным блеском, и он, болтнув шашкой, грозно повернулся к радисту. В нем шевельнулось подозрение, что тот выдумал все это – или в насмешку, или еще с какой-нибудь другой целью. Он так схватил радиста за руку, что у того хрустнули суставы пальцев, потом притянул его к себе и, не сводя с него злобно блестевших глаз, нервно спросил:
– А это… это как… не подвох? А? Как?.. – и, видя, что радист в нерешительности мнется, ежится (тот ежился оттого, что кисть руки его уже одеревенела от Федоровых, крепко впившихся в нее пальцев), и боясь, что все это на самом деле окажется выдумкой, с силой тряхнул его за плечо – Говори же, гад, душа с тебя вон!
Радист не на шутку перепугался. Черт надоумил его связаться с этим сумасшедшим лампасником.
– Да вот же, вот, ну! Читай сам, ну! Ты же грамотный! – робко, жидким тенорком восклицал он и совал в нос Федору телеграмму. На лице его было уже не ликование – какое там! – а явная растерянность. Морщины еще глубже исполосовали его лоб и щеки. Озлобление Федора он понял по-своему, думал, что его взбесило это известие, – Что мне… головы своей не жалко, что ли! Как бы я мог… Завтра всем полкам известно будет.
Из штаба дивизии Федор поехал к себе на квартиру, чтоб рассказать казакам новости и заодно поужинать. Город кутали поздние морозные сумерки. С мутного неба сыпалась колючая, сухая пороша. На столбах изредка мигали подслеповатые электрические огоньки. В зыбких желтых кругах над столбами роились снежинки. Улицы были пусты. Город – на военном положении и с наступлением сумерек замирал. Сегодня он был такой же, как и всегда, тихий, мрачный, и ничто не подтверждало необычайных событий. У дощатого забора в тени копошилась маленькая фигура человека. Одну руку человек прижимал к боку, поддерживал что-то громоздкое, выпиравшее из-под полы; другой – повыше себя водил по забору. Федор повернул коня. Тот увидел его и метнулся к подъезду, исчез во мгле. По серой, заиндевевшей доске расползалось липкое пятно; тут же у забора маячило небольшое ведерко. «Меня испугался, – досадливо подумал Федор, трогая коня. – Что же это он наклеивает?»
В конце узкой улицы, в которой располагались сотни, было оживленнее: встречались всадники, пешие, гомонили невидимые люди. Против двора, где квартировал Федор, кучились служивые. Толкались, пересмеивались. Федор узнал Жукова, Петрова и других казаков одного с ним взвода. На отлете двое каких-то – один рослый, длиннорукий увалень, другой низенький, юркий – мерялись силами, сцепившись, таскали друг друга.
– Новости! – крикнул радостно Федор еще издали и, подъехав, спрыгнул с седла. – Большие!
Казаки сгрудились вокруг него. Всегда приезжавших из штаба служивые встречают с нетерпением: только оттуда и привозят новости. Те двое, что мерялись силами, разнялись и, сопя, вперегонку устремились к кругу. Скулы у Федора то ли от езды, то ли от волнения – в багровых пятнах. Не дожидаясь расспросов, он одним духом выпалил:
– Станичники, царя прогнали! Свобода! Нет царя! Во!
Станичники остолбенели. Этой чудовищной, как им показалось, новостью они были так же поражены, как полчаса назад был поражен сам Федор. Сколько лет вдалбливали им в головы о всемогуществе царя, божьего помазанника, и вдруг – нет царя. Кто-то протяжно и переливчато свистнул. Что он хотел выразить этим – неизвестно. У Жукова задергалась щека с почерневшим от мороза шрамом. Тот рослый казак, что боролся, засунул под шапку всю пятерню и заскреб затылок; юркий тоненько и отрывисто хихикнул. Некоторое время все молчали, недоуменно переглядываясь. Молчал и Федор. Потом Жуков посунулся вперед и зашипел:
– Ты что, дурень, гавкаешь! Вон вахмистр на дворе, разуй глаза!
Вахмистр действительно был неподалеку. Он стоял не на дворе, а в воротах, и все слышал. Вот он мешковато выступил из тени, шаркнул сапогом, зацепившись за кочку, и, тяжело ступая, медленно приблизился к Федору. Роста вышесреднего, коренастый. На плечах широкий перекресток позумента. Стал перед Федором, покачнулся, закинул за спину руки и забуравил его колючими глазами. Жесткие усы, как щетка, поднялись торчмя. Давно уж он добирался до этого молодого из ранних, да все как-то не было подходящего случая.
– Н-ноу? – вырвался у вахмистра какой-то глухой, утробный звук.
Федор принял стойку «смирно».
– Чего ну? – переспросил он.
– Снимай оружие!
Федор вспылил:
– Да ты разберись сперва, потом приказывай.
– Снимай оружие! – зарычал вахмистр.
– Да что, в самом деле! Какое ты имеешь…
– Кому говорят, с-сволочуга! – Вахмистр дернул за ремень винтовки, ствол с разгона прилег к затылку Федора, прихватив ухо.
В глазах Федора потемнело. Все, что за последние месяцы накипало на душе и расшатывало нервы – боль, злоба, отчаяние перед той неведомой силой, которая комкала его жизнь, – хлынуло наружу. Не владея собой, он отвел руку и так же, как, бывало, на кулачных схватках, сунул кулаком в грудь вахмистра. Если хуторской силач Моисеев от его тычка падал на колени – куда уж там было устоять рыхлому служаке! Он отлетел на целую сажень. Кувыркнулся, раскинул руки – падая, все сучил растопыренными пальцами, словно бы ловил что-то и не мог поймать, – и растянулся под ногами Жукова. Тот засуетился, поднимая начальника. Федор вскочил на коня, гикнул и, забыв об ужине, снова поскакал в штаб.
Утром по всем сотням и командам, в углах и закоулках, у коновязей, приглушая шепот и озираясь, казаки передавали один другому: «Слыхал, паря, царя сменили?» – «Брешешь!» – «Крест святой!» Или: «Дела-а… государя-то спихнули с престола». – «Но-о-о!..»
В открытую никто ничего не говорил. Только шушукались и перемигивались. По глазам безошибочно определяли, кто уже знал об этой небывалой тайне, а кому еще надо было о ней поведать. Офицеры в смятении бегали взад-вперед, о чем-то подолгу между собой совещались, но с казаками речи не заводили. Растерянность чувствовалась во всем. Все притихли, ждали чего-то большого, необычного. Но ничего необычного не происходило. Все шло своим чередом: казаки уезжали и возвращались с позиций; несли, как всегда, караульную службу; занимались мелкими повседневными делами. Прошел день, другой, третий… Наконец – приказ по полку: император Николай Второй низложен, быть дисциплинированными, не поддаваться агитации и прочее.
«А свобода есть али нет?» – недоумевали казаки.
И так же, как несколько дней назад шептались по углам о том, что «царя спихнули», теперь зашушукались по другому поводу: «Свободу зажал князь Долгорукий, гарнизонный начальник. Надо требовать!» Кто-то незримый, видно, направлял и объединял действия тех, более смелых, кто этой свободы хотел добиться. В ростепельный мартовский вечер караулка старой церквушки, находившейся почти в центре города, была битком набита вооруженными людьми. Толпились и в ограде, так как все в караулке вместиться не могли. Были здесь представители почти всех частей гарнизона: и матросы Дунайской флотилии, и казаки, и солдаты, и просто горожане с красными нашивками на рукавах. Изредка мелькали погоны офицеров. Казаки сбивались в одну кучу, матросы – в другую. Ощупывали друг друга недоверчивыми взглядами. Митинг почему-то не клеился. Из 30-го полка были здесь взводный командир прапорщик Захаров, кое-кто из казаков различных сотен и Федор Парамонов. Чем окончится история его драки с вахмистром, пока еще не было известно, но рапорт начальству вахмистр подал, Федор знал об этом. Протолкались около часа. А когда над городом повисла ночь, собравшиеся заволновались: «Долгорукий пришлет пулеметы, и наведут нам решку». По чьему-то предложению выставили посты, послали за начальником гарнизона. Тот пришел. Старческой поступью тяжело взобрался на возвышение, осмотрел толпу. На широких генеральских погонах его красовался вензель: «Н. II».
– Вы чего, станичники, собрались? – нетвердым, дребезжащим голоском спросил он, обращаясь к казакам, хотя тех было значительно меньше, чем солдат и матросов.
– Приказ о свободе давай! – густым басом крикнул кто-то из матросов.
Князь покрутил головой, поморщился.
– Нет пока распоряжений. Подождем.
– Не-ечего ждать! – закричали уже со всех сторон хором.
Кричали еще. Хором и вразбивку. Но ничего такого, чего с нетерпением ожидал Федор, – что вот сейчас кто-нибудь поднимется на вышку и громко, смело, так, чтобы услышали все, скажет: «Конец войне! По домам, ребята!» – ничего такого не произошло. Люди пошумели, поволновались и разбрелись. При этом всяк старался прокрасться в свою часть как можно незаметнее, чтоб не попадаться на глаза начальникам. А то, чего доброго, еще припаяют за самовольство.
Ничего не произошло и в тот день, когда все полки пешим строем были выведены на площадь. Князь Долгорукий с трибуны читал приказ о том, что отменяются всякие титулования и при обращениях к любому начальнику – называть его только господином: «господин урядник», «господин генерал…» После присяги Временному правительству шли церемониальным маршем мимо трибуны. Князь Долгорукий все тем же натужливым, дребезжащим голоском приветствовал части: «Здорово (такая-то), сотня!» Казаки, не привыкшие отвечать по-новому, вразнобой гаркали: «Здра… жела… ваш… сиятельств! Здра… жела… господин генерал!» У подножия трибуны стоял какой-то очкастый в черном пальто и шляпе господин. И всякий раз, когда очередная сотня, проходя мимо, невпопад отвечала на приветствие, он выбрасывал руку и яростно мотал указательным, в перстнях, пальцем: «Не-ет теперь сиятельств!» Князь Долгорукий торчал на трибуне не шевелясь, словно каменное изваяние. Глубоко надвинутая фуражка козырьком закрывала почти все его лицо. Проходившим казакам был виден только кончик его носа да выбритый раздвоенный подбородок.
Спустя полмесяца в 30-м полку проходили выборы войсковых комитетов – полкового и сотенных. Выборы проходили во всей армии. Приказом военного министра Керенского комитеты допускались только лишь для контроля над хозяйством части. Но суждено было стать по-иному. Вскоре они, в особенности в солдатских частях, стали вмешиваться и в оперативные дела. В полковой казачий комитет 30-го полка одним из девяти членов, не считая обязательной офицерской прослойки (на каждых трех казаков один офицер), был избран Федор Парамонов, которого за независимый характер сослуживцы уважали.








