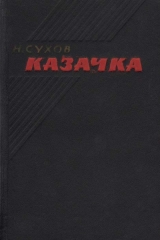
Текст книги "Казачка"
Автор книги: Николай Сухов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 41 страниц)
VIII
Федор скакал…
Он скакал, поторапливая коня, переменным аллюром, как это и было самым рассудливым. Ведь до округа, ни много ни мало, девяносто восемь верст, как считали. Да, главное, по такой дороге. На минуту переводя коня на шаг, он давал ему вздохнуть, отдышаться, и опять поднимал на рысь, а затем – в галоп.
Шлях был сырой еще, тяжелый – от копыт то и дело отлетали комья грязи. Избытка сил у коня, когда он сам рвался вскачь, хватило ненадолго, на один лишь первый перегон – до слободы Терновки. А потом уже и в плети появилась надобность. Правда, пока еще Федор только пошевеливал ею и нет-нет да и показывал коню.
Пролегал тут шлях по пересеченной степи – холмы, овраги, курганы, кусты. Федор время от времени, когда вскакивал на более возвышенные места, оборачивался назад, иногда даже приостанавливал коня и, напрягая зрение, всматривался из-под руки в текучую солнечную безоблачную даль: он опасался погони. А здесь, на этом участке, она была опаснее всего, так как загодя обнаружить ее было очень трудно.
Но пока ничто не внушало подозрений. Уже позади осталась слобода Терновка с двумя рядами одинаковых, тщательно выбеленных, по-над шляхом изб, с плетенными из хвороста трубами, широкими, высоченными, особенно бросавшимися в глаза; позади осталась мокроусовская, по осени разгромленная и обгоревшая усадьба – в версте от шляха, на берегу огромного, обросшего вербами озера; уже начинал обозначаться красноталом на песчаном холме хутор Альсяпинский – еще далеко-далеко, за волнистым гребнем бугра, что перед суходолом Яманово урочище.
Суходол этот, с топким глинистым днищем, зараставшим летом высокими травами, был главной на всем пути помехой, и Федор боялся его. Всегда здесь в пору вешней и осенней бездорожицы вязли путники. Конь, похрапывая, упираясь, местами проваливался по колени; а в самой низине, наполненной жидким илом, чуть было не застрял, вымазав в грязи и себя и хозяина.
Все же выбрался Федор из этой ловушки благополучно. Поднялся наверх по скользкому, в кленовом кустарнике, склону – и пустая, освещенная солнечными лучами равнина, тянувшаяся почти до самого округа, развернулась перед ним. У подножия горбатого, в краснотале, холма мельтешили золотые маковки альсяпинской церкви, и подле нее, как сдавалось, – недвижный лопоухий ветряк.
Вдруг Федор, оглянувшись еще раз, увидел: с лысого, перед урочищем, бугра, соприкасавшегося с небом, по излучине шляха скатывалась в суходол коротенькая вереница конников, уменьшенных верстами до размеров козявок.
Федор понял: за ним гнались. Никаких сомнений, за ним гнались «дружинники», непримиримые враги. Не было у Федора сомнений и в том, что уж если «дружинники» на это решились, значит кони у них надежные, не то что его строевой. Он знал, что на какие-нибудь четверть часа – но никак не дольше! – он скрыт из поля зрения конников, что не раньше как через десять – пятнадцать минут, выбравшись из суходола на взгорье, им удастся взять его «вназерку». А уж возьмут коли – так не выпустят. Все это Федор понимал прекрасно. Но что за это незначительное время мог он сделать? Перехитрить «дружинников» – спрятаться от них? Но куда?
Впереди и по бокам, насколько хватало глаз, стлалась беспредельная перепелесая равнина в редких полосках озимей и пашен, над которыми особенно заметно текло струистое марево. И ни чахлые, беспорядочно разбросанные кусты терновника, ни приземистые, корявые, сиротливо пригорюнившиеся дикие яблоньки, уродливо искаженные маревом, ни мелкие овражки укрыть Федора не могли.
Оставалось одно: идти напролом. Запалить коня, а «дружинников» к себе не подпустить. И не до округа идти – куда там! – а хотя бы до попутного хутора Хлебного. Отсюда до него верст тридцать, а может быть, и с гаком, минуя Альсяпинский, а затем – Бакланов. В этих ближайших хуторах у Федора не было ни родни, ни знакомых. И он не знал, атаман или ревком в них правил. А в Хлебном у власти был ревком. Об этом Федор знал достоверно.
А главное, там жил его фронтовой товарищ, песенник Блошкин, тот самый, что на прощальной вечеринке в Филонове был душой компании. Он, Блошкин, хоть и сморчок по виду, но когда, бывало, подпирало лихо, так вместо него не надо иного богатыря: мал ноготок, да остер. И Федор был уверен, что Блошкин наверняка ему поможет. Только бы застать его дома!
Федор выпустил из-под мышки домашний, ссохшийся на ветру узелок, припал грудью к луке в шершавой жестяной оковке, – так, что лицо его доставало развевавшейся гривы, и, не щадя коня, налег на плеть.
Это бывалому, стреляному коню, очевидно, показалось несправедливым: он зло прижал сызмальства надрезанные подвижные уши, покосился на хозяина кровяным глазом и мотнул головой. Верхняя нежнейшего ворса губа его в капельках пота от усталости уже дрожала. Розоватой изнанкой она завернулась кверху, и из-под нее угрожающе глянули зубы. Но конь привык повиноваться хозяину и, вытянувшись еще больше, кряхтя, наддал ходу.
Федор хоть и гнал его теперь нещадно, но хладнокровия не терял, и силы коня, довольно скромные, расходовал бережно. А дорога здесь пошла – пропасть в ней крещеному! – еще хуже, чем в начале пути: копыта коня по самый путовой сустав то и дело вязли в грязи, особенно в балках.
В хуторе Альсяпинском, где через прозрачную с песчаным дном речку ездили вброд, так как мост полой водой был сорван, конь дорвался до реки и с великой жадностью, вырвав повод, уткнулся в воду. Ненасытно глотал ее, а она ручьями через горячие, раздувавшиеся ноздри лилась обратно. Бока его ходили ходуном. А между тем расстояние между Федором и «дружинниками» гибельно сокращалось. Но Федор, опытный ездок, все же не оторвал коня, дал ему попить, справедливо полагая, что время, потраченное на это, с лихвой возместится.
На перегоне от Альсяпинского до Бакланова, где шлях пересекался железнодорожной линией Москва – Царицын, Федору подвезло. «Дружинники» его было настигли здесь, под хутором Баклановым, лежавшим тотчас же за линией. Конь под Федором уже весь был взмылен, и с него хлопьями падала пена. Плеть уже почти не взбадривала его. Когда Федор приближался к переезду, «дружинники» уже топтали ему пятки.
Вдруг неподалеку от переезда, выскочив из небольшого леса, затрубил паровоз, тащивший нескончаемый состав-порожняк. И только что Федор простукотел по прыгавшим бревнам настила между двух полосатых столбов – поперек дороги легла огромная жердь шлагбаума, и мимо одинокой цветной будки с ослепительно блестевшими окнами, мимо пожилого железнодорожника, подозрительно поглядывавшего, как на взбешенных приплясывающих конях вертелись не менее взбешенные вооруженные казаки, загромыхал набиравший скорость поезд.
До Хлебного оставался один перегон. Правда, большой: верст пятнадцать. Но все же только один! А конь под Федором уже хрипел. Оскалился, опустил чуть не до земли голову. Мокрая шея у него, как у птицы в полете, была предельно вытянута и как-то судорожно покачивалась. И, казалось, конь не бежал уже, а полз, часто и нетвердо перебирая согнутыми, подламывавшимися ногами.
Федор, кособочась в седле, пытался угадать нагонявших: двое скакали рядом, третий – позади. Сидели они крючками, и лиц их рассмотреть нельзя было. Все же одного из тех, что скакали рядом, вахмистра Поцелуева, Федор угадал – по бурке и по черкесской, в заломе, шапке.
Но самое важное было то, что Федор с тревогой заметил, – винтовки за спинами «дружинников». «Гады… гады! Кадюки! А ведь пристрелят!» – подумал он. И только что он подумал это – в уши ему ворвался отрывистый, как исполнительная команда, голос, с каким-то клекотом, напоминавшим крик ворона:
– Стой!.. Сто-ой!..
В руке у Федора пуще засвистела плеть.
– Сто-о-ой!..
Вдруг – выстрел… другой… третий. Пуля, чмокнув, ковырнула еще не успевший зачерстветь солончак в аршине от передних ног коня. И тут с конем, вконец выбивавшимся из сил, случилось то, чего Федор от него никак уж не ожидал: он всхрапнул, вскинул голову и, строча ушами, напружившись, прибавил ходу. Федор видел, что Поцелуев стрелял на скаку. А такой стрельбы Федор не очень боялся.
Наконец вдали, по-над синей, изрезанной оврагами горой завиднелись деревья: хутор Хлебный славился садами и походил издали на лес. Проездом Федор не раз бывал в нем. Хутор сравнительно небольшой по числу дворов, но так разбросался по берегу речки, что пока его минуешь, нудно станет! Поместье от поместья – не досвистишься. Но двор Блошкиных, как Федор помнил по рассказам сослуживца, – второй с этого края. Скорее бы до этого двора. Скорее бы отделаться от этих гадов!
А они все ближе и ближе. Федор уже слышал позади тяжелый перебойный храп и надсадное порсканье их скакунов. Оглядываться назад ему уже некогда было: конь опять начал приставать, и требовались огромные усилия, чтобы как-то продлить его бег. Хоть бы еще выстрелили, что ли! Но «дружинники» теперь не стреляли. Они, видно, понимали, что стрелять здесь, на глазах у ревкома, рискованно. А рисковать им совсем незачем было, ежели они и так уже, считай, нагнали.
Вот и околица. Беглым взглядом, не разгибаясь и не поднимая головы, Федор охватил ее всю сразу: при дороге черная и, как всегда, угрюмая часовенка, на которой стрекотала сорока; на прогоне – узкие и, что борозды, глубокие скотные тропки; вправо, к горе, – кладбище, обнесенное оградой из дощатых планок; влево, почти на самом берегу сверкавшей камышистой речки, в стороне от дороги, – дом под железом, а поодаль от него – второй, под камышом.
Все внимание Федор сосредоточил на этом, втором доме. От него шла к дороге лошадь, впряженная в тарантас. Правил, сидя рядом с мальчиком на козлах, казак, одетый будто на свадьбу. Он подъехал к дороге и остановил лошадь, очевидно удивленный бесшабашной скачкой приближавшихся к нему всадников.
Казак этот – тщедушный, с худым острым личиком – Федору показался знакомым. Не он ли Блошкин и есть? Не он ли это вырядился, сбросив с себя фронтовую одежду? Но рассмотреть его хорошенько натруженными, мутными от пота глазами Федор не успел.
Он не слышал даже, точнее, не воспринял, поглощенный другим, как этот казак, заволновавшись на козлах, крикнул тревожным, удивительно сильным, сочным голосом, никак не вязавшимся с его мозглявенькой наружностью: «Парамонов?.. Ах, сволочи!..» И спешно, повернув лошадь, размахивая кнутом, зарысил ко двору.
На строевом учении, в манеже или в поле, а в походе – как правило, казаки ездят отделениями: три коня в ряд. Отделениями они делают и повороты: вольт направо, вольт налево. Вот такой строй «дружинники» и образовали, зажав с обеих сторон, как в щипцы, Федора. Поцелуев упер ему в пропотевшую подмышку бурый от ржавчины винтовочный ствол, из дула которого воняло пороховой гарью, и проклекотал, заикаясь от ярости:
– 3-застрелю, не шевелись!
Федор рванул ногу, до немоты стиснутую липкими, опавшими боками лошадей, вскинул ее на холку своего коня, привстав другой, тоже защемленной, ногой на стремени, – намеревался он прыгнуть из седла. Но вызверившийся на него Поцелуев щелкнул затвором, и Федор понял: мгновение – и курок будет спущен. Неужто надо принимать такую глупую смерть!
В это время другой в строю «дружинник» чуть подал своего мокрого, будто только выкупанного, дончака вперед на полстана, дернул его за правый повод. И тот, роняя изо рта клубки пены, скрежеща о мундштук зубами, начал отжимать Федорова коня. Отделение все тем же аллюром сделало вольт направо, обогнув похилившуюся часовенку с дубовым щелистым устоем, отполированным скотными боками, и снова вышло на шлях.
И конь под Федором, движимый табунным инстинктом, от дончаков в эти минуты не отстал…
* * *
Перед самым заходом солнца в комнату к Сергею Абанкину вломился – с хозяйского разрешения, конечно – обрадованный полицейский. Сергей спал, уткнувшись носом в подушку, натянув на себя атласное одеяло. Разбуженный, он повернул голову, не отрывая ее от смятой подушки, не раскрывая глаз, недовольно посопел и опять притих.
– Сергей Петрович! Вашблародь!
– Ну? Кто это еще?..
– Да вы гляньте-ка сюда, Сергей Петрович!
– Да что надо-то?
– Атаман спросить велел: куда деть прикажете Парамонова?
На Сергея ровно водой брызнули: откинул одеяло, широко раскрыл глаза и живо приподнялся на локте.
– Поймали?
– Как пить дать! – и полицейский ощерился в улыбке, поправляя портупею шашки, которая топорщилась у него на спине – видно, бежал сломя голову. – Только черт те где, под самым округом. Куда упер, старался! Лошадь только спортил, дурак – все одно ведь защучили. Совсем, сказывают, загнал лошадь.
– А как же его доставили, ежели он лошадь загнал?
– На Поцелуевом коне… двое доставили. Двое, вашблародь. – Полицейский покосился на стоявшую возле него табуретку, тяжело перевел дыхание, но присесть не осмелился. Видя на заспанном офицеровом лице недоумение, пояснил: – А Поцелуев с конем Парамонова на Альсяпинском остался, у тещи. Жинка ведь у него оттуда, с того хутора. А чадушко-то он, известно… Мимо полбутылки нешто ж проедет! Погостит у тещи, подкормит лошадь и ночушкой дотянется как-нибудь!
Сергей запустил пальцы в свои растрепанные, цвета перестойной ржаной соломы волосы, уставился в потолок. Но, вспомнив про нижний чин, торчавший перед ним восклицательным знаком, расправил косой казачий пробор и деланно зевнул:
– Федюнин где у ва… у вас?
– В амбаре, вашблародь. Туда перевели. Оттуда не выпрыгнет.
– Давай и Парамонова туда же. Завтра уж с ними…
– Слушаюсь! – Неуклюжий блюститель порядка громыхнул сапожищами, сделав подобие военного поворота кругом, и согнулся в три погибели, боясь задеть лбом за притолоку.
Сергей повозился на кровати, снова подлез под одеяло, пытаясь вернуться к прерванному сладкому сну. Но сон уже не шел. Сергей нервно отшвырнул одеяло, свесил босые, обтянутые штрипками кальсон ноги и, касаясь одними пальцами холодного пола, потянулся за лежащими на табуретке набивными папиросами.
IX
У старика Морозова на лице благочестие. Выпятив острые мослаки плеч, сгорбившись у подоконника, где света было больше, чем на столе, он усердно корпел над евангелием – книгой толстущей, ветхой: замусленные уголки желтых листов свернулись внизу трубочками. Приобщаться по праздникам к душеспасильному чтению – давний обычай Андрея Ивановича. И он нарушал его редко.
В хате было сумеречно, почти темно; но старик с завидным прилежанием все пошевеливал обкусанными, ржавого цвета усами, все водил взглядом по жирной вязи строк: «От Марка святое благовествование», стараясь дочитать до конца то, что им уже неоднократно было читано, и погребальный речитатив его звучал зловеще:
«…восстанет народ на парод, и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей; и восстанут дети на родителей…»
Пашка, мрачный, собираясь на улицу, расхаживал по хате и нехотя прислушивался. Одевал он домашние жениховские наряды – потрепанную служивскую одежду носить по праздникам стеснялся. Суконную, слежавшуюся в сундуке поддевку, которая днем ему была не нужна, так как и без нее было жарко, долго теребил в руках, расправляя складки. Причем делал он это с силой, даже с остервенением. Так и казалось, что эту, уже тесноватую ему, с вытертыми обшлагами поддевку, пропахшую нюхательным табаком, он намеревался разодрать в клочья.
Всегда готовый и щедрый на шутку, веселый, он был сейчас совсем иным. Явно не в духе. Даже предстоящее свидание с Феней Парсановой, куда он собирался, – и то, как видно, было ему не в радость. И, готовясь к этому свиданию, думая о нем, он продолжал оставаться все таким же мрачным.
Утром, во время обедни, когда деда Парсана дома не было, он «случайно-намеренно», как любил говаривать, заходил к Фене. Побалясничал с ней, ущипнул ее, живую, кругленькую, откушал горячих на постном масле пирожков с капустой и калиной и вдруг совсем неожиданно предложил ей вечерком встретиться: «Все одно ведь, Феня, придется умирать, ей-бо!» Феня вспыхнула и без особой к тому надобности всунулась по пояс в печь, где металось пламя: она пекла пирожки. А когда выпрямилась, став к Пашке боком, на пухлых девичье-свежих губах ее цвела улыбка. Она хоть и поломалась немного и точного ответа не дала, но Пашке было понятно, что она согласна.
Это было утром. Но события дня и, главное, последнее событие – поимка Федора – вывели его из того беспечного добродушия, в котором он до последнего часа пребывал.
О всех сегодняшних происшествиях с Федором он слышал от людей, а давеча, идя с игры в орлянку домой, он даже видел его. Только издали. Федор ехал на чьем-то молодом дончаке, кажется, очень добром, но измученном, ступавшем разбито – на одну ногу все прихрамывал. Масти этот конь, как угадывалось, был гнедой, а казался серым: он весь от маленькой ящериной головы и до выпуклой овальной сурепицы был в коросте засохшего пота.
Федор, безоружный, сидел в седле спокойно. Стремена были коротковаты, и посадка его от этого делалась чужой для него: слишком торчали колени. Опустив поводья, устало покачиваясь, он независимо смотрел вперед, на черный с прозеленью квадрат плаца, который местами был так утоптан, что в солнечных, уже прощальных лучах даже лоснился. Там, на плацу, у купеческого амбара, куда был загнан Федюнин, толпились и гомонили подростки. Эта толпа, видно, и привлекла внимание Федора.
Он словно бы возвращался домой с неумеренной прогулки, когда объезжают застоявшуюся скаковую лошадь. Позади него, что называется на хвосте, – два дуролома-конвоира с винтовками в руках. Дула винтовок направлены на Федора. Кони под конвоирами тоже измученные.
Долгим, пристальным и удивленным взглядом – откуда у Федора такой дончак? – Пашка проводил всех этих верховых, пока они, шажком выезжая на плац, не скрылись за высоченным поповским забором, напоминавшим гребень, и на душе у него стало муторно.
Конечно, он-то, Пашка, тут совершенно ни при чем. Ведь он же давал Федору понять, чтоб на его помощь ревкомовцы не рассчитывали, что ни атаману, ни ревкому он служить не будет. И Федора на рожон никто не толкал, сам полез. Вот и…
Но все же, до кого оно ни доведись, а сознавать, что человек, который много-много лет был самым близким, задушевным другом, с которым еще голопузыми бегали по улицам, а потом вместе и мытарились по свету, страдали и справляли игрища, веселились, делили надвое щепоть табаку и черствую корку хлеба с привкусом переметной сумы, – сознавать, что человек этот, родственник к тому же, шурьяк, попал в беду, страшно неприятно, тяжело. Но что делать! У каждого ведь своя воля. А своя воля – своя и доля.
Пашка переоделся и подошел к простенку, на котором висело зеркало. Выгнутый горб Андрея Ивановича, сидевшего как-то боком к подоконнику, мешал подойти к зеркалу поближе – с другой стороны мешал стол, – и Пашка с досадой сказал:
– Будет уж тебе, батя! И так на сердце кошки скребут, да ты еще тут… тоску нагоняешь.
– Стих докончу, подожди! – не двигаясь с места, пробурчал скороговоркой старик, и – все тем же погребальным распевом: «Чтобы, пришед внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте».
– Мы и так бодрствуем! – не удержал Пашка своего насмешливого язычка.
Андрей Иванович с благоговением закрыл евангелие, все еще шевеля, но уже беззвучно, губами, отодвинулся вместе с табуреткой от простенка и мутными рдяными глазами глянул поверх очков на сына, съехидничал:
– В посте да молитве, милушка, бодрствуют, а не в блуде.
Пашка, закуривавший на дорогу, рассмеялся: знаем, знаем, мол, батя, как ты «бодрствовал» в молодые свои деньки!
А старик снял очки, сунул их за зеркало и, жмурясь, протирая кулаком глаза, заворчал:
– Вот и горе наше, что мы, как Фома неверующий, ничего не хотим понять. А ведь кто-то за тыщу лет наперед обо всем знал и поведал нам, дуракам. Написано в священном писании – поднявший меч от меча да погибнет. Истинно! Зятек наш Федор поднял меч супротив власти, а теперь небось и сам не рад.
– Ну ладно, батя, – нетерпеливо сказал Пашка, направляясь к двери, – зятек все одно тебя не послушается. Нечего об этом!.. Ты немного погодя, пожалуй, попотчуй коней. Я хоть и водил их на водопой… Буланая нагнулась все же, а строевой ногами только поболтал, воду замутил.
– Он, твой строевой, такой супостат! Так и сует нос в карманы. Надька, видно, его избаловала. Надась подхожу…
Но Пашка уже не слушал: дверь, в истлевшей войлочной обивке снаружи, коротко скрипнула.
Пашка вышел на крыльцо с цигаркой в зубах, и вдруг выплюнул окурок под ноги, затоптал, чертыхаясь: в лицо ему кинулись подхваченные воздушной струей искры. По двору, кружась и подскакивая, метались сухие цветочки мелкого лугового сена, и верх копны, приготовленной к выезду в поле, ворошился.
Это было неожиданно: ведь только что было совершенно тихо, и сумерки стояли спокойные, прозрачные! В палисаднике, под углом дома глухо шумел и раскачивал ветками тополь. По свинцовому небу, еще не успевшему обрядиться в свой звездный ночной халат, ползли пепельные в сизом подбое облака. Низовой ветер, крепчавший с каждой минутой, подталкивал их, и облака вперегонки, меняя расцветки и очертания, налезали друг на друга. Погода портилась, и как-то внезапно.
«Исход и молод», – подумал Пашка, имея в виду стоявшую пору новолуния, когда погода бывает неустойчивой. Спустился с крыльца и поморщился: ветер, порывами наплывавший с бугра, из-под тучи, неприятно щекотал лицо. «Фу, черт! Феня поди замерзла теперь, а я… апостола Марка слушаю».
Поспешно орудуя граблями, он подобрал сено, оправил, причесал копну и, подтаскивая корягу, увидел: кобель, дремавший на овечьих объедках, вдруг насторожился, вскочил и с лаем запрыгал к воротам. Оттуда, из-за прикрытой калитки, послышался испуганный мальчишеский голос: «Трезор, Трезор!..» Но злой спросонья кобель проскочил через пролом в заборе на улицу и никак не хотел уняться.
– Пошел! – грозно крикнул Пашка. Взвалил корягу на сено и заторопился к калитке, открыл ее.
В нескольких шагах от него стоял, растопырив руки, небольшой, в заячьем треухе, паренек. В ладонях у него – увесистые комки земли. Во всей наершившейся фигурке его был испуг, но он все же упрямо подвигался к калитке и, крутя головой, с опаской следил за все еще рычавшим кобелем.
– Так это он на тебя, Миша! – узнав паренька, с тайным чувством смятения сказал Пашка, – Ать, дурак старый!
– Во, какой он у вас! Чудок меня за ногу не уцепил. Я уж было струхнул, – признался Мишка, швыряя комки к воротам.
– Ну, ей-бо! – насмешливо и вместе с тем восхищенно воскликнул Пашка. – А ты чего же без палки-то?
– Ды-к он же меня днем никогда не рвал.
– Днем! То – днем, а это – ночью. Ты чего это по ночам?.. Должно, прислал кто-нибудь?
– Ага. Тетя Надя прислала. К тебе прислала. Сейчас она… – всполошенно зачастил Мишка. – Бежи, позови, говорит, дядю Пашу. Чтоб поскорее пришел к нам. Обязательно!
Пашка почесал всей пятерней переносицу: «Поскорее… и обязательно…» Минуту он понуро стоял, как опущенный в воду, неподвижно глядя в блестевшие в темноте парамоновские, с большими зрачками глазенки, неотступные, требовательные.
– А твой отец не вернулся? – наконец спросил он.
– Да как же он вернется! – сказал Мишка уже с обидой и раздражением, словно бы раскусив дядю Пашу, – Он же нынче утром только с дядей Артемом уехал… Может, послезавтра вернется. Дедока не велел ему долго базаровать. А нонче… как же он?.. Кабы он знал!..
Пашка почувствовал, что глупыш этот далеко не так уж глуп: пожалуй, он знает и понимает больше того, как можно подумать. И ведь родная же, единственная сестра зовет его, Пашку, в такую тяжелую для себя минуту. Ему стало совестно.
– Хорошо, Миша, – сказал он как-то неуверенно, – бежи домой, а я вот… только… Через полчаса у вас буду.
Мишка переступил с ноги на ногу, поглубже напялил на себя шапку и угрюмо опустил нос.
– Тетя Надя наказала, чтоб ты тут же пришел. Прямо тут же.
У Пашки опять зачесалась переносица. «Эх, узнаю тебя, упрямая кровушка!» – и вздохнул.
– Ну, пойдем!








