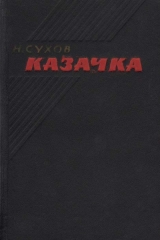
Текст книги "Казачка"
Автор книги: Николай Сухов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 41 страниц)
Казачка
Часть первая

I
По крутому каменистому склону – в обрывах и уступах – поднимался волк. Это был матерый, уже дряхлый старожил буерака, не раз бывавший в переделках. Он широко зевал, приостанавливаясь, потягивался, и на его буром в седых пятнах загривке дыбилась щетина. Вялыми бросками он шел наискось, кверху.
Над ним во мгле высился корявый дуб-вековик с низко опущенными заиндевелыми ветками. Страж одичалых степных просторов, дуб накренился над обрывом, повис и сумрачно уставился на свой оголенный, цвета тусклой стали корень, обнимавший кудрявую черную прядку земли, чудом втиснутую меж солончаковых глыб. И никакому силачу-бурелому – ни грозовому июльскому, ни ледяному новогоднему, мертвящему птиц в полете, – дуб свалить было невмоготу. Одна лишь ласковая, неугомонная весна из года в год, незаметно, но неотвратимо подтачивала корень. И придет когда-нибудь время: степной орел – едва ли не сверстник дуба, – шумя с посвистом крыльями, покружит над суходолом, загонит в норы сусликов и не найдет обжитого места…
Из-под волчьих когтей сыпалась глина. Змеящимися ручейками, шурша, она стекала на дно обрыва, туда, где в зарослях осок курилось логово. На обледенелом выступе зверь поскользнулся и столкнул камень. В буераке послышались глухие шорохи. Волк напрягся, шевельнул щетиной и прыгнул. Снеговая мерцающая равнина под мутным ночным небом синё сверкнула перед ним…
У крайней, в низине, левады волк замедлил шаг, насторожился и раздул ноздри, ловя недобрые, приплывшие из мрака запахи. Где-то простуженно звякнул колокол, притих на минуту. Потом звякнул смелее, и над степью закружились унылые звуки. Волк поднял голову, зажмурился – небо было зыбкое, студеное – и завыл. Он выл с переливами, протяжно и жалобно. В улицах трусливо затявкали собаки, недружно подвыли и смолкли. Волк околесил хутор, переползая через канавы и беря скоком обветшалые прясла, и спустя час уже лез по гумну. Лез крадучись, косясь на завьюженный начатый стог сена. Но вот из-за сараев вылетел ветер, принес чуть внятное овечье тепло, и зверь опьянел: старчески раскачиваясь и разгребая грудью снег, он заспешил без опаски.
Вдруг от стога жгучей короткой струей плеснулся свет, опалил волку бок, плеснулся еще раз, и морозная тишь загрохотала.
Волк шарахнулся в сторону и исчез в ночи.
Федор свистнул ему вдогонку, поулюлюкал, и вот словно громадная копна отделилась от стога, – на широчайшем овчинном тулупе Федора висели клочки сена; от вскинутого на плечо ружья тянуло гарью.
– Ать, дьявол! Ать, супостат! – с превеликой жалостью бормотал он, вглядываясь в густую муть, поглотившую зверя. – Ведь прямо на нас пер! «Знаем, мол, вас, охотников!» А мы… вот уж… – Разминая в рукавицах иззябшие пальцы, он несколько секунд слушал, как в садах, перекатываясь, затихают отголоски выстрелов, и, повернувшись к стогу, сердито крикнул: – Говорил тебе, черту, – захвати картечи! Кто ж на волков с утиной дробью? Додумался!
– Да что я… Соломон тебе? – равнодушным баском отозвался из-под навеса другой охотник, Пашка Морозов. – Мы ж под зайцев метили, кто его знал. Мне вот за шею трухи насыпало, провались оно… Колет, ф-ф… терпежу нет! – Он пошуршал сеном, выбрался из укрытия и неуклюже прошелся в танце, разворошив валенками сугроб. Нимало не огорчаясь неудачей, закурил, позубоскалил насчет своих охотничьих способностей и поднял ружьишко. – Ну, давай, паря, сматываться, хватит. А то не дотащим, ей-бо. Идолов косоглазых теперь все одно не дождемся. А? Чего? Посидеть с часок? Да бро-ось! Успеем поседеть! Седых-то девки не очинно уважают. Пойдем!
Проваливаясь в сугробах, они обогнули заиндевевшие сады, белые, словно в майском уборе, прокатились по ледку через речку и вошли в хутор. Улица была пуста, безлюдна. На том конце ее все еще ликовал собачий гам, поднятый выстрелами. Туман редел, и в небе гроздьями проступали звезды. Хаты понуро глядели захлопнутыми ставнями. Только у одной, кособокой, вросшей в сугроб, поблескивала полоска света. Она вздрагивала, гасла и снова ложилась на снег. Федор заметил полоску еще издали и свернул к палисаднику. «Ну, ясно, от лампы, – подумал он, перегнувшись через плетенек. – Значит, посиделки не разошлись и Надя тут». Федор внезапно почувствовал, что мороз стал значительно слабее, в сущности, даже совсем тепло стало – тихо, ведренно, а они все в тулупы кутаются. И он рывком откинул мохнатый, увешанный сосульками воротник.
– Ты, случаем, не замерз? – непроизвольно сбавляя шаг, окликнул он друга, – Давай забредем к Парсановым, погреемся… А?.. У них посиделки ныне. Не разошлись еще. Ведь только одиннадцать на колокольне отстукали.
До них донеслась девичья приглушенная песня, и Федор, который шел впереди, подобрал полы, переступил через низкие, утонувшие в сугробе хворостяные воротца.
Пашка зацепился полой за сучки и, барахтаясь, застрял в воротцах.
Что ты прыгаешь, как борзой! Постой, я не перелезу.
Окутанные облаком пара, ввалились они в двери – рослые, плечистые, в заснеженных тулупах, – и в хате сразу стало холодно и тесно. На столе пугливо заморгала лампа, и по стенам побежали тени. Сидевшие в ряд девушки оборвали грустную песню «При буйной ночи…» и, повизгивая, зябко жались друг к другу. И только парни не обратили на вошедших никакого внимания: облепив стол, азартно хлопая картами, они резались в «очко». Федор поставил у порога ружье, сбросил тулуп и вышел на середину хаты.
– Мир честной компании! – сказал он и, тряхнув заиндевелым чубом, поклонился девушкам.
Ловко сидевший на нем поношенный пиджак, перехваченный казачьим, с металлическими украсами ремнем, четко обрисовывал мускулистые плечи. Смушковая шапка, сдвинутая на затылок, лихо заломлена, как у горца. Лицо – смуглое, цыганское; нос – тонкий, с маленькой горбинкой. Когда Федор, улыбаясь, раскланивался с девушками, в его широких, темных бровях посверкивали снежинки. Вся высокая и стройная фигура парня дышала здоровьем, свежестью.
Ребят встретила молодая круглотелая хозяйка Феня, уже год вдовевшая. Муж ее, рядовой 13-го казачьего полка, погиб где-то в Прикарпатье, на фронте. Погиб почти сразу же, как только прошлым, недоброй памяти, летом тысяча девятьсот четырнадцатого года началась война. Феня выкатилась из-за прялки, потеснила девушек и, освободив скамейку, заюлила перед Федором:
– Чтой-то вы так припозднились? А мы уж думали – совсем не придете. Зачурались, мол, наши ребята. Проходите, проходите, не стесняйтесь, садитесь.
– Пройдем, Феня, пройдем, – раздирая слипающиеся с мороза ресницы и шаркая валенками, ответил Пашка и выступил вперед. – За нами дело не станет. Я и то говорю: пойдем, паря, живей. Небось девки по нас изгоревались. Да тут… бирюк присватался. Приглашали с собой – не идет. «У вас, говорит, Латаный в карты играет, ну его!»
Невзрачный парень с разномастными щеками – по прозвищу Латаный – оторвал глаза от карт, промямлил в ответ на остроту что-то сердитое и снова углубился в игру. Правая щека у него обыкновенная, а другая – с исчерна-красным, от виска до подбородка, родимым пятном. Редкая эта отметина перешла к нему от отца по наследству. Кличка, невесть кем придуманная, тоже родительская. Настоящего имени его теперь почти никто уж и не помнит.
Федор быстрым взглядом скользнул по девичьим лицам, разыскал Надю. Она, вся в полыме румянца, сидела в уголке, у сундука. Склонившись над вязаньем, суетливо перебирала спицами, которые так и сверкали у нее в руках. Голубоватыми глазами она несмело взглядывала на Федора, изредка – на брата Пашку и, как бы стыдясь чего-то, еще ниже склонялась над недовязанной перчаткой. На крутое под алым поплином плечо ее упала коса, широкая, волнистая; Надя подняла голову, смущенно улыбнулась и отвела косу за спину. Федор пожал девушкам руки, заодно и Наде (ему казалось, что он очень давно ее не видел, хотя на самом деле только утром сегодня встречались на улице). Они улыбнулись друг другу, и Надя застенчиво опустила глаза, которые засветились радостью.
Внезапно картежники заорали, застучали по столу кулаками. Больше всех шумел Латаный, над которым так любил подтрунить Пашка. Меча банк, он подсмотрел карты у самого опасного, все время рисковавшего игрока Трофима Абанкина. Сверх семнадцати Латаный вытянул еще одну карту и к своему изумлению открыл короля.
– Очко! – возрадовался он и зазвенел разбросанными по столу медяками, сдвигая их в кучу.
– Я не буду ставить! Тебе морду надо бить! – кричал и размахивал кулаками плотный, коренастый и низкорослый Трофим Абанкин. Его цепкие под вислыми бровями глаза не пропускали никакой мелочи, и он заметил шельмовство банкомета.
– Он подсмотрел, я видал, ей-богу, видал!
– Король сам ему кивнул!
– Ничего я не подсматривал, не бреши!
– Как не подсматривал, чего ты…
– Вприщурку дозволяется!
– Ну конечно, не подсматривал!
– Цы-ыц, горлопаны! – хрипло проскрипело с печки. Это проснулся хозяин, дед Парсан. Свесив косматую, взъерошенную голову, он с тупым вниманием оглядел игроков и злобно пообещал им: – Я вас, должно, утихомирю! Живо! Повыгоню на двор, там и цапайтесь!
Ребята – тише, тише и смолкли. Начали ругаться шепотом. Федор подошел к ним:
– Вы чего не поделили?
– Это вот они, – ссыпая медяки в карман, усмехнулся Латаный. – Обыграл их, они и окрысились.
– А-а, м-м… Парамонов… – неопределенно промычал Трофим Абанкин и смерил Федора недружелюбным взглядом, – Охотники и рыбаки пришли. Та-ак… Удим, удим, а рыбку есть не будем. Этак, что ли? – И отвернулся к окну. «Черти тебя принесли, только тебя не видали тут», – было явно написано на его широкоскулом лице.
Не отвечая на насмешку, Федор сел возле Латаного и подозвал Пашку – тот, захлебываясь, рассказывал девушкам о том, как на засаде они чуть-чуть не полонили бирюка, совсем за пустяком дело сталось, «ей-бо». Очередной банкомет роздал карты.
Федор и Трофим терпеть не могли друг друга. Глубокая, застаревшая неприязнь, как глухая стена, постоянно разъединяла их. Внешних поводов к такому разладу как будто бы и не было: никогда они между собой не ссорились, каких-либо особых счетов, как бывает иногда у ребят, тоже, казалось, не было, а дружбы все-таки нет, хотя каждый делал вид, что он относится к другому – как и вообще ко всем парням.
Они одногодки. Когда-то вместе бегали в церковноприходскую школу. И даже сидели в первом классе за одной партой. С той самой парты, кажется, все дело и взялось. Трофим, бывало, на больших переменах часто мотался в лавчонку и там набивал себе карманы конфетками и пряниками. Конфетки брал всегда с разноцветными шуршащими махрами, а пряники – обсахаренные, в белых извилинах. Эти махры да извилины были особенно заманчивы. А на уроках нагнется за партой и тихонько почмокивает губами – сосет. У Федора, сидевшего рядом, только слюнки текли. Не один раз он тогда требовал у отца: «Давай денег на конфетки – и все! Трошке Абанкину дают, а ты мне не даешь». – «Чудак человек! – смеялся отец. – У Абанкиных свой вечный участок, им можно покупать сласти. А у твоего батьки – одна кривая кобыла. Да это бы пустяки! Главная запятая – от сластей этих зубы крошатся, вот беда. А я не хочу, чтоб ты беззубым вырос».
Конечно, быть беззубым Федору никак не хотелось – чем бы он тогда стал подтачивать карандаш? Ногтем не наточишь! Он смирялся, но все же было завидно и досадно. Еще досадней было то, что учитель Андрей Лукич – такой строгий и сердитый дядя! – ни разу не стукнул Трофима по лбу пальцем. Всех других стукал, и Федора тоже, а Трофима нет. Хотя его-то как раз и надо было стукать: задачки, которые задавал учитель на дом, он почти никогда не решал; в тетрадках его ничего нельзя было понять – одни кляксы. Уж Федор-то знал об этом – рядом сидели.
А тут как-то пропал у Трофима складной ножичек, маленький, с костяной полосатой, как спинка ящерицы, ручкой. Трофим наговорил учителю, что это, мол, Федька упер; он, мол, все расспрашивал меня, где я такой взял. Учитель роздал одноклассникам палочки в полкарандаша величиной и велел их на другой день принести. При этом он сказал, что у того, кто украл, палочка за ночь станет на полвершка длинней. Так вроде бог ей прикажет. Федор с затаенной тревогой принес палочку домой. Ножик воровать он, конечно, и не думал. Ну, а вдруг да бог ошибется и палочка вырастет? Что тогда?.. Примерил ее к своему старому карандашу, и они оказались ровными. Утром вскочил с постели и, не умываясь, – к окну: на подоконнике лежала палочка. Примерил ее снова и… уронил: она стала на ноготок длинней карандаша (Федор совсем забыл, что вечером он решал задачки и все заостривал карандаш зубами). Недолго думая взял топор и отхватил кончик палочки. А в школе учитель вдруг объявил, что кто-то из троих, в том числе и Федор, действительно украл ножичек. Почему он так сказал, Федору было непонятно: ведь палочка его не выросла! Но все подумали, что согрешил Федор, – он же сидел с Трофимом. С той поры Федор возненавидел и Андрея Лукича и Трофима. И до того возненавидел, что с Трофимом сидеть рядом не захотел и добровольно перешел на «камчатку», как называли крайнюю, во всю стену, парту, куда учитель в наказание отправлял самых плохих, незадачливых учеников.
Все эти детские дела давно уже, понятно, забыты. О них никогда не вспоминали ни Трофим, ни Федор. И, казалось бы, их отношения должны бы стать иными, чем в те, школьные, годы. Но получалось наоборот: росли и мужали они – росла и мужала их затаенная вражда. Последние месяцы она особенно обострилась скрытым соперничеством из-за Нади. Судя по тому, что с Трофимом дружили многие ребята, и даже Пашка Морозов, наверное, не такой уж плохой парень он, Трофим. И все-таки Федор терпеть его не мог. Трофим это знал и платил Федору тем же. Бывать в одной компании они избегали.
Вот и сейчас: Федор – за стол, а Трофим – из-за стола. Вместе с ребятами, которые жили, как и Трофим, на Хомутовской улице и сейчас отправлялись по домам, он вышел было из хаты, но через некоторое время почем у-то снова вернулся.
– Брр, ну и дьявольский мороз! – как бы оправдываясь, сказал он и, прикрыв дверь, поежился, виновато улыбнулся – Придется тебе, Феня, еще раз топить – выстудили хату.
– Ну и что ж такого, истоплю, не беда, – не унывала гостеприимная хозяйка.
Трофим потрогал свою мерлушковую папаху с малиновым верхом и серебряным, накрест, позументом – на левом виске курчавился короткий чуб – и ревниво взглянул на игроков. Потом перекинулся шутками с девушками и подошел к Наде. От его добротного полушубка, крытого сукном, повеяло морозом.
Надя игриво сжалась и отодвинулась от него подальше, в угол.
– Ух, какой холодный, не подходи! – и робкий взгляд ее мельком скользнул по Федору, тасующему карты.
Трофим перехватил этот мимолетный взгляд, и на его лицо, до этого сияющее, легли тени. Он распахнул полушубок, откинул назад полы и сел рядом с Надей.
– Какая мерзлячка! Краснощекая, а мерзнешь! – и тихонько ущипнул ее за бок.
Надя вздрогнула, взмахнула вязаньем, и под скамейкой звякнули упавшие спицы.
– Господи! – с досадой сказала она. – И чего ты все лезешь! – Из-под густых, пушистых ресниц ее неприязненно сверкнули глаза.
Трофим согнул короткую крепкую спину и, улыбаясь, угодливо зашарил рукой под скамейкой. Он долго искал иглы, по-хозяйски переставлял с места на место Надины, обутые в чесанки, ноги и, подавая спицы, заглянул ей в глаза:
– Если бы я господом был, я бы не таких натворил дел.
– Бог-то не Микишка, не дал тебе на лоб шишку, а то бы всех перепорол! – сострил Латаный и сам фыркнул над своей шуткой.
Надя молча привстала – тонкая, подобранная – и, покачнувшись, словно гибкая приречная талинка, подошла к хозяйке.
– Я, Феня, около тебя сяду.
– А чего же, садись, – Феня охотно подвинулась, – места хватит, садись. Пужливая ты, девка, стала, посмотрю я на тебя. Уж не замуж ли собираешься, честь закупаешь?
– Ну уж, замуж! – Надя вспыхнула, – Так уж и… замуж.
– Это я спроста, к слову пришлось. – Феня повела круглым плечиком. Ни двухлетнее замужество, ни вдовство не изнурили ее, и она была все такой же полной, живой, резвой, как и в девичестве. Она поправила дощечку, на которой сидела и в которую была воткнута кудель, полуобернулась к Наде и под журчанье прялки тихо заговорила.
Трудно было Наде, доверчивой, простодушной, понять, что в словах подруги, может быть, помимо доброй ее воли, к чистосердечью примешивается какой-то скрытый умысел.
– Обожди, Надя, истинный бог. Вот проклятая война эта с немцами да австрияками окончится, соберутся казаки… Вышла я сдуру, а теперь не вернешь. Он лежит там… мой Василь Ефимыч, ничего ему не надо. А ты одна тут мучайся. И хоть бы успели пожить как следует, не так досадно было бы. А то… Побыли вместе, как на постоялом дворе. Да если б я знала, нешто бы я… – Феня неожиданно всплакнула, обронила нитку. Потом утерлась передником, повздыхала, и глаза ее снова заулыбались. – Хотя, девонька, и так посудить: трудно за свою судьбу ручаться. Думаешь так, ан хлоп! – и вышло по-иному. В незамужнюю бытность я тоже думала погулять в девках, пображничать. А получилось вон совсем наоборот, шиворот-навыворот… – И Феня, подергивая козий пух из кудели, журча прялкой, подробно принялась рассказывать о том, как она случайно на мельнице встретила покойного мужа – царство ему небесное – и как он с другого хутора тайком приезжал к ней в гости.
Пашка, проигравшись вчистую, изорвал пиковую семерку, которая подвела его на самой рискованной и последней ставке, истоптал ногами клочки и, накричав на Латаного, поднялся пасмурнее тучи. Он закурил, сунул руки в карманы и зашлепал валенками, шагая из угла в угол. Федор все еще крепился – ставил, но и его кошелек уже пустел. Где-то на донышке сиротливо жалась одна рубчатая гривна; когда-то она выручала его при игре в орлянку, и расставаться с ней было жалко. Латаный снимал банк за банком: ему сегодня везло.
Трофим присоседился к бойкой курносенькой девушке Лизе Бережновой, щекоча, поталкивал ее, и та, польщенная его вниманием, неистово хохотала, запрокидывала беленькое личико. Он, казалось, был очень оживлен: посмеивался, сыпал шутками, но тень с его лица не сходила. Любезничал с Лизой, смешил ее, а сам то и дело поглядывал через прялку на скамью, где возле окна сидела Надя.
Пашке наконец надоело мерить хату, он шагнул к столу и смешал карты:
– Будя вам! Пойдем, Федор!
Надя засуетилась:
– Подождите, ребята, я вместе с вамп. – Не дослушав Фенин рассказ, она подоткнула передник, спрятала в него клубок пряжи, вязанье и побежала к сундуку за шубой.
Трофим, все время карауливший ее, заметался, бросился было к ней, но вдруг нарочно споткнулся и полез под скамью за картой: подле Нади, одевая тулуп, стоял Федор.
II
Федор шел домой уже после полуночи.
Соседский кочет, хлопнув крыльями, взял высочайшую ноту, какую только могло выдержать его кочетиное горло, но подавился морозом и сконфуженно умолк. Однако его услышали: по хутору из конца в конец покатилась перекличка. На речке гулко трещал лед, корежился и стонал в тисках мороза. Ущербный, на исходе, месяц выглянул из-за тучи, показал стесанный краешек, и высокая в палисаднике раина, что богатая невеста под венцом, блеснула нарядом.
Федор прикрыл калитку и, вспомнив про корову, которая причинала, как хозяевам казалось, зашел в катух. В ноздрях защекотало полынком и затхлым паром. Вспыхнувшая спичка на минуту осветила внутренность катуха. Лысая, в крапинах инея, корова сыто отдувалась, жевала жвачку. Увидя Федора, она недовольно мыкнула и отвернулась к плетню. «Ну и черт с тобой, лежи!» – Федор хлопнул воротами.
Неслышно ступая, вошел в хату. С печки свисали босые ноги отца; огонек цигарки освещал усы и бороду – когда старика душил кашель, он садился и курил. У трубки на полу чернела постель, – сонно посвистывал племянник Мишка. На кровати вздыхала и ворочалась сноха Настя. Ей, как видно, плохо спалось: от мужа – старшего Федорова брата, Алексея, находившегося на фронте, – уже два месяца не было письма.
– К корове наведался? – хрипло спросил отец, втягивая на печь. – А то, не дай бог, в такой мороз…
– Наведался. Она и не думает, – пробубнил Федор.
Он разделся, бросил на Мишку тулуп и, не глядя на иконы, небрежно крестясь, мотнул рукой. Улегся рядом с племянником. Долго кутался тулупом, подтыкал под себя полы – в хате уже пощипывал холодок. Полураздетый малец вскочил на колени, забормотал и забился к Федору под мышку. Тот высунул руку и одернул на его спине рубаху, натянул полу.
Едва Федор окунулся в овчинное тепло, его веки отяжелели, а в голове приятно и легко закружилось. Но вот он вспомнил, как на посиделках Трофим Абанкин ущипнул Надю, – и задвигал головой, завозился. Он то зарывался в подушку носом, то поворачивался затылком – искал удобного положения и никак не находил. На посиделках и виду не подал, что заметил это. И уже засыпая – полуявь, полусон… Когда-то в детстве, давно-давно, – может быть, десять минуло лет, а может, и больше – в цветень разнотравья они любили с Пашкой бегать на бугор, к рытвинам. По склонам оврагов отыскивали кремни, кузнечиков, а то подавались еще дальше, на выпашь, где лопушился непролазный татарник, и там с вербовыми шашками ходили в атаки. Пашкина сестра Надя – моложе ребят на два года – приставала тогда к ним, жалобно просила взять ее на бугор. Но Федор, сжимая кулаки, подбегал к ней, таращил глаза и цыкал: «Не ходи за нами, баба, привязалась! Ступай к своим куклам да лоскутам. Не твое дело воевать!» Надя хныкала, утиралась подолом рубахи, обнажая загорелые, в цыпках, икры. А ребята, мелькая вихрами и пятками, во весь дух неслись к канаве, ныряли в лебеду.
Но это было давно, в далеком, чуть памятном детстве. А сейчас Федор – легкий, почти невесомый – шел рядом с Надей, прижимался к ее плечу. Узкая травянистая дорожка вилась меж низкорослых поддубков, терялась в сизом мареве осинника. Над головою шелестели ветки, хлестали Федора по лицу, но боли он не чувствовал. Куда они шли, зачем, Федор и сам не знал. Да он и знать этого не хотел. Обветренными пальцами касался Надиной ладони, говорил ей что-то тихо, ласково, но слов своих не слышал. Надя, вытягиваясь в струнку, подпрыгивала на носках, срывала листки и бросала их под ноги. Федор, обходя пень, близко заглянул в ее лицо, и ему показалось, что она тайно чему-то улыбалась. Так шли они долго, выпугивая из кустов перепелок, пока не вышли на берег озера. Надя свесилась над обрывом, взглянула на крылатые, под цвет молока кувшинки и хотела повернуть обратно. Но Федор поймал ее за руки, притянул к себе. Она засмеялась и оттолкнула его. Тогда он порывисто обнял ее и прижался губами к ее тугой горячей щеке…
Проснулся он от Мишкиных толчков.
– Федька, Федька, ну чего ты… удушишь! Федька!
Федор с трудом раскрыл глаза, поднял голову. Через запушенные окна сочился хмурый, невеселый рассвет. В печке щелкали дрова, и розовые угольки летели во все стороны. У загнетка суетилась Настя. Потревоженный кот потянулся на подушке, зевнул и запутался лапами в Федоровом чубе. Под полой в объятиях Федора пыхтел и копошился Мишка.
– Пусти! – пищал он. – Ну чего ты! – и, крутя стриженой головой, старался высвободить ее из-под душившей его руки.
Федор отчужденным взглядом – как бы ища чего-то и не узнавая Мишку – повел вокруг себя, шевельнул бровями и оттолкнул племянника.
– Ну чего дерё-ёсси!
Федор лег на спину, подложил под затылок руки и неподвижным, задумчивым взглядом уставился в смолистый сучок на потолке. Мишка спугнул кота, уселся на подушке и, забыв про обиду, залопотал над ухом. Каждое утро, как только просыпались, они начинали рассказывать друг другу сны. На этот раз Федор рассеянно выслушал Мишку – а может, и совсем не слушал – и отвернулся.
– Теперь ты рассказывай.
Федор зевнул.
– Да мне, паря, нечего рассказывать, я ничего не видал.
– Ну-у, так уж и ничего? – недоверчиво протянул Мишка.
– Ничего, паря, не приставай.
Мишка щелкнул ластившегося кота, сполз с подушки и, косясь на Федора, строго, баском спросил:
– А провожать нас с Санькой пойдешь?
– Куда провожать?
– Ды рождество славить, куда!
– А-а, пойду, как же.
В хату вошел Федоров отец – Матвей Семенович. На вороной бороде его и усах висели сосульки. По утрам скотину убирал он сам – жалел Федора: был и он молодым в свое время, знает. Настя вынула из печки дымящийся чугун, и хата наполнилась запахом вареной картошки. Мишка поймал кота за хвост, потянул его к себе, и тот заорал благим матом.
– Будет вам! Вставайте! – сказала Настя. – Вставайте, а то картошка остынет!
…После завтрака, когда Мишка убежал в школу, а Настя ушла к соседям за хмелинами, Федор малость потолковал с отцом о всяких хозяйственных делах, о своей вчерашней неудачливой охоте и, глядя куда-то в окно, слегка краснея, круто повернул разговор:
– Скоро, батя, мясоед подойдет, пустяки остались, – сказал он так, словно бы тот не знал об этом. – Свадебный сезон на носу. Из моих друзьев-товарищей кое-кто о прошлый год окрутились. Я отстал от них. Мой черед, должно, в этом году будет. Я тоже не хочу бобылем быть.
Матвей Семенович слушал, шевеля усами и ковыряя шилом валенок – клал новую подметку. Такой разговор для него был – что снег на лысину. Правда, он не забывал, что года сына жениховские и что сам он в такой поре был уже окручен. Но до женитьбы ли теперь, если войне и конца-краю не видать, а через каких-нибудь год-полтора Федора заберут на службу! Мало ли сирот бегает по улицам! Да и старшак его Алексей принесет ли домой голову, бог его знает. Боясь обидеть сына – они между собой никогда не ругались, – Матвей Семенович пожевал губами, поворошил седой клок на затылке.
– Не вовремя, сынок, ты затеял разговор, право слово; ох, как не вовремя! – И старик тяжело вздохнул. – Я не супротив того. Нешто ж я… Но ты подумай хорошенько. Твои односумья не все ведь поженились. Пашка Морозов, Трошка Абанкин… Да и мало ли ребят в холостяках ходят. Война, она… Кто его знает, как дело взыграет.
– Она, эта война, может, еще десять лет протянется.
– Да эт-то так, но ведь… Хочется хорошего, а не плохого. Опять же что касаемо справы. Худо-бедно, а меньше полста целковых на кладку никак нельзя – это при самых сговорчивых сватах. А там – попу пятерик, а то и всю красную, водка. Одной катеринкой и не отмахнешься. А имение наше – сам знаешь. А тут что ни видишь, и конь тебе потребуется. Время – оно не ждет.
Федор упрямо стоял на своем:
– Мы шиковать не будем, как-нибудь вывернемся. Нам палат не наживать. Нечего там! Недельки через две, в общем, засылай, батя, сватов.
– К кому же засылать-то? – помолчав, спросил Матвей Семенович.
– К Морозовым. К Андрею Иванычу.
– К кому-у? – изумился старик.
– К Андрею Иванычу, за Надю, – И вспылил: – Что ж ты, не знаешь, что ли!
Матвей Семенович всем телом медленно повернулся на табуретке, пытливо взглянул на сына: не шутит ли, мол, он? Тот, крутя в пальцах расческу, стоял к нему спиной, напряженно всматривался в окно, хотя на улице, кроме гусей на сугробе, ничего не было видно.
– Ты… что, Федор? – расставляя слова и сердясь, начал старик. – Аль ты на свет только народился? Хм! Ну и чудишь ты, гляжу я! Неужели не знаешь этого Андрея Иваныча? Да нешто ж он отдаст к нам? Ни в жисть не отдаст. Никогда этого дела не будет. Как-то мы со схода вместе шли – на покров, кажись. Ну и разгутарились о том о сем. Он мне и похвалился: дескать, дочка-то у меня какая – и в года как следует не вошла, а от женихов отбоя нет. Вроде с Черной речки сваты прибивались – своя мельница, вечный участок. Но я, мол, подожду. Торопиться некуда. Не такого женишка ей подберу. Нет, нет, Федор, об этом и думать забудь. Уж кого-кого, а этого «Милушку» – Андрея Иваныча я вдоль и поперек знаю. Он ждет сватов с большими капиталами, даром что у самого в сусеках лишь тараканы пасутся. Я давно чую, куда нос у него затесан. Он не говевши хочет просвиру слопать. А Надька, что ж? Она, конечно, девка видная, всем взяла. Но только к нам он не отдаст, нечего попусту…
Над бровью у Федора запрыгала синенькая жилка, а смуглое лицо его потемнело еще больше.
– Ну, хватит, батя, понятно! – мрачно перебил он, и голос его был дребезжаще сух. – Все, в общем, понятно… Я так и знал, что ты это скажешь. Вы с Андреем Иванычем… как вам угодно, а мы, может, сами как-нибудь.
– Как то ись? – Матвей Семенович заморгал подслеповатыми глазами. – Ты чего-то того, чудное гутаришь. Совсем чудное.
Федор, обнаружив в руке расческу, машинально провел ею по волосам. Она слабо хрустнула и переломилась. За воротник упали выкрошенные зубцы.
– А-а, черт, дрянь такая! – выругался Федор и швырнул обломки к порогу.
– Чудное, мол, ты чего-то гутаришь, – добивался Матвей Семенович. – Никак то ись в толк не возьму.
– Да так… как-нибудь. Чего-нибудь придумаем.
Старик, крутя и осматривая со всех сторон валенок, долго кряхтел, покашливал.
– Ты вот что, Федор, вот! – заговорил он уже строго. – Ты в пузырь-то не лезь, не к чему. А то вы – молодые да необъезженные… Как раз настряпаете делов – стыдно на люди показаться будет. Такие штучки одним махом не делаются. Уж ежели на то пошло, я повстречаю Андрея Иваныча и закину удочку, спытаю. А посылать сватов ни с того ни с сего я не рискну. Как можно! Обожди немного. Тогда скажу. Пойди вон катух почисть. Одна и есть корова, да и к той не влезешь. Соломки побольше постели. Холода взялись такие, что…
Федор сорвал с гвоздя полушубок и вышел.








