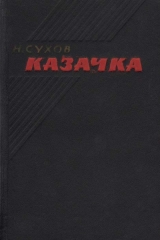
Текст книги "Казачка"
Автор книги: Николай Сухов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 41 страниц)
– А моя денежка щербата разве? – весело сказала она. – Всем так всем стряпать!
Сняла с плиты конфорку, поставила сковороду. В печурке скоро забушевало пламя, и сало зашипело. Продолговатые кусочки, уменьшаясь в объеме, начали румяниться и побрызгивать. Надя переворачивала их ножом, поглядывала поочередно то на старика, который, свесив над столом бороду, молодой ухваткой кромсал хлеб большими ломтями; то на Алексея – с широким расшитым полотенцем через плечо, он, шевеля усами с бурыми острыми кончиками, старательно перетирал и без того чистые рюмки и чайную посуду; то на чмокавшего, наслаждаясь гостинцами, Мишку, все прижимавшегося к дяде. Федор теперь орудовал кочергой, щурился и откидывал назад голову, отстраняясь подальше от пышущей жаром печурки. Надя поглядывала на всех Парамоновых, слушала, как в горнице тихо переливался голос Насти, разговаривавшей со своей трехдневной дочуркой, и на душе ее, еще недавно омраченной тревогой за встречу с новой семьей, было светло и радостно.
III
Споры за власть между председателем хуторского ревкома и атаманом не унимались. Сходились они, инвалид войны Федюнин и старик Бочкарев, в морозовской нетопленной горнице, в правлении, и целыми днями занимались перепалкой. Иной раз сдержанно, внятной человеческой речью, даже вместе из одного чьего-нибудь кисета закуривая, а чаще все – одними междометиями и потрясая при этом кулаками. Председатель все еще питал надежду на словах доказать свою правоту и убедить несогласных; надеялся, что атаман поймет-таки все же, что песня его уже спета и что ему остается одно: отойти в сторонку и слушать других.
Покрикивал на него Федюнин теперь уже смелее, так как ревком стал несколько крепче: в хуторе еще появились поддерживавшие его фронтовики – Федор Парамонов, Латаный и другие, недавно вернувшиеся под родные крыши. Но все же прийти к какому-то соглашению они никак не могли. В конце концов договорились спор свой перенести на хуторский круг. Что, мол, круг скажет – и закон будет. При этом и атаман и председатель ревкома имели всяк свои виды.
Атаман рассчитывал таким путем раз навсегда отделаться от «самозванца»: уж он-то знал, кто являлся хозяином круга. Федюнин же, в свою очередь, был уверен, что просто поднятием рук, голосованием он введет новые, советские порядки: ведь хуторян, тянувшихся к этим новым порядкам, – большинство, конечно. Кое-кто из фронтовиков, в особенности Федор Парамонов, отговаривали Федюнина от этого, предлагали по-иному устранить двоевластие, но тот настоял на своем.
Пришли на круг, на сход и недавние служивые, и старики, и некоторые женщины, такие, как буйная Баба-казак – под стать по нраву своему супругу, многодетная вдова Варвара Пропаснова, Феня Парсанова, еще более растолстевшая за последнее время и округлившаяся, – сам дед Парсан прихворнул как раз и не захотел слезать с печи. Из семьи Абанкиных были: хозяин, Петр Васильевич, начавший как будто уже немножко пригибаться к земле, ветшать, – во всяком случае, дородная фигура его теперь не казалась такой подчеркнуто прямой, словно на параде, его старший сын Сергей, офицер, так-таки никуда и не уехавший. Памоновых тоже двое: Алексей, которому короткий арест тогда, осенью, по мокроусовскому делу пошел только на пользу, так как вновь отправить в полк, снятый с фронта Калединым для охраны области, его уже не успели; и Федор, посвежевший на домашних харчах, по-военному подтянутый. Пришел по-прежнему дерзкий, с той же хитрецой в прищуре жуковых глаз Артем Коваленко; культяпый старик Фирсов; Игнат Морозов – родной Надин дядя; медвежковатый силач Моисеев; Латаный…
Словом, горница у Андрея Ивановича, пожалуй, никогда не видывала такого скопления народа. Хуторяне, не вмещаясь в одной комнате, топтались и в хате, за открытой внутренней дверью, и на крыльце.
Вел сход атаман. В его старческой, покрытой сетью жил руке время от времени позвякивал колокольчик. Федюнин перед открытием попробовал было оспорить это право – вести сход, но домовитые бородачи, занявшие скамьи поближе к столу, хором загорланили, что-де яйца курицу не учат и не в казачьем обычае молодым помыкать стариками, а он, мол, еще молокосос перед атаманом. И Федюнин смирился. Сказать что-либо поперек, воспротивиться этому исконному порядку у него решимости не хватило.
Весь напруженный, нервно мигая жидкими белесыми ресницами, он сидел рядышком с атаманом за столом. И когда выступавшие – одни робко, откуда-нибудь из угла, с места, другие уверенно, протискиваясь к столу, – высказывались, сменяя один другого, его худое, слегка меченное оспой лицо то хмурилось, то прояснялось, в зависимости от того, слушал ли он противника или друга.
Петр Васильевич Абанкин, вопреки всегдашней манере опаздывать, пожаловал на этот сход пораньше. Встретил в людской толчее, в сутолоке атамана, протянул ему короткопалую руку и, раздваивая другой рукой бороду, осведомился у него, атамана, хотя от людей знал об этом и ранее:
– Что, знычт то ни токма, вы, затейщики, удумали?
Вопрос его прозвучал строго, и атаман, поняв так, что он, Абанкин, собранием недоволен, постарался его задобрить. Пряча усмешку, косясь выцветшими, глубоко посаженными глазами на Федюнина, окруженного фронтовиками, шепнул:
– Да ведь галдят вот эти… ревкомовцы, прохода не дают. Но я, Петро Васильич… ничего… я эту музыку на пшик сведу, вот посмотришь. Обделаю – приходи, кума, косоротиться!
Он так действительно собрание и вел. Тем, кто был из «своих», давал слово без очереди и рьяно опекал их выступления: если кто-нибудь выкриками с места пытался помешать, строго цыкал, наводя порядок. А когда волей-неволей все же приходилось выпускать «чужих», он, под тем же предлогом наведения порядка, начинал всячески мешать, неистово бренчал колокольчиком.
Присяжные говоруны из «народной дружины» выступили по одному разу, затем по другому, твердя все одно и то же: что-де советская власть для них, казаков, – вовсе не подходящее дело, что она, эта большевистская власть, может быть, и ничего, на руку фабричным и заводским, кто «пролетай», у кого ни кола ни двора, зипун – весь пожиток, а казакам совсем ни к чему.
Участников круга, настаивавших на немедленном переходе на советские законы, наконец стало заедать это.
Артем Коваленко пыхтел, сцепив мохнатые брови, и кольца его украинских, спускавшихся к подбородку усов подергивались. В который уже раз он порывался выступить:
– Мабуть, атаман, дай скажу!.. Ну же, атаман, мне слово!.. Цур тебе, пек, мой черед!
Но атаман только скользнет по нему ненавидящим взглядом, насупится и отвернет нос.
В дверях, зажатая со всех сторон, что в тисках, нетерпеливо ворочалась вдова Пропаснова. Шерстяной муругий платок ее, который, нужно полагать, был когда-то не такой неприглядной окраски, сполз на плечи. Она, до времени состарившаяся, слушала присяжных, возмущенно поджимала губы, отчего еще больше делалась похожей на старуху, и мрачным, безнадежным голосом у кого-то все допытывалась:
– Опять, выходит, землю – на паи? А бабам и детишкам опять не надо? Они их, сирот, кормить будут – у кого паи?
…Был такой порядок: земельный надел, пай, имел только мужчина, казак. Когда молодому казаку исполнялось семнадцать лет, ему из хуторского юрта – общинной земли – выделялся надел. Потом, будь он, этот казак, хоть одинок, как шиш, хоть семеро по лавкам у него бегай, – все равно он пользовался одним паем. Жена и дети в расчет не принимались.
Очередной говорун из атамановского лагеря начал уже, нудно и подолгу мыча, дословно повторять то, что до него было сказано другими, и это стало невмоготу. Федор Парамонов, стоявший рядом с братом у дальнего от стола окна, приподнялся над гудящей толпой, опершись коленом о мокрый подоконник, а руками – о плечо брата, и сердито закричал, прерывая нудного говоруна:
– Хватит нам тут пустобрехов!.. Довольно!.. Наслушались!.. В России уже полгода советская власть, а мы начинаем тут… Умники какие! Подходит она, советская власть, для нас или не подходит… Хватит наводить тень на плетень! Так этим умникам и скажем: добром ревкому не подчинитесь – заставим худом. Вот и все.
Тогда в третий раз и опять без очереди выступил офицер Абанкин. Скрывая раздражение, хотя это и плохо ему удавалось, – табачные, по-английски стриженные усы его все время как-то кривились, – он сказал, намекая на Федора, что вот есть-де в нашем хуторе молодые люди… именно молодые, еще необломанные, которые никак не могут отделаться от фронтовой эпидемии, именуемой большевизмом. А пора бы! Давно бы уже пора это сделать. Разевают зев: «Долой!», «Да здравствует!..» А что к чему – им и невдомек. Советская власть ведь еще далеко не во всей России. И, главное, никогда ее во всей России не будет. Большевикам удалось захватить только центральные области. И то ненадолго. Вот что ни видишь… и так далее.
Абанкин окончил свою речь, высокомерно, вприщур взглянул на Федора и, принимая как должное шумное одобрение передних рядов, не отвечая на насмешки задних, горделиво отодвинулся от стола.
И тогда атаман по личному усмотрению поставил вопрос на голосование.
Разгневанный Федюнин вскочил, опрокинув табуретку, и начал доказывать, что это неправильно, что голосовать пока нельзя, рано, так как многие еще не выступали, даже он, председатель ревкома, и то еще не высказался.
Атаман, поморщившись, стал к нему вполуоборот и спокойно принялся за свое. Он обращался только к бородачам, тем самым надежным, николаевским, что занимали скамьи поближе к столу.
– Господа старики!.. Господа старики, как, значится, мы будем? – запел он, ехидствуя. – Принимаем советскую власть али как? Поднимай руку – кому, стало быть, приспичило…
В комнате поднялся страшный шум, гвалт, и голос атамана затерялся. Сидевшие впереди, одетые большей частью в развернутые, густо пахнувшие квасами дубленые тулупы, зашевелились, скрипя скамьями; те, что стояли в дальних углах – в полушубках, мундирах и шинелях – придвинулись к передним вплотную. Загомонили все разом – кто приветствовал, кто негодовал, – и вряд ли каждый слышал самого себя. Над головами людей, над треухами, теплыми платками и папахами, под самым потолком, где колыхалось облако табачного дыма, замаячили поднятые руки. И чем ни дальше от стола, тем – гуще.
Атаман глянул и побагровел. Даже маленькие, плотно прижатые уши его сделались по цвету вровень с бордовым верхом папахи, стоявшей, блестя позументом, перед ним на столе. Изо всех сил он принялся названивать колокольчиком. Особенно в исступление привело его то, что даже иногородние и бабы, которые раньше на сходках не имели права бывать, а если и допускались, то лишь немыми свидетелями, – и те выставили руки.
– Тише, тише, сколготились, черти б вас!.. Вожжина под хвост попала! – атаман, надрываясь, силился перекричать всех, и ковыльная в завитках борода его тряслась. – Вы что, хохлы, лезете, как оса в глаза! К едреной матери от нашей божьей матери: купи себе да молись! А вы, бабье, что распинаетесь? То-то, прости господи, обидел-таки он вас… Так как же, господа старики, принимаем али как советскую власть?
– Все, все поднимай! Выше! Теперь равноправие. До единого! – Федюнин, подпрыгивая на здоровой ноге, показывая атаману кукиш, болтал сучковатым кулаком перед его круглым в рытвинах носом.
Гвалт взметнулся опять. И опять к сосновому тесу потолка потянулись руки. Из пестрого сплошного гула, прорезаемого чьими-то октавистыми басами, вырывались резкие женские вскрики: Баба-казак публично отчитывала атамана за его насмешку над «бабьем», а заодно и всех «снохачей», и, видно, довольно непристойными словами, – Моисеев, стоявший с нею рядом, все время ржал, смущенно бубня:
– Волки тя ешь, ну и ну… язычок! Ниже пяток пришить надо! Ну, будя, будя, слухать стыдно!
Всегда выходило как-то так, что на сходках Моисеев попадал рядом с Бабой-казак и только с нею и вступал в пререкания. Это, пожалуй, и не удивительно, ежели учесть, что никогда он не лез вперед, в почетный ряд, а слушал издали, что скажут другие, да поддакивал.
– Повадились рты нам затыкать, горлопаны! Не-ет, отошло то время! Теперь не заткнете! Это вам не царский прижим! – все пуще вскрикивала Баба-казак, превращая непонятное слово «режим» в понятное «прижим», и огромные навыкате глаза ее зло сверкали – Вон Надя Морозова говорит…
– Она, волки тя ешь, не Морозова – Абанкина, – поправил ее Моисеев и воровато, с опаской посмотрел, изогнув бычью шею, в сторону Федора Парамонова.
– Ее не поймешь без водки, чья она, – прогудел еще кто-то.
– Брешешь, поймешь! И не Абанкина совсем! Чихала она на этих! Была бы Абанкина, что и говорить… А теперь вот дулю им! На-ка, выкуси!
Перебранка эта, приглушенная общим гомоном, до стола доносилась невнятно и потому, должно быть, атамана не волновала. Он яростно, но уже и растерянно, смотрел сквозь евший глаза дым на бесновавшуюся толпу, и колокольчик в его руке дребезжал все пронзительней.
– Тише, тише, осатанели, проклятые! О, о, возьми их!.. Да тише, говорю! – атаман хрипел. – Господа старики! Господа старики, так как, стало быть, мы будем? Принимаем али как большевицкую?..
– Черт ей рад, этой…
– Пускай милушки… себе ее возьмут!
– Нам, знычт то ни токма, она пока без надобности!
– Рано пташечка запела…
– Звестное дело!
Передние скамьи лютовали, и гомон в комнате не только не унимался, но все возрастал, так как из задних рядов в ответ язвительно неслось:
– Тебе бы еще, знычт, она понадобилась!
– Во-во, как раз о таких-то она, советская власть, и ломает голову, ночи не спит!
– До вечера, мабуть, голосовать будем?
– Что, Федюнин, мух там ноздрями ловишь!
А между тем поднятые руки все торчали. Но чья-то рука, маячившая перед тем выше всех, большая, узловатая, в заметных издали трещинах, уже накренилась, – как видно, от устали. Рядом чья-то маленькая, скорее всего женская, со светлым колечком на безымянном пальце, опустилась совсем.
А атаман, решивший, очевидно, взять свое измором, все помахивал колокольчиком – динь-динь-динь – и продолжал вопрошать:
– Господа старики!.. Господа!.. Да закройте двери, что вам – лето, Петровки? Так вот, значится, старики, принимаем али…
– Да принимаем, так-перетак! – вырвалось у Федюнина истошно. – До коих же ты будешь народ мордовать!
Вдруг он, дрожа от подступившей злобы, бледный, весь какой-то ощетинившийся, посунулся к атаману и, размахнувшись, заехал ему сучковатым кулаком в ухо.
Это сделано было так внезапно, что атаман на минуту даже опешил. Выпучил бессмысленные глаза, кивнув лысой головой в редких, торчмя стоявших на плешине волосках, и колокольчик выронил. Тот звякнул где-то под ногами. Но вот он, атаман, образумился и с каким-то утробным урчанием ринулся на Федюнина.
Тут уж пошло несусветное. Хуторяне – солидные по возрасту и молодые, почтенные хозяева и вечные бедняки и те, кто стоял и кто сидел до этого, – сбились в тесную кучу, сгрудились и, отжимая друг друга, а то и просто подминая, всем скопом полезли к столу, к сцепившимся в драке вожакам собрания.
А Федюнин ожесточился не на шутку. Та, внушаемая с детских лет мораль: почитай старших, что заговорила в нем при открытии схода, уступила место другой: за правое дело стой смело. Вытянув худую кадыкастую, только что побритую, с порезами, шею, он налетал на атамана то справа, то слева, и деревяшка его, напоминавшая огромную, обрубленную с тонкого конца редьку, болталась – лопнул ремень.
Атаман защищался. Но как ни лез он из кожи, а выдержать такого напора не мог. И он, выставив жилистые руки, вихляясь всем корпусом, пятился в угол, к шкафу с делами хуторского правления.
А Федюнин, наседая, все норовил поймать его за длиннющую ковыльную бороду.
Но только что он сделал это, только что он, прижав атамана к шкафу, с остервенением запустил в его жесткие завитки растопыренные пальцы – у атамана и глаза посоловели, закатились желтоватыми зрачками под лоб, – офицер Абанкин обхватил Федюнина сзади и, кряхтя, вполголоса матерясь, стал заламывать ему за спину руки.
– А-а, босяк! А-а, сволочь! – шипел он, и над белой полоской его крахмального воротничка вздувались вены.
Инвалид всем телом дергался, бился, пытаясь освободиться от ненавистной обнимки, старался выскочить из своего распахнутого, поношенного кожуха, и с полотняно-белых губ его рвалась дикая брань.
Атаман, придя в себя, пощупал дрожащими руками бороду, приосанился и старческим, но довольно еще крепеньким кулаком ударил Федюнина по лицу. У того на губах и остром подбородке сразу же зарозовела кровь, набегавшая из ноздрей. Атаман замахнулся еще раз, но офицер, подставив инвалиду ногу в лакированном, с калошей сапоге, толкнул его, и тот рухнул навзничь, уткнувшись вскосмаченной головой в дверцу шкафа.
В это время сюда, к столу, на помощь председателю ревкома подоспел Парамонов Федор. Он лез сюда буквально по головам хуторян, стукая подшитыми валенками по их затылкам и наступая им на плечи. Через стол перемахнул прыжком со спины великана Фирсова. Тот, будучи прижат к столу, тщетно пробовал сдержать натиск толпы, выгибался коромыслом.
Федор насел на раскрасневшегося, пахнувшего духами офицера. Стянул его с барахтающегося инвалида и коротким тычком кулака посадил на холеном лице его синюю, под глазом, кляксу. Офицер вскочил с перекошенным от ярости и обезображенным подтеком лицом, сунул руку в свой брючный, заметно оттопыренный карман; Федор, догадываясь, стиснул ему локоть, не давая вытащить из кармана руку.
И тут их обоих – и Федора и офицера – медлительной, но нещадной хваткой поймал за шиворот Моисеев и со своими всегдашними, неизменными приговорками начал их расталкивать – разнимать.
А по другую сторону стола, многорукая и многоголовая, копошилась куча. Люди, спотыкаясь через подмятых, топча их валенками, лезли вперед, хватали друг друга за овчинные воротники и полы, тащили. Кое-где мелькали кулаки. Кто-то кого-то под шумок дубасил, кто-то кого-то разнимал.
Сквозь глухие, похожие на рычание звуки, сопение и пыхтение слышно было, как хрустели и дребезжали стекла двойных оконных рам, трещали скамьи, швы одежды и отчаянно взвизгивали женщины, которые пытались вырваться из этой свалки и никак не могли…
IV
Наутро Андрей Иванович стоял посреди горницы, где было холодно, как во дворе, и, с хрипом вздыхая, угрюмо, исподлобья осматривался. Пакостно было в комнате, пакостно было и на душе у Андрея Ивановича. Надоумил же его сатана пустить на квартиру этот проклятый содом! Позарился на жалкие гроши, что из хуторских денег платил ему атаман. Что ни толкуй, а жизнь все-таки обидела его, обделила. И люди забыли. Никому, в сущности, до него дела нет. Все изуродовали, побили, поломали – и разошлись. Волосы на себе рви, волком вой – все то же будет.
Своя непутевая дочь – и та забыла его. Еще ни разу, как вернулась в хутор, не наведалась к нему. Братнина коня и то не соизволила привести отцу: подговорила это сделать деверя, Алексея. Хоть бы поздороваться-то зашла! А ведь поил, кормил, в люди хотел вывести…
Да и сын, Пашка, тоже хорош! За всю зиму не удосужился написать о себе, известить: где он, что делает, здоров ли? Одногодки его давно уже дома, кто цел остался, а его ровно бы там на аркан где-то посадили.
Андрей Иванович передернул плечами, сгорбился: в окнах, на которые было тяжко смотреть – нижние и средние стекла были выдавлены вчистую, – свистел пронизывающий февральский ветер, захлестывал в комнату крупой. У крашеного, в свежих царапинах шкафа, за опрокинутым столом белел снеговой холмик, выросший за ночь. На грязном полу он белел особенно, подчеркивая мерзость комнаты. Между сломанными скамьями валялись клочки шерсти, пуховые, с разных рук, перчатки, полуизношенная подшивка валенка. Валялись и растерзанные, затоптанные прокламации, объявления.
Обрывок калединского воззвания, державшийся на обшарпанной стене уголком, тоскливо шуршал, когда в комнату врывался ветер, трепыхался. Мелькала ощипанная строка самой крупной печати: «Донс… ман… ал…» Андрей Иванович долго и как бы с недоумением глядел на этот серый, жалкий, трепыхавшийся лоскуток, на мутную в переднем углу, под потолком, икону старинного письма, – кажется, единственно нетронутую здесь вещь, – и упал на колени.
– Господи!.. Милушка!.. Господи! – громко, но неуверенно, с каким-то надрывным завыванием запричитал он, не сводя слезящихся глаз с иконы. – Ниспошли нам милость, избавь и защити. Ведь ты же видишь, ты же слышишь… Что же ты, господи, не покараешь… громом что же не тарарахнешь по этому проклятущему ревкому!
И мысленно господнюю кару призывал он в первую очередь на своего непризнанного зятя Федора Парамонова, по чьей вине, как он думал, на него и свалились все незадачи в жизни и кто, по мнению старика, был в ревкоме из молодых, да ранний.
* * *
А Федор в этот день несколькими часами позже тоже вспоминал Андрея Ивановича. Только по-другому. Идя к постовалам за Надиными, уже не нужными теперь, в конце зимы, валенками, он нагнал в улице Федюнина с оплывшим лицом и, улыбаясь, продолжая вчерашний незаконченный разговор с ним, сказал полушутя, полусерьезно:
– Ну, так как все же, Семен Яковлевич? Чем с моим тестем будем расплачиваться? За окна-то? Черепками?.. Что? Атаман пускай платит? Да это так. Казенные деньги у него, конечно. Но он скажет: ты начинал – ты и плати. Еще иск предъявит ревкому… за бороду, что выдернул у него. И за то, что поправил тебя, председателя, на своих хлебах. Ты ведь вон как пополнел, что бык на майском отгуле. В зеркало, брат, не посмотрелся, не порадовался на себя? – И внезапно посуровел – Не послушал меня, сделал по-своему: «Большинством рук решим – и шабаш». Вот большинством и решили. Нет, как хочешь, а торговля тут – вещь неподходящая. Все равно не сойдемся в цене, не сторгуемся. И нечего попусту… С этими заклятыми врагами… Да с ними разве… С ними только вот так!.. – Федор поднес руку к своему обмотанному шарфом горлу и выразительным жестом закончил мысль. – Ты куда скачешь-то?
– А, видать, туда же, куда и ты. Вместе пойдем, – сказал Федюнин и сбоку хитро посмотрел на Федора, спеша и оступаясь, все заметней кренясь на свою вербовую с новыми ремнями ногу, которая в мокром снегу все время проваливалась, оставляя позади глубокие, наполнявшиеся водой ямки.
Федор, сдерживая шаг, стараясь идти рядом, удивился:
– Откуда ты знаешь, куда я иду? Вот так Соломон!
– А разве не к Морозовым? Не к Пашке? – в свою очередь, удивился Федюнин и, видя, что Федор выпялил на него глаза, пояснил – Вот тебе раз! Я чужой человек и то уже знаю, а он – родня как никак, шурьяк…
Оказывается, к Федюниным недавно забегала Феня Парсанова и, захлебываясь, тораторя, суматошно рассказала, как она видела нового служивого, Пашку Морозова, «толички» подходившего ко двору; и как он, шутник, здороваясь с ней, облапил ее, худой, длинный, провонявший табачищем, и расцеловал. «Ей-правушки, насилу вырвалась!»
– Ну, Фене-то от нового служивого, положим, больше ничего и не надо, – с чужой на пухлом лице усмешкой, подрожав ресницами, сказал Федюнин, – а нам маловато. Пойдем-ка скорей! Поди новья привез – куль-восьмерик. Нашего полку прибыло. Живем!
Федор остановился. С минуту еще таращил на Федюнина глаза, как бы не доверяя ему. Потом повернул назад, что-то забурчав, и, забывая о валенках и постовалах, чуть не бегом – домой.
– Хромай, хромай! – оглянувшись, издали крикнул он топтавшемуся на месте Федюнину. – Не жди. Мы с Надей… вот скажу ей… Мы с ней одним духом, следом. Хромай!








