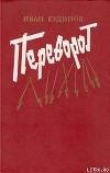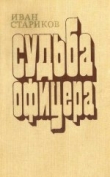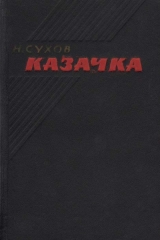
Текст книги "Казачка"
Автор книги: Николай Сухов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 41 страниц)
– Нет уж, сестра, пускай ее сатаны на том свете перешивают! – Остренькое лицо казака внезапно ожесточилось. – И сапоги тоже. Как же! Дали обмундирование и хотят, чтоб нам на всю жизнь хватило. Я уж и помнить забыл, когда я получал эти лохмотья. – Он приподнял просеченную полу, воткнул палец в дыру и потряс полой. – Да у меня еще ничего, прикрыться можно… от солнца. Подола хотя нет, но на плечах держится. А у других и с плеч сползает. Вот муженек твой Федор Матвеич расстарается тогда и пощеголяем. Они ведь там, в комитете, никак стараются насчет обмундирования.
– Они давно стараются, да только проку-то… Их все завтраками интендантство кормит.
– Черти б так кормили этих интендателей, как они нас. Заставить бы их самих!.. Так как же, сестра? Замалюй мне, а то я трошки того… поспешаю.
Надя сбросила с себя шинель, вымыла руки и взялась за санитарную сумку.
Последние дни к Наде то и дело приходили служивые – то синяк, то рубец, то ссадина на лице. Эти случаи особенно участились после того, как в Вознесенске разгромили спирто-водочный завод. Вызванные казаки, вместо того чтобы охранять завод, сами под шумок тащили ящики с полбутылками – в каждом ящике ведерко сорокаградусной – и тайком распивали по квартирам. Приходили служивые к Наде не потому, что на них вдруг напала охота к лечению. Нет, они просто с изуродованными лицами боялись попадаться на глаза офицерам.
С того времени, как верховным главнокомандующим назначен был генерал Корнилов, офицеры опять стали прижимать и жучить служивых по старинушке. Радости в военно-полевых судах, воскрешенных Корниловым, маловато! Правда, есть слухи, что верховного уже спихнули. И за то якобы спихнули, что он попытался было прихлопнуть Временное правительство с самим Александром Четвертым, то бишь Керенским, и забрать власть. Но официально об этом пока не объявляли.
Жучить-то казаков начальники жучили, а кормить их по-людски, одевать, обувать, снабжать фуражом не думали. А ежели и думали, так думки их на плечи вместо шинели не натянешь и за обедом вместо мяса или пшенной каши не съешь. Нужда подпирала, и казаки сплошь да рядом промышляли сами кто чем горазд: кто выпросит, а кто и выкрадет. Отсюда неприятности: нынче одна, завтра другая. А кому это по нутру? Не по доброй же воле – нужда гонит. Обозлится казак на жизнь и хлебнет с горя.
А уж коли хлебнул он, да еще с голодухи, через край, ну, пиши пропало – начинается драка. А вчера один служивый за малым не угробил сотенного коваля. Выпивали вместе, и, когда оба уже навеселе были, служивому почему-то взбрело в голову, что конь у него подкован плохо. «Ты чего же так куешь, такой-сякой, – вдруг начал он придираться к ковалю, – у моего Адама на задней правой подкова хлопает. Вот хлопну тебя по уху!» Развернулся – и раз коваля по затылку. Тот – за шашку. Служивый – опрометью в дверь, на улицу. Коваль с шашкой за ним. Служивый добежал до квартиры – через улицу, напротив, – вскочил в окно и ну из винтовки строчить по ковалю. Хорошо, что хоть пьян был уже настолько, что руки и глаза ему повиновались слабо. Хозяйскую свинью только попортил: запустил ей в окорок пулю.
…В сумерках к Наде заглянула Галина Григорьевна. Она слышала, что Надю постигло большое горе, знала и о том, что Федор сейчас в отъезде. Галина пригласила Надю на часок погулять вместе с нею, и Надя согласилась.
Они шли по сырой затуманенной улице Натягаловки, что вела в Вознесенск, – улице, где квартировала третья сотня, и Галина без умолку рассказывала о том о сем. Густая хмарь вечера была тускло прорешечена огнями; вдалеке, у спирто-водочного завода, мерцали фонари. Во дворах кое-где слышались казачьи споры, смех, доносились песни. Явственней всего слышна была песня, что вели в четыре голоса, неторопливо, с чувством. Всяк голос был со своей расцветкой, и в какие бы ступенчатые низины и высоты они ни заходили, как бы ни ускоряли и ни сдерживали бег песни, ни один ни разу не потерялся и не сбился. Певцам, видно, много пришлось хлебнуть горячего из общей манерки, чтобы в такой трогательной покоряющей слаженности зазвучали их голоса. И они звучали, хватая людей за сердца, ошпаривая отчаянием и гнетущей безысходностью. Начинал песню баритон, чуть разбитый, но сильный и гибкий, и тут же вместе со скорбящими басами взметывался тенор. Чистейший и горячий, он взметывался, дрожал, извивался на самых высочайших тонах, падал и вспархивал снова. Как только донеслась эта песня, Галина Григорьевна оборвала свой рассказ и пошла молча.
…Мож быть, братцы, вам кому придется,
Вам да на тихий славный Дон пойти…
Вы мамашеньке моей скажите —
Пусть да не плачет она обо мне…
А жененке вы моей скажите,
Что женился да я на другой…
Я женился, братцы, на другой,
На пулечке да на свинцовой…
Мы венчались да мы в чистом поле
Под ракитовым кустом…
Остра шашка – она была свашка,
Штык булатный был дружком…
Надя шла, не ощущая ног, смотрела, будто через запотевшее стекло, на далекие фонари у завода и чувствовала, как в груди у нее томительно и жгуче словно что-то плавится, волнами подкатывает к глотке, заставляя короче и учащеннее дышать.
Из другого угла слышалась иная песня, не такая унылая и безотрадная, но вскормленная все той же тоской по родине:
Быстра речушка всетекущая
К бережочку сносит.
Молодой казак домой просится:
– Офицер-майор, отпусти домой,
Дюже скучился, сгоревался
По своей кровинушке.
– Ты напейся, казак, водицы холодненькой,
Про все горе забудешь.
– Пил я воду, пил холодную,
Пил ее и не напился;
Любил я бабочку чернобровую,
Любил ее и не налюбился…
В крайних переулках Вознесенска было так же глухо и безлюдно, как и в Натягаловке; редкие подслеповатые фонари на столбах горели тусклым светом. Казачьи песни сюда доносились слабо, бледными, едва различимыми отголосками. В одном из переулков, выходивших на базарную площадь, Галина пошарила глазами по карнизам домов, отыскивая какой-то номер, и остановилась против старого двухэтажного здания с закрытыми ставнями, похожего не то на магазин, не то на школу. Внизу, сквозь щелку в ставне, пробивался свет. Сказав, что в этом доме сейчас должен находиться ее приятель, Галина предложила Наде либо вместе с нею зайти на короткое время, либо подождать здесь, на улице. Наде боязно было оставаться в этом незнакомом темном углу, хотя браунинг лежал у нее в кармане шинели, и она решила зайти с Галиной.
В большом и неуютном зале с низким потолком было страшно накурено, Надя даже поперхнулась. Висевшая у потолка лампа еле-еле просвечивала сквозь сизые пласты дыма. Вокруг стола сидели десятка полтора мужчин: кто полулежал, откинувшись к спинкам скамей, кто, нагнув голову, облокотился на колени. Одеты все были чисто и опрятно. Двое выделялись флотской формой. Навстречу женщинам шагнул средних лет человек в полувоенной одежде и, тихо поговорив о чем-то с Галиной, пригласил их сесть. Галина опустилась на крайнюю скамейку, в некотором отдалении от мужчин; рядом присела и Надя.
Она обежала взглядом незнакомые, в большинстве молодые лица, окутанные дымом, поискала Галининого приятеля, которого знала, но не нашла. Тогда она решила найти среди них старшего: или командира, или председателя, или атамана, но на такого никто из них не был похож. За столом склонялся над бумагами лысеющий с короткой бородкой человек, но на него никто не обращал внимания. Каждый вставал и говорил, что ему вздумается, ни у кого не спрашивая слова, иногда перебивая другого. Чаще всего произносились такие слова, как «конфедерация», «свобода личности», «мечта человечества», «экспроприация», «высшая свобода», «безвластное общество…» На стене висел огромный плакат: «Смерть тюремщикам вольного духа». Ниже – другой: «Анархия… имя безвластия». Середину этого, второго плаката от Надиных глаз заслоняли головы сидевших. В углу стоял черный распущенный флаг с изображением человеческих костей и черепа.
Надя осмотрела это траурное полотнище с лобастым черепом, от которого веяло жутью; плакаты, грозящие смертью; этих незнакомых загадочных людей, обсуждавших бог знает что, – и ей стало не по себе. Она хотела было шепнуть Галине, что, мол, надо уйти, но в это время участники собрания шумно поднялись все сразу (невольно поднялись и Галина с Надей), откашлялись, и могучие раскаты анархистского гимна поразили Надю и неслыханной ею в жизни музыкой, и неслыханными словами: «Споемте же песню под гром и удары…» Пели очень дружно и по-своему красиво. Но когда дошли до слов:
Разрушимте, братья, дворцы и кумиры,
Сбивайте оковы, срывайте порфиры,
Довольно покорной и рабской любви!
Мы горе народа затопим в крови…—
и когда басы особенно налегли на последние слова, глуша набатным гудом, сотрясая пласты дыма: «Мы горе народа затопим в крови», да еще раз придавили: «Затопим в крови» – на сердце у Нади захолонуло, и она, потянув за рукав Галину, зашептала:
– Галина Григорьевна, ради бога… пойдемте отсюда, пойдемте.
– Чтой-то не пойму я никак, – сказала Надя на обратном пути, – не пойму, что они за люди. Начальников у них вроде бы нет, и старших тоже. Все чего-то разрушим, да потопим в крови, да смерть кому-то – жутко слушать.
Галина засмеялась и стала уверять Надю, что анархисты – во всяком случае, те, что собрались здесь, – люди порядочные, как и ее приятель, но только ни трохи-де не разумеют жизни и путаются в счете до одного десятка.
Вернувшись домой, Надя разделась и скинула сапоги, поужинала армейской порцией черного черствого хлеба – от приглашения Галины поесть с нею вместе она отказалась, – запила «гусиным молоком», как шутливо называла она воду, и, чувствуя во всем теле усталость, – вернее, легкое недомогание, – прилегла. Спать она пока не думала, так как с часу на час поджидала Федора. И сразу же, как только Надя легла в свою походную жесткую постель, все заботы дня, большие и малые, все горести, волнения и тревоги – все, чем с краями вровень заполнены были будни, померкло, затмилось иными тревогами, тревогами о том большом и важном для нее, для всей ее жизни, что, опять появившись, и пугало ее и радовало. И когда она начинала думать об этом, однажды уже пережитом, что, счастливо начавшись, окончилось непомерно тяжко и мучительно, когда пыталась заглянуть в свое будущее – все было неясно и неопределенно. Федору пока ни о чем не говорила. Не хотела, пока сама еще не была окончательно уверена, волновать его догадками. Но теперь она уже ни чуточки не сомневалась.
Ложась на койку, Надя хоть и не собиралась спать, но все же незаметно для себя задремала и не слышала, как приехал Федор. Правда, приехал он поздно, почти в полночь, и вошел тихо, стараясь не разбудить ее. Но шорохи потревожили Надю, и она открыла глаза. Раньше всего увидела стол и на нем освещенный резким светом лампы патронташ, блестящий от влаги, и еще какой-то смятый бумажный сверток. Не шевелясь, Надя несколько секунд оторопело глядела на все это: ничего похожего на стол она не клала, да и лампу, ложась, притушила. Но вот она пришла в себя и вскочила. В углу, расстегивая на гимнастерке пуговицы, стоял Федор и улыбался. На его ресницах и бровях дрожали мелкие капельки дождя. Он торопился, снимая с себя гимнастерку. Надя обняла его, поцеловала и, прислонясь щекой к его влажному, пахнувшему дождем лицу, заговорила скороговоркой:
– Ждала, ждала тебя, да и… Я так и думала, что ты приедешь нынче. Слышу – вошел, а подняться сил нету.
– Погодка проклятая… Я бы раньше приехал. Грязюка невылазная, ползет конь, а под ногами – черно все.
– Слава богу, хоть как-нибудь приехал. Тут уж… А я, Федя, набедила ныне, ругать меня будешь. Должно, не ел целый день, а обеда нет.
Он отбросил гимнастерку, встряхнулся и все с тою же широкой улыбкой, не сходившей с лица, стал приглаживать Надины растрепанные волосы.
– Нет, не буду ругать. Меня друзья накормили. И тебе гостинчика привез. Садись поужинай, помяни за здравие Область войска донского. – Он подошел к столу, развернул бумажный сверток, где были упакованы кусок свиного сала, краюха хлеба, белого и высокого, и достал из кармана складной нож.
– Вот так гостинец! – удивилась Надя. – Уж не командир ли полка подарил? Не из-за этого ли заставил тебя на сто верст грязь месить, из ног глухоту выбивать?
Лицо у Федора посерьезнело.
– И вправду, что из ног глухоту выбивать. Черта жирного самого бы прогнать по грязи столько, он бы знал тогда. Как же! Я, изволите ли видеть, порчу ему казаков, развращаю их. Рассказываю про съезд, как выступал Малахов, есаул Ногаев. Не надо, дескать, об этом трезвонить: мало ли, дескать, таких подлецов, как Ногаев да Малахов, в офицерах ходят. «А что, говорю ему, у вас казаки-то – красные девицы, что ли, что их можно попортить?» Он как напустится на меня: «Ты, Парамонов, не очень задавайся! А то Корнилова хотя и сменили, а приказы-то его еще не сменяли, по ним действуем. Как бы плакать не пришлось, упреждаю». Ну, что ж, мол, спасибо и на этом. – Федор нарезал сала и придвинул к Наде. – Зубрилин посылку от жены получил… Ешь, ешь, я доро́гой закусывал. Велел мне через неделю приехать. Все полковые комитеты вместе с дивизионным соберутся… На станции Раздельной. Насчет обмундирования вроде бы.
– Опять ехать! – скорбно вырвалось у Нади и она погрустнела.
– Куда ж денешься. Придется.
Надя вяло, через силу жевала, и кусок застревал у нее в горле. И даже никакой благодарности к Зубрилину за его подарок она не почувствовала.
– Бабушка моя померла, – сказала она. – Пашка известил.
– Ну-у-у? – Федор некоторое время посидел без движения и широко перекрестился. – Ну, царство небесное старухе, отмучилась… Пашка, говоришь, известил?
– Ага, письмо прислал.
Они помолчали минуту, переживая всяк свое, и заговорили о покойнице, о Пашке, о себе и о всяких хуторских и полковых делах. Федор подробно сообщил о своей незадачливой поездке в Ивановку, еще раз выругав командира полка, а Надя рассказала о прогулке с Галиной Григорьевной, об анархистах и о Блошкине.
Когда они погасили лампу, ложась спать, за окном уже дымился рассвет. В сером редеющем сумраке на смену канувшему в забвение дню шел день очередной. Он шел, чтобы покрасоваться на земле, сколько дано ему сроку, и уступить место другому. И пока не разгадать было: нес ли он ненастье, как и предшественник, или солнце. Надя, прижимаясь к Федору, стараясь заглянуть ему в лицо, измененное сумраком зари, робко сказала о том большом и важном, что опять вплеталось в их жизнь, что пугало ее и одновременно радовало, – она сказала ему, что у них будет ребенок.
VIII
Обычно войсковые комитеты казачьих частей редко когда в своей работе перешагивали через барьеры, поставленные для них инструкциями; редко когда выходили из круга, кстати сказать, все сужающегося, дел подсобных, текущих – хозяйственных и бытовых. Наварят ли казакам протухлого мяса или какой-нибудь гнилой каши или совсем не дадут обеда; купят ли взводные урядники фураж у населения, а деньги за него не заплатят, прикарманят, – вот в такие и подобные неполадки казачьи комитеты вмешивались, в меру сил устраняли их.
Через барьеры инструкций не перешагивали казачьи комитеты, как это зачастую делали солдатские, вмешивающиеся иногда даже в оперативные дела, потому прежде всего, что сами казачьи комитеты по своей политической слабости были не в состоянии этого делать. Нигде как здесь, среди казачества, не сказывалась с такой силой столетиями взращиваемая субординация, почитание старших по службе и по возрасту, беспрекословное повиновение начальству. К тому же сильно сказывалось влияние обязательной офицерской прослойки, вводимой в комитеты.
Расширенное заседание комитета дивизии, о котором Федор упоминал в разговоре с Надей, заседание с участием полковых комитетов и комитетов батарей, восьмой и девятой, входивших в дивизию, занималось тоже хозяйственным вопросом – вопросом обмундирования. Зимние холода были уже не за горами, казаки почти все ходили разутые и раздетые, а нового обмундирования пока и не предвиделось. Полковые и батарейные комитеты без конца слали запросы в дивизионный, но тот ничем не мог помочь. После случая под селом Слободзе-Канаки, когда дивизию загнали в тыл, она очутилась в положении пасынка: снабжать ее стали из рук вон плохо. Интендантство 4-й армии на требования дивизионного комитета отвечало одно: вы из состава армии выбыли, наряда на вас нет, обращайтесь в Петроград, в главное интендантство.
По существу говоря, это была только отписка. На самом же деле у интендантства не было не наряда, а самого обмундирования – шинелей, сапог, полушубков. Ни для сынков не было, ни тем более для пасынков. Армейские склады давно уже пустовали.
Единственно, что заседание комитетов дивизии могло придумать, так это – послать в главное интендантство не бумажку, а живых людей, представителей, которые сумели бы рассказать там о своих крайних нуждах и настойчиво потребовать, что по табелю положено казакам. Выделили для этого двух: одного из членов дивизионного комитета, бедового, грузноватого, цыганского обличья подхорунжего Ярыженской станицы Колобова, и от полков – Федора Парамонова, однажды уже побывавшего в столице.
Федор своим избранием был сначала очень огорчен. Перспектива хождения по начальству никак не прельщала его – он этого терпеть не мог. Но потом, потолковав с председателем дивизионного комитета Павловым, горевать перестал и охотно согласился поехать. Оказалось, что в Петрограде его ждет и кое-что приятное: там он опять мог встретить Малахова. О нем он вспоминал частенько и тужил, что потерял его из виду. Федор никак не думал, что Павлов, председатель дивизионного комитета, бывший сельский учитель, по доносу благочинного смещенный за вольнодумство с должности, не только наслышан о Малахове, но и отлично его знает.
Через несколько дней Федор снова был в столице.
Представители дивизионного комитета облазили почти все коридоры, углы и закоулки главного интендантства и Совета союза казачьих войск, почти все «дефиле», как шутил товарищ Федора, подхорунжий Колобов, и ничего, кроме любезных посулов, конечно, не добились.
И вот Федор отправился на поиски Малахова…
Стоял Федор у обнесенного оградой трехэтажного здания с царским орлом, высеченным в камне над главным входом, и, косясь на эту раскрыленную, расправившую когти двуглавую птицу, нетерпеливо всматривался в пробегавших мимо него людей.
Огромное это здание на берегу Невы был Смольный институт, где помещался Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и Центральный исполнительный комитет.
Федор, любопытствуя, уже побродил по длинным сводчатым, скупо освещенным коридорам Смольного, забитым густыми толпами людей и до отказа насыщенным гуканьем сапог по деревянным полам, заглянул в комнату «Центрального армейского комитета», как свидетельствовала на дверях надпись, «Союза солдат-социалистов», побывал и во множестве других просторных белых и пустых комнат, о назначении которых говорили неуклюжие на дверях надписи поверх эмалированных, все еще не снятых пластинок: «III класс», «Классная дама» и так далее.
В казачьей секции Петроградского Совета, куда Федор в поисках Малахова заглянул в первую очередь, ему сказали, что Малахов, мол, действительно работает здесь, в секции, но сейчас его нет – ушел в комитет 2-го Кубанского полка, скоро должен вернуться. И Федор решил подождать у главного входа.
Не успел он выкурить цигарку, рассматривая мелькавшую мимо него разношерстную публику, главным образом в рабочей или солдатской одежде, как у ограды показалась знакомая сутуловатая фигура в старенькой, потрепанной шинели, и Федор, привычным жестом одернувшись, шагнул к дорожке.
В глубине души он побаивался, что Малахов может не узнать его сразу – мало ли у него таких знакомых! Но опасения его оказались напрасными. Как только Малахов завидел его радостную, чуть смущенную улыбку, он тоже заулыбался и, прибавляя шагу, сутулясь еще больше, издали крикнул:
– Парамонов!.. Каким родом?..
«Признал все же», – с удовлетворением подумал Федор, тряся его руку и вглядываясь в опрятно выбритое, отмытое и словно бы помолодевшее лицо Малахова.
– Довелось опять, как видишь… Вольный сам бежит, а невольного за рукав тянут… Семинарию прошел, – пошутил Фёдор, намекая на свой первый приезд в Совет союза казачьих войск, помещавшийся в духовной семинарии, – теперь чего ж… институт. По ученым местам, одним словом… Как-нибудь научат уму-разуму.
– Ну, брат, семинария-то насчет этого не дюже подходящая штука.
– Не дюже?
– Нет. Сам небось видел, как там нашего брата уму-разуму учат. Давно приехал?
– Вчера.
– Либо комитет за чем прислал?
– По части обмундирования счастья попытать.
– Ого, чего захотели! Ну и как?
– Дают… только из рук не выпускают.
Малахов улыбнулся.
– А вы думали, вам тут же вагоны подкатят? Как бы не так! Сперва надо скотинку развести да кож наделать, а уж потом о сапогах разговаривать. А? То-то и оно. Так ты, Парамонов, никуда особенно не торопишься? Давай зайдем на минуту в секцию, в казачью… я ведь тут сейчас работаю, – мельком сообщил он, – а потом поговорим по душам.
Вскоре они, побывав в секции и затем подкрепившись жидкими, с крохотным куском мяса щами, ржаным хлебом и кашей в столовой Смольного, в той самой обширной с низким потолком столовой на нижнем этаже, где в свое время обедали «благородные» девицы, вышли на берег Невы и уселись в нескольких десятках саженей от здания. Малахов вполголоса рассказывал Федору о последних столичных новостях. Он говорил, а сам то и дело недружелюбно поглядывал на пухленького щеголеватого господина в котелке, который неподалеку от них любовался рекой. Говорил Малахов больше всего о работе своей секции и о только что разгромленном мятеже главковерха Корнилова.
…В лето тысяча девятьсот семнадцатое политические события в России толкали страну вперед с неслыханной в истории быстротой. Народ все яснее понимал, что его обманули. Ему обещали все и ничего не дали – ни мира, ни земли, ни хлеба. Эсеры и меньшевики, стоявшие у власти, все теснее связывались с помещиками и буржуазией. «Соглашатели! Социал-предатели!» – называл их народ вслед за Лениным и, подхватывая большевистские лозунги, все настойчивей требовал: «Долой войну! Долой министров-капиталистов! Вся власть Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!» Партия большевиков час от часу крепла, несмотря на то что на нее всячески клеветали.
Керенский, утвержденный восьмого июля премьер-министром, хотя и неплохо охранял хозяйские дивиденды, но репутация его шла на убыль, и хозяева полностью положиться на него не могли.
Помещики, генералы и буржуазия начали искать «твердую руку». Тут-то по стечению обстоятельств и всплыло на поверхность имя того генерала Корнилова, который, будучи командующим петроградским гарнизоном, собирался в апреле тысяча девятьсот семнадцатого года пустить в дело артиллерию, чтобы расстрелять демонстрацию питерских рабочих, а позже ввел на фронте смертную казнь. Буржуазии этот генерал-монархист пришелся по нраву, о нем закричали в газетах как о национальном герое. Во второй половине июля Корнилов получил назначение на пост верховного главнокомандующего и, с попустительства самого Керенского, стремительно пустил в ход машину вооруженного переворота. Участвовала в этом вся реакция, в частности генералитет армии, – донской атаман Каледин, главнокомандующий юго-западным фронтом Деникин, начштаверх Лукомский, генералы Алексеев, Крымов и многие другие, мечтавшие, как и Корнилов, о восстановлении монархии.
В августе к Петрограду под разными предлогами стянуты были эшелоны «дикой дивизии» и другие части 3-го конного корпуса, который стоял до этого в резерве румынского фронта и которым командовал генерал Крымов.
Керенский, осведомленный о замыслах главковерха, поддерживавший его, в самую последнюю минуту, когда уже получил известие о выступлении, вдруг круто изменил курс и забил тревогу, очевидно опасаясь, что народные массы, поднявшись против корниловщины и разгромив ее, заодно сметут и его самого, Керенского, вместе с его буржуазным правительством. К тому же очень уж подходящий был случай изобразить себя защитником революции и тем самым закрепить кренившийся престиж. Керенский сам не прочь был попасть в диктаторы, с какой стати ему было уступать место генералу?
Корнилов, обвинив Временное правительство в «неумении к управлению», «слабости во власти» и «нерешительности в действиях», как он выразился в воззвании, потребовал, чтобы правительство приехало к нему в ставку, в Могилев, и вместе с ним «выработало и образовало» новый «состав народной обороны». Керенский объявил главковерха мятежником и приказал корниловским эшелонам повернуть обратно. Но те, преодолевая мужественное сопротивление железнодорожников, уже подкатывались к подступам столицы.
Положение создалось крайне напряженное. Партия большевиков все силы бросила на борьбу с корниловщиной, – не за Керенского, а за спасение завоеваний революции, за дальнейшее углубление ее. На призыв большевиков откликнулся весь рабочий люд и революционные войска столицы. Спешно начали формироваться и вооружаться рабочие дружины; за городом воздвигались заграждения и рылись окопы; в районах были собраны агитаторы.
Казачьи части 3-го конного корпуса, разбросанные по многочисленным железным дорогам, то и дело застревавшие в пути, вынужденные порой двигаться походным порядком, не знали, что им делать и кого слушать: главковерх Корнилов приказывал одно, правитель республики Керенский приказывал другое. Офицеры-корниловцы неустанно тянули казаков в лагерь контрреволюции и пытались привлечь их льстивым воззванием Корнилова, обращенным к казакам: «…Казаки, рыцари земли русской! Вы обещали встать вместе со мною за спасение родины, когда я найду это нужным. Час пробил…»
Но одновременно агитаторы большевиков, посланные Петроградом навстречу подходившим казакам, неустанно и бесстрашно говорили им правду о Корнилове, раскрывали перед ними подлинный корниловский умысел, замаскированный красивыми словами о родине, и указывали на подлинную контрреволюционную цель, ради которой их сюда привели. В «дикую дивизию» была направлена делегация из представителей кавказских народов.
– Да, брат, – сказал Малахов в заключение, – мне тоже довелось украдкой побывать в тринадцатом казачьем полку, под Лугой. Что, мол, вас черти разнимают, сказал я станичникам, вас гонят с мирными жителями воевать, со своим же русским населением, с питерскими рабочими, и вы прете, как слепые. Разуйте глаза! Они, мол, генералы-то, метят целиком и полностью власть захапать, а вам от того что за корысть? Били вас – так вдвое крепче бить будут. Керенский, мол, хорош, горшки б ему на том свете обжигать, а Корнилов и того лучше… Посмотрел бы ты, Парамонов, что у них творилось: один седлает лошадь, другой вырывает у него седло, горнист тревогу дует, офицеры мечутся, как щенки напуганные, а никто их уже не слушает. Есаул… забыл фамилию… построил сотню: «Кто добровольно на Петроград – шаг вперед!» Шагнули взводные урядники, да и то, кажись, не все, да два кавалера георгиевских.
– Все ж таки никак я своим умом не докопаюсь, – признался Федор, стесняясь своей недогадливости, – чего они все ж таки не поделили между собой, хоть бы тот же Корнилов с Керенским? Из-за чего весь этот сыр-бор загорелся?
– Видишь ли, дело тут такое… прозрачное… Брр! Давай, брат, пройдемся, а то я закоченел, – сказал Малахов, вставая и от озноба вздрагивая, – с почерневшей в сумерках Невы шла прохлада.
Они вышли на дорожку, ведущую к площади перед Смольным, где в непроницаемом, сеющем изморось тумане неумолчно шумели трамваи, скрежеща на повороте и брызгая синеватыми электрическими искрами, и Малахов, стараясь шагать с Федором в ногу, продолжил разговор все так же осторожно, вполголоса. Когда кто-нибудь им встречался, он примолкал совсем.
– Видишь ли… Корнилов и корниловцы – они, понятно, чуют, что Керенский… да и в общем Временное правительство целиком и полностью – это так, накипь и большевики вот-вот смахнут эту грязную пену и придут к власти. А им это совсем не по шерсти. Им сейчас-то комитеты наши да Советы в печенку въелись. Вот они и рискнули ворваться в столицу, свернуть нам, нашим организациям шею, а заодно и Временному правительству. Ведь ты слыхал небось, что…
– Подожди-ка! – Федор, укрупняя шаги, тронул Малахова за рукав. – Подожди, ты сказал, что скоро у власти большевики будут. А ты откуда это знаешь? Ты… большевик теперь?.. Ну, хорошо. А как… тогда? Что будет? Какие порядки объявятся?
И, жадно слушая объяснения Малахова, Федор продолжал расспрашивать еще и еще. Он расспрашивал не потому, что ему редко приходилось слышать о большевиках и это ему было в диковинку. Нет, он много о них слышал. Слышал и правду, а больше всего сплетен, кривотолков и явной лжи, на которую офицеры не скупились. И не из праздного любопытства расспрашивал Федор. Слово «большевик» к тому времени для таких людей, как Федор, для всех ущемленных жизнью уже имело притягательную силу, оно влекло их умы, обозначая в их понятии конец войне, свободу от произвола ненавистных офицеров, родные села и мирную вольготную жизнь.
Часа полтора бродили они по окраине города, и когда расставались, Малахов пригласил Федора на собрание казачьей секции, которое должно было состояться завтра, в Смольном.
– Выступит представитель ЦК большевиков, – пообещал он.
– Как по фамилии?
– Увидишь. Пока еще не точно. Приходи обязательно.
Федор наклонился к Малахову, к его мокрому от измороси воротнику шинели и, поведя по сторонам глазами, шепнул:
– А… Ленина… хоть издали нельзя будет посмотреть?
– Нет, брат, о нем помалкивай пока. За ним ищейки Керенского лбы порасшибли, все шнырят. Его сейчас нет, не увидим пока.
На следующий день Федор и Колобов пришли в казачью секцию задолго до открытия собрания. В огромной белой комнате с единственным на стене плакатом: «Товарищи, для вашего же здоровья соблюдайте чистоту!» – сидели уже десятка два-три гомонивших фронтовиков. По их говору, форме и цифрам на погонах легко было определить, что люди эти в большинстве – из казачьих полков: 1-го и 4-го Донских и 2-го Кубанского, стоявших в Петрограде. Но мелькали погоны и иных донских полков и иных войск. Видно, случайных служивых, вроде Федора, в столице пребывало порядочно. Но ни одного знакомого лица Федор здесь не видел. Не было пока и Малахова. Федор, стараясь занять местечко поближе к президиуму, протискался к пустующему посередь сидевших стулу, а Колобов облюбовал себе одноместный позади Федора, пюпитр, уцелевший от прежних времен.