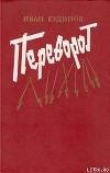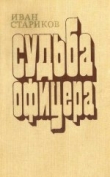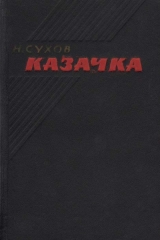
Текст книги "Казачка"
Автор книги: Николай Сухов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 41 страниц)
«Уехали!.. Уехали!.. – догадался Андрей Иванович. – И не забежал никто! Не вспомнили!» – Ему стало очень обидно.
XII
Пашка тайком жил у Фени Парсановой. Днем, страдая от духоты, скрывался в погребце, в свежем сене, наваленном на погреб, чтоб не промерзал зимой, а ночевал на Фениных пуховиках, в хате. Жилось ему, в общем, недурно, конечно, но чувствовал он себя все же напряженно: так и высматривай в щели, так и вслушивайся в шаги и конский топот – не отряд ли, не каратели? Хоть и знал, что ситниковские войска, остатки, несолоно хлебавши устремились за линию. Но черт его знает, на войне ведь так много неожиданностей! Власти в хуторе не было, никаких частей – ни белых, ни красных – не появлялось, и ничего нового о войне ни Феня, ни отец, с которым Пашка чуть ли не каждую ночь виделся, забегая на минуту домой, сообщить ему не могли.
Единственно, что он узнал от отца, – это о пожаре. То самое и случилось, чего Андрей Иванович боялся: дотла выгорел хуторской пшеничный клин под Солонкой. Поехал старик в поле тут же, ночью, как только решил не отступать, и ахнул, еще издали увидя на черном небе искрящийся изгибистый, высотою в рост человека, вал огня. Жадно пожирая пшеницу, огонь двигался во всю двухсотсаженную ширину клина и уже приближался, подталкиваемый предрассветным ветром, к концу клина, к крайней со стороны хутора деляне, на которой смутно шуршали под ветром, как бы тревожно перешептывались, усатые граненые колосья. Позади вала оставалось сплошное, без единого островка, пепелище. Земля тут добрая, и людские деляны лежали плотно, межа о межу. А на тех делянах, что сеяли обществом по абанкинской земле, и меж-то никаких не было – только борозды.
Полкруга, двух десятин – да каких! – нежданно-негаданно лишились Морозовы на том клину. Андрей Иванович переживал убытки тяжело. А про Пашку этого сказать, кажется, нельзя было. Он эту весть встретил равнодушно. У него другая сейчас была забота – о собственной голове, и это занимало его больше всего.
Прожил он у Фени около недели: с понедельника и до субботы. А в субботу ему спать на Фениных пуховиках уже не довелось.
Придя поздними сумерками из погребца в хату, заперев наружную дверь, он умывался, – как вдруг тихая пустая ульчонка огласилась многообразными звуками: скрип телег, мычание и блеяние скота, людской возбужденный говор, ребячьи выкрики… Феня открыла окно, и в хату вместе с неясным шумом влетели отдельные отчетливые голоса.
– Санька, Саньк, завтра принеси, не забудь! – орал, словно в лесу потерялся, какой-то подросток, и в ответ чуть слышно:
– Ладна!
– Да куда ж ты едешь! – женский окрик. – Мишка! Расстались! Ну, погоняй же!
– Тпру, соколики, отвыкли от двора, тпру-у!.. Слава богу, цел вроде домишко-то, на месте.
Феня узнала старика соседа, отступавшего с хуторянами. Пашка, бросив умыванье, тоже подошел к окну, голый по пояс, мокрый. Минуту слушал, водя по животу ладонью, растирая сбегавшие за пояс капли воды. «Ага, – подумал он. – Так. Надо выметаться, пока дед Парсан не застукал». Но в чулане уже загремела щеколда.
– Отец!.. – и Феня вопрошающе глянула на Пашку.
– Подожди, не открывай! Скоро-то ведь как он!.. Сейчас я, сейчас… Тьфу, черт! Куда же я рубахи-то?..
Феня подала ему полотенце и рубахи – гимнастеру и нижнюю, – пропахшие особым острым запахом: смесь пота и степного сена. Пашка откинул полотенце, натянул рубахи на мокрое тело и в потемках зашарил руками по скамейке, ища ремень. Щеколда загремела опять, уже громче, и из-за двери раздраженно:
– Спишь, что ли, спозаранок, грец тебя возьми? Эка, сон дурачий!
Пашка, затягивая на себе ремень, тихо рассмеялся.
– Волнуется дед. Должно, брюшко подвело, вечерять захотел. Ну, всего, Феня, до завтра… Можешь открывать. – Он вскочил на вертлявую скамейку, занес ногу в сапоге на подоконник, раздавив деревянную ложку, и, помахав оттуда улыбающейся Фене, весело пошутив: «Спасибо здешнему дому, пойдем к другому», – скользнул в раскрытое окно, в палисадник.
По дороге, поднимая пыль, медленно тянулись подводы. Бычьи, конные. Пашка посматривал на них, шагая по-над плетнями палисадников. Людей на подводах было мало, – видно, въехав в хутор, в нетерпении разбежались. За повозкой, рядом с которой, обгоняя ее, шагал Пашка, хромала на привязи корова; на арбе лежала, пырская от пыли, овца. «Слабосильная команда», – подумал Пашка, – выбыли из строя. Выходит, издалека топали».
– Дядя Паша! – приветливо раздался ребячий голос.
Пашка вскинул на оклик голову и, разглядев на дороге, в ряду движущихся, окутанных пылью подвод парамоновскую воловью арбу, подошел к ней. В передке, свесив на дышло ноги, сидел Мишка с кнутом в руках; сзади на мешках и всякой иной клади вровень с грядушками – Настя, в запыленной, съехавшей на шею косынке; а на коленях у нее, нос к носу – Верочка и Любушка, в одинаковых голубеньких рубашонках. Настя их обеих сразу кормила: Верочка, болтая рукой, теребила ртом одну грудь, Любушка – другую.
Пашка удивился. Разговаривая с Настей, а больше – с Мишкой, который осыпал его бесконечными вопросами и рассказами, он все косил глаза на крохотных человечков, с увлечением занимавшихся своим делом. Наконец не вытерпел, спросил:
– Ты это что же, сваха, – пробу какую делаешь или что? Кормишь-то?
– Что кормишь? А-а, ты про Любушку? – сказала Настя, не сразу поняв Пашку. – А я уже не впервой. Она не брезгует. Берет охотно, как и у своей матери. А молока… ничего, обеим хватает.
Арбу на кочках встряхнуло. Любушка, выпустив изо рта сосок, медленно стала сползать с груди, а сама еще чаще зачмокала губенками. Настя бережно поддержала ее за пухлые в складках ножки, и та опять поймала сосок.
– Приедем, и сразу же их в зыбки надо. Пускай покормятся пока. И самой-то потом мне будет некогда.
– Толково, ей-бо! – с напевом протянул Пашка, и в переливах его баритона прозвучала насмешка, – А где же она, мамка ее, сейчас-то? И деда что-то не видно.
– Дед с конной подводой позади, при табуне; скот позади там идет. А мамка ее в Поповке задержалась. Созвали там, в этой слободе, все ревкомы – со всех хуторов. Представитель какой-то созвал их. Нарочный сказывал. Приезжал к нам. Дюже, мол, важное дело. Насчет войны что-то. А уж что именно – не могу, конечно… Вот Надя приедет, узнаем.
– Хороша мамка, хороша! Ничего себе! Бросила дочку – и ладно. Пускай…
Пашка не договорил, осекся. Обычно сдержанная, мягкая по натуре, Настя вдруг сердито зашипела на него и завозилась в арбе, как потревоженная в гнезде наседка:
– Как тебе, сват, не стыдно! Что ты про Надю говоришь! Как это можно про нее так! Тоже! Родной братец!
У Пашки загорелись уши. Сам это почувствовал. Ему страшно неудобно стало. Он и руку отнял от арбы. Все замолчали, даже Мишка, который без умолку до этого трещал, мешая взрослым. Настя поджала губы и, нагнувшись к детям, все внимание перенесла на них: сдвинула их поближе друг к дружке, прикрыла лежавшей сбоку дерюгой и принялась гладить их взъерошенные в разномастных кудерьках головы. А Мишка опустил нос и, повернувшись к быкам, усиленно начал размахивать кнутом.
Минуту, две Пашка шагал рядом с арбой, поспешая за ней, – быки под кнутом пошли веселее. Он поспешал, сам не зная для чего, понимал, что связать оборвавшийся разговор едва ли сейчас удастся. У него слов для этого, при всех его способностях, не находилось, а Настя с Мишкой разговаривать с ним желания не проявляли.
Выручило его то, что он был уже подле своего двора. Невнятно промычал что-то на прощанье и отстал от арбы, свернул к воротам, унося в душе крайне неприятный осадок. Действительно, как-то у него все неладно, нехорошо получается в отношениях к сестре. В чем-то он действительно, кажется, неправ перед ней. Ничего худого ей не сделал, конечно, и никогда не сделает, а все-таки в чем-то неправ. И перед нею, сестрой, да и перед Федором.
XIII
Надя с Федюниным приехали вскорости – едва погасла заря и синяя ведренная ночь едва спустилась на потемневшую землю. Приехали они в сопровождении большой компании – целого полувзвода. Это были члены ревкомов Терновского, Альсяпинского и других хуторов. У околицы, около разбитой колесами и обросшей болотными травами плотины, через которую шла дорога на Терновку, платовцы распрощались со спутниками и свернули в первую же, меж садов, улицу Заречку. Надя приглашала спутников переночевать, но те, торопясь домой, отказались.
– Погостюем у вас потом, когда беляков передушим, – сказал альсяпинский председатель, пожилой, но с молодыми ухватками казак. – Ишь что, мерзавцы, делают!
Над хутором в недвижном воздухе еще висела разреженная, неосевшая пыль. Она чувствовалась даже сквозь особенно сильные в этот час запахи речных гниющих трав, ила и приречных садов, сквозь запах анисовых дозревавших яблок. Улица была пустынна. Ни огонька, ни человечьего голоса. Все вокруг молчало. Лишь на левадах изредка кричали перепела, да в реке, в осочных заводях на все лады горланили лягушки.
– Спят. Намучились за дорогу, – сказал Федюнин, разбито кособочась в седле, умалчивая о том, что и сам-то он порядком намучился: одна нога его, здоровая, была в стремени, другая, деревянная, всунута в узкое ведерко, сделанное кузнецом так, что дно выдавиться не могло. – Спят и те, которые не отступали. Скоро что-то угомонились.
– Может, в поле. Хлеб косят, – сказала Надя.
– А может, и так, – согласился Федюнин, – вполне может быть. Давно пора. – Он помолчал, глядя в густую синь улицы, размышляя о чем-то, и, как бы продолжая размышлять вслух, уныло добавил: – Да-а, покос… А хлеба-то были какие!.. Неужто и вправду не дадут нам скосить, а?..
Надя, слегка покачиваясь в лад конским шагам, устало сгорбилась и ничего на это не ответила.
– Вот, можно сказать, ты и дома, Андревна. Раина-то у вас!.. Не проедешь мимо. Чуть не до неба.
– Приметная раина… Как-то у нас тут? До свидания, Семен Яковлевич.
– Будь здорова.
В своих закрытых ветками сирени окнах Надя огня тоже не заметила и, слезая у калитки с седла, с облегчением подумала, что, должно быть, дома все благополучно. Вряд ли бы так скоро уснули, если б что случилось. А случиться мало ли что могло! Трудно ли было, к примеру, тому же Поцелуеву, если он побывал здесь, в хуторе, пустить им красного петуха? Видно, не решился: у него-то собственное подворье получше – в карман тоже ведь не положит.
Посреди двора, на арбе, еще не разгруженной, тихо похрапывал Матвей Семенович. Из-под зипуна, которым он был с головой укрыт, несмотря на духоту, – по-видимому, спасался от комаров, – торчали одни лишь босые ступни. Надя будить его не стала, сама управилась с конем: расседлала его, убрала седло в амбар и, выведя коня за гумно, спутала.
Двери были не заперты. Надя, стараясь не греметь, вошла в хату. Все безмятежно спали: Настя на кровати, девочки – в своих подвешенных зыбках, а Мишка – на сундуке, уже водворенном на место. Перед носом у него сидел старый кот и радостно на всю хату мурлыкал, перебирая лапами, – наскучался без хозяев.
Надя сняла с себя косынку, кофточку и подошла к Любушке. Она собиралась покормить ее. Но та, наверно, была сыта, и не похоже, чтобы скоро проснулась. Надя низко склонилась над ней, затененной ночным мраком, и долго-долго стояла так, не сводя с нее глаз, подавляя тяжелые, настойчиво просившиеся вздохи. Любушка, разметавшись, лежала кверху личиком, и смеженные ресницы ее чуть заметно подрагивали.
«Спи, спи, моя кровинушка, ненаглядная моя, – было в мыслях у Нади, – спи спокойно, пока ничего-ничегошеньки не ведаешь. Не гневайся на маму. Ни на минуту бы, родная, не спустила тебя с рук. Вырастешь – и все поймешь. Спи спокойно. Пока мама с тобой. А не будет ежели… за тебя же, родная, за твое счастье, чтоб злые люди не топтали твою жизнь, как топтали мамину».
На смутно белевший Любушкин лобик упала, соскользнув на подушку, крупная слеза, и Любушка засопела, закрутила головой. Надя, глотая слезы, разогнулась и бережно отерла ей лоб простынкой, свисавшей с зыбки, – точнее, не простынкой, а свежевыстиранным обноском юбки, служившим простынкой. Хотела было прямо с зыбкой перенести Любушку в горницу, на ее обычное место, но раздумала, боясь потревожить, и только поправила ей сползшую на край подушки голову.
Затем прошла в открытую горницу. В ней уже немного отдавало нежилым. Своей кровати Надя не обнаружила, стульев – тоже, хотя кровать была ветхая деревянная, одна ножка ее приделана заново, и стулья тоже были уже чиненные. «Позарился, что ли, кто?» – подумала Надя.
В углу, где раньше стояла кровать, темнела большущая охапка сена, свежего, только что принесенного; а поверх – свернутая постель. Надя осмотрела это с благодарностью к семье мужа.
Она открыла окно в палисадник, присела на широкий, покосившийся от старости подоконник перед притаившимся в безветрии кустом сирени и задумчиво уставилась в темь куста. На сердце у нее было очень тревожно, особенно после новостей, о которых она узнала в слободе Поповке, на многолюдном митинге. Трудно ей было своим умом постичь все то, о чем говорили на митинге сведущие люди. И все же она отлично поняла главное: над родным краем нависала, сгущаясь, грозная черная хмарь.
* * *
Атаман Краснов, заполучив для своей армии вооружение и снаряжение у генералов германского кайзера Вильгельма, расплатившись с немцами донской пшеницей и скотом и, по сути, согласившись на превращение Дона в германскую колонию, вплотную приступил к осуществлению больших своих контрреволюционных планов.
Молодая Советская республика к этому времени была уже охвачена кольцом огня. Со всех сторон ее, истощенную, голодную, переживавшую неимоверные трудности, изнутри и извне терзали враги объединенными силами. Так называемые союзники, американцы и англо-французы, заняли в марте Мурманск, а в июле – Архангельск; на средней Волге, от Сызрани до Казани, и в Сибири подняли мятеж чехословацкие легионы, спровоцированные теми же «союзниками»; на Кубани после разгрома белых под Екатеринодаром, где убит был Корнилов, «добровольческая армия» генерала Деникина уже оправилась от страшного удара; на Кавказе англичане и турки с двух сторон подбирались к нефтеносному Баку; во Владивостоке высадились японские войска.
«Здравствуй, белый царь, в кременной Москве, а мы, казаки, на тихом Дону!» – так выразил Краснов свои окончательные цели в майской речи при «избрании» его донским атаманом. Теперь, вооружив армию, он вплотную приступил к осуществлению своих далеко идущих планов и начал с генерального наступления на Царицын – важный советский стратегический центр, о взятии которого мечтал еще Каледин. Оборону Царицына к этому времени возглавил Военный Совет Северо-Кавказского военного округа под председательством члена Реввоенсовета республики Сталина.
Группа войск красновского генерала Фицхелаурова, перед которой стояла задача отрезать Царицын от Москвы, восемнадцатого июля прорвалась к железной дороге. Белые заняли станцию Качалино и отбросили на этом участке немногочисленные красные войска. Одновременно генерал Мамонтов, тесня всей огромной массой своей конницы советские отряды, все ближе подходил к Царицыну с юго-запада. Заметно усилился нажим белых также и на северном участке фронта, и противостоящие им советские полки начали пятиться.
Только войска Киквидзе продолжали держаться на линии Филоново – Алексиково, каждый день отбивая – а на день приходилось по нескольку раз – то в том, то в другом месте бешеные вражьи наскоки. Верхне-Бузулуцкий партизанский полк, действовавший все еще самостоятельно, как и некоторые другие отряды местного формирования, уйдя из прихоперских хуторов, был где-то в районе станции Панфилово или соседней станции Кумылга.
На митинге в слободе Поповке было зачитано постановление Военного совета Северо-Кавказского военного округа, в состав которого входила и Донская область. Постановление это, подписанное Сталиным, говорило о мобилизации. (Декрет о переходе от добровольчества к всеобщей мобилизации был принят Советом Народных Комиссаров еще в конце мая.) Один из пунктов зачитанного на митинге постановления от двадцать четвертого июля, за номером двенадцать, имел прямое, непосредственное отношение к здешним станицам и волостям:
«В прифронтовой полосе и в незанятых противником частях Донской области командующие фронтами обязуются объявлять мобилизацию всего боеспособного мужского населения в возрасте от восемнадцати до сорока лет…»
На этом же митинге, необычайном и по составу собравшегося народа – иногородние и казаки; представители ревкомов разных хуторов, сел и все местные жители, слобожане; военные и невоенные, – необычайном и по единодушному живому участию собравшихся, и по той страстности, с которой выступали ораторы, была принята и столь же страстная резолюция:
«…Заслушав постановление Военного совета и доклад агитатора культурно-просветительного отдела армии Царицынского фронта о текущем моменте, об угрозе наступающих кадетских банд и о том, что из себя представляет советская власть, единогласно вынесли: клянемся от старого до малого защищать власть трудящихся в лице Советов и проклинаем всех тех, которые ушли добровольно против своих же братьев – трудовых казаков и крестьян. Смерть прихвостням и лакеям хищников империализма! Смерть открытому врагу и явному самозванцу генералу Краснову и его приспешникам! Долой из донской земли всех паразитов!..»
* * *
День сегодня был воскресный. Веселый, солнечный, с нежной рябью в сияющем высоком небе кучерявых облаков, умеряющих зной, и легким ветром, который нес с ближних полей и гумен запахи созревшего хлеба и приторноватые медовые запахи тыкв в позднем цвету, крутил кое-где по дорогам небольшие вихри – признак надежной, устойчивой погоды. Желанный день в страдную пору! Лучшего не выдумаешь! Но в поле сегодня никого не было.
У Парамоновых, как, впрочем, и у многих других уезжавших, с самого раннего утра начались горькие открытия. Выгонял старик корову на пастбище и при разговоре с людьми, которые не отступали, узнал, что беспокоиться о той пшенице, что на яровом клину, под Солонкой, нечего: спалили, бог послал, до последнего колоска. Кто спалил – ни от кого добиться не мог. Домой вернулся – тут новое дело: стала Настя кур скликать, а кур-то нет. Сбежались, пугливо вращая вытянутыми шеями, штуки четыре. А было восемнадцать, не считая цыплят. Как Настя ни надрывала глотку – цыпа, цыпа!.. – ни одной больше не появилось. В сад Матвей Семенович заглянул – поодаль от двора – и тут бедствие. У старика уже и сил не хватило на ногах держаться: присел, обжигая руки, прямо в застаревшую крапиву с пышными, сыпавшими желтую пыльцу метелками. Ломились ветки у яблонь – бель, антоновка, анис – теперь стояли пустые, обломанные. Одиннадцать деревьев!
Горб гнул – окапывал по осени; весной таскал воду из речки, по полсотне ведер влил в каждую лунку… Проклятое воронье, эти кадеты, – ни дна им, ни покрышки – навязали войну!
Из сада Матвей Семенович шел, шаркая и цепляясь чириками о кочки, словно постарел разом. В улице невзначай столкнулся с полчанином, стариком Морозовым. По-праздничному одетый, тот, похоже, направлялся в церковь: как раз звонили к обедне. Отношения у стариков полчан никогда, как известно, не были по-настоящему добрыми, а последнее время и вовсе – что у кошки с собакой. Матвей Семенович скупо поклонился и хотел было пройти мимо. Но Морозов шагнул наперерез, преградив дорогу, и сунул ему крапчатую со скрюченными пальцами руку:
– Мое почтение, сваток!
– Здравствуй, – недоверчиво сказал Парамонов.
– С прибытьем!
– Спасибо.
– Жив-здоров?
– Слава богу.
Помолчали, потоптались на месте. Андрей Иванович, умильно улыбаясь, заглядывая полчанину в неласковые глаза под насупленными бровями, любезно осведомился:
– Куда-то пораньше, сваток?.. По делу али просто так, соскучился? Как ездилось? Благополучно?
«Ишь ты! Сваток… Давно ли в сваты произвел? Впервые слышу. В лесу, должно быть, что-то сдохло», – подумал Матвей Семенович и сердито сказал:
– Ездилось-то благополучно, да вот приехалось неладно. Куда ни кинь – все клин выходит. Яблони поломали, кур истребили, кровать, стулья…
– Это все, милушка, еще туда-сюда, – не дав ему договорить, подхватил Андрей Иванович, – тут, дорогой сваточек, похлеще дельце состряпано. Не слыхал? Колоса рукой не доставал я – пшеница-то под Солонкой… К небу поднялась! За одну ночь…
– Слыха-ал, – угрюмо протянул Матвей Семенович. – Самого бы, подлеца, к небу поднять, кто это сделал.
– Гадай теперь, ищи. Руки́, ноги́ не оставил. А тут, милушка, и не до того было, чтоб искать. Суматоха такая как раз шла! Отступали. Ко мне тоже с ножом к горлу: езжай – и все! Езжай, в одну душу, – и все! Уж нет-то нет отбрехался, спрятался. Удалось как-то. – Андрей Иванович все заглядывал полчанину в лицо дружеским умильным взглядом. – Ну, что нового, сваток, слышно? Какие вести привезла дочка? А? Сам еще не гутарил с ней? Жалко. А Пашку нашего даве Федюнин зачем-то потребовал. В ревком. Посыльный прибегал.
Андрей Иванович хотел было поведать, как Пашка ускакал от кадетов, но старика Парамонова это, кажется, мало интересовало. Он переступал с ноги на ногу, давя сновавших по дороге суетливых муравьев и заодно неповоротливых божьих коровок, и вся его согбенная фигура выражала явное нетерпение. Андрей Иванович понял это. Сказал, что, мол, к обедне уже отзвонили, еще раз сунул руку, и они расстались.
А подле своего двора Матвей Семенович неожиданно повстречался с Пашкой. Радостно было стукнуло в груди у старика, когда он, подходя к палисаднику, увидел у ворот рядом с Надей рослого, в военной форме, служивого. «Неужто Федор?..» Но тут служивый повернулся, видно, уже поговорив с Надей, и быстро зашагал по проулочку. Старик, досадуя на свою подслеповатость, только сейчас узнал его.
– Что так скоро убегаешь? В жизни раз заглянул – и скорей бежать! – сказал он, отвечая на Пашкино приветствие.
– Некогда, Матвей Семенович, ей-бо! Спешу. В путь-дорогу готовлюсь. Кланяйся сынам, отвезу им поклон твой в самом свежем виде.
– Да ну! Вот оно что! То-то я смотрю… Молодцом будешь, если так. Вези, вези, парень. Где-то они теперь? Ни слуху ни духу. – Старик отвел глаза и покряхтел. – А что ж это случилось-то? Так вдруг?
– Так надо, – Пашка как-то виновато улыбнулся, и старик подумал, что, наверно, это случилось не без участия Федюнина.
– А что это председатель тебя требовал? Отец сказывал.
– Приказ о мобилизации объявил. В станицу направляют. Еще односум со мной едет, Латаный. Ему на комиссию надо, но он говорит: поеду прямо в свой полк, разыщу, а то, мол, потом и не попадешь в него. Ну и я с ним. Не направят – сам уеду.
– Так, так. Вот, стало быть… И когда уж этих супостатов белых образумят наши! Какой разор кругом! Что там, на фронте?.. Ничего тебе не говорила Надя, что им в Поповке на собрании поясняли? Никак не удосужусь спросить. Поднялся с зарей и вот все брожу.
– Говорила. Неважно, кажется, пока на фронте.
– Неважно? Охо-хо!..
– Ну, всего, Матвей Семенович. Прощевай! А то дел у меня куча. Побегу.
Счастливо. Храни вас всех господь бог. Ждем вас целыми и невредимыми. Скажи сынам, пускай они хоть изредка, да все же извещают о себе. А то уехали – и как в воду канули.
Распрощался старик с Пашкой и только было, прикрыв калитку, хотел зайти в хату, спросить у Нади о новостях, о вчерашнем собрании – калитка открылась и во двор, опасливо озираясь, вошла Варвара Пропаснова.
– Шагай смелее! – крикнул ей Матвей Семенович. – Тузика боишься? Его же в яр давно оттащили.
– А я уж и забыла… Доброе утро, дядя Матвей, – сказала она как-то печально, – Забыла, что у вас нет собаки. Надежда Андревна дома?
– Дома. Где ж ей быть! Заходи, – радушно пригласил старик и проводил ее до дверей. «Видно, день ныне такой… сам уж посля с Надей поговорю», – подумал Матвей Семенович и направился на гумно, где в этом году у них были посажены картошка и тыквы. «Цел ли хоть огород?»
Варвара, войдя в хату, увидела Надю и залилась горючими слезами. Где тонко, там и рвется. У всех хуторян – у кого больше, у кого меньше, – но у всех, помимо сгоревшего на корню хлеба под Солонкой, были еще и другие посевы. А у нее все богатство, весь посев был только там, на сгоревшем клину.
– Детишки-то… сироты… опять голодными остались! – немного успокоившись, сказала она, сидя на табуретке и утираясь концом ситцевого передника. – Ванюшка мой все утро ныне…
Надя об этой беде уже была осведомлена Настей и Пашкой, и теперь, как только Варвара упомянула о сиротах, она гордо вскинула голову.
– Пока будет наша власть, Варвара Григорьевна, – уверенно сказала она, – детишки твои голодать не будут. Не будут они голодать, нет! – еще тверже повторила она, – Враги большое нам горе причинили, но мы выдюжим. Выдюжим, Варвара Григорьевна! Это они в одиночку нас гнули в бараний рог. Раньше. Теперь не согнут. Не удастся! Ты минуточку посиди, пожалуйста, – добавила она уже спокойнее, – а я покормлю дочку, и мы пойдем с тобой в ревком, к Федюнину. Только не плачь, ради бога. Мы по их милости и так уж наплакались. Вдосталь. Теперь ни к чему это.
… Когда Матвей Семенович, осмотрев огород, вернулся в хату, чтобы расспросить Надю о новостях, ее уже не было дома.
* * *
По решению ревкома и общего собрания бедноты, посевная площадь хуторян, тех, что добровольно ушли к белым с оружием в руках, и тех, богачей, что на днях отступили, переходила в пользу общества и государства. У иных переходила полностью, как, например, у Абанкиных; у иных, у которых остались здесь, в хуторе, дети, – частично, в большей или меньшей мере.
Пострадавшим от пожара была выделена новая площадь. Не всем, правда. Андрею Ивановичу Морозову, конечно, ничего не дали, хоть он и пострадал. В первую очередь дали Варваре Пропасновой. Попала ей деляна пшеницы, сбочь которой еще сохранились заросшие молочаем огромные, уродливые буквы в сажени от дороги: «А. Ф.» (Артем Фирсов). Оставшийся отчужденный посев, сотни две десятин, было решено убрать сообща, всем хутором, и зерно сдать государству.
Всегда небогатые хуторяне, выходя на полевые работы и молотьбу, собираются по нескольку хозяйств. Так было и теперь. Ревком постарался, чтобы у каждой такой группы была лобогрейка-косилка, так как вручную косить было некому. Несколько дней в полях от восхода солнца и дотемна трещали машины, и участки жнивья, усеянные копнами вязаного и невязаного хлеба, заметно ширились.
И вдруг работа оборвалась. В течение какого-нибудь часа или двух все лобогрейки, разбросанные по огромному платовскому юрту, замолчали. Косари, не доезжая до конца гона, поворачивали лошадей, забирали на станах пожитки и спешили в хутор.
Сам Федюнин скакал по полям – одна нога в стремени, другая в ведерке – и предупреждал людей, чтоб тут же ехали домой. В его дежурство по ревкому примчался из станицы нарочный, привез распоряжение: приготовиться опять к эвакуации, немедленно, но с места пока не трогаться – ждать дальнейших указаний.
В конце дня Федюнин побывал в станице и видел, как мимо нее по дороге, идущей на хутор Авилов и дальше через слободу Тростянку на Елань, к границе Донской области с Саратовской губернией непрерывно ползли подводы, нагруженные домашним скарбом. Среди подвод беженцев были и военные обозы. Кучками прошагали вооруженные красноармейцы с шинельными скатками через плечо, взмокшие от пота, пропыленные. Позади красноармейцев – патронные двуколки и тачанка с пулеметом.
То, что Федюнину удалось выяснить о делах на фронте, превзошло даже самые худшие его предположения. Вся железнодорожная линия от Алексиково до Липок – станций десять – была захвачена кадетами. Это – за последние три-четыре дня. Царицын осажден. Войска Киквидзе, не будучи в состоянии сдерживать на своем участке остервенелого врага, отходили в Елань, на переформировку. Про Верхне-Бузулуцкий полк и слухов никаких не было.
Хутор Платовский замер в ожидании. Потянулись тревожные часы и дни, бессонные ночи. Враг был в сорока верстах, на линии. И пока не было силы задержать его, не говоря уже о том, чтобы отбросить. Впереди, в ближайших к Филонову хуторах оставались только небольшие конные подразделения – арьергард дивизии Киквидзе. Собственно, даже не арьергард, а просто конная разведка.
Федюнин и Надя поочередно то и дело наведывались в станицу. Можно ли было положиться только на вестового! Но прошла неделя, страшно долгая, томительная, началась другая, а никаких дальнейших указаний станичный ревком не давал.
В одну из своих поездок Наде пришлось услышать горькую весть о судьбе председателя окружного ревкома и одновременно председателя окружного комитета партии Селиванова. Сообщил эту весть очевидец, слесарь Филоновского железнодорожного депо, старик, бежавший со станции. Надя была как раз в ревкоме, у станичного председателя, когда этот старик заходил к нему.
Всю обратную дорогу, забыв про коня, перешедшего на ленивую рысцу, Надя вспоминала рассказ очевидца, вспоминала слова, сказанные Селивановым в предсмертную минуту, и в душе у нее зрело ясное и твердое решение.
* * *
Александра Селиванова, руководителя хоперских большевиков, организатора первых на Хопре партизанских отрядов, которые, случалось, он сам водил в бой против банд Дудакова и Ситникова, постигла такая участь.
За Урюпинской станицей, на территории, занятой белыми – в селе Танцырей, – он был схвачен. Выполнял партийное поручение: надо было в тылу у врагов поднять восстание.
Врагам удалось опознать его, несмотря на то, что он был переодет в крестьянскую одежду, так как человек он был хоть и молодой – двадцати восьми лет, но в этих местах известный: в свое время учился в урюпинском реальном, из которого был исключен с «волчьим билетом» за участие в революционном движении, с юных лет примкнул к большевикам, устанавливал в округе советскую власть, громя местных атаманов, начиная с окружного, с генерала Груднева.
Из села Танцырей Селиванова привезли в Филоново, в штаб Ситникова.
Ранним утром вывели его, избитого, иссеченного плетьми, на железнодорожный мост, где через металлическую балку вверху уже была перекинута веревка, старая узластая бечева. Говорить ему не дали. Руководивший этим делом офицер – комендант полевого трибунала Рябцев, бравого вида сотник с пушистыми обкуренными усами – сразу же накинул на него петлю, приготовленную заранее, и четверо дюжих казаков, приседая, потянули веревку на себя.
Но едва Селиванов, захлестнутый петлей, поднялся на аршин-полтора над бревенчатым настилом, веревка лопнула. Упали казаки, упал и Селиванов, ударившись щекой о рельс. Мгновение он лежал недвижимо. Потом пошевелил ногой, давя коленкой оброненную, в мазуте, паклю, заворочался, оттянул от сдавленного горла петлю и с величайшим усилием, опираясь о рельс, встал.