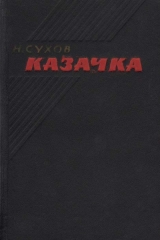
Текст книги "Казачка"
Автор книги: Николай Сухов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 41 страниц)
VI
Андрей Иванович торопился к заутрене – сегодня суббота и день его причастия. На этой неделе он говел: два раза в сутки ходил в церковь – утром и вечером. Вчера на исповеди, как куль с плеч, свалил грехи отцу Евлампию, и сразу будто легче стало. Живой ведь человек, и не ребенок, как не согрешить! А пожил немало – на шестой десяток перевалило, всего на веку повидал. И ближним завидовал, и господа бога вспоминал всуе, и служителей церкви хулил. Вот только прелюбы не стал сотворять – дряхлеть уже начал. С этими прелюбами вчера и вышло такое дело, что вспомнить стыдно.
Сыплет и сыплет отец Евлампий всякими божественными словами, лишь поспевай поддакивать ему. «Крал у ближнего своего?» – «Грешник, батюшка». – «Сквернословил черным словом?» – «Грешник, батюшка». – «Посты не соблюдал?» – «Грешник, батюшка». – «Прелюбы сотворял?» – «Грешник, батюшка». У отца Евлампия крест в руке покачнулся. Открыл замазанную, в восковых крапинах епитрахиль и долго смотрел в седую плешину исповедника. Круто выгнув спину и скрестив на животе ладони, Андрей Иванович стоял перед благочинным, и нос его был уткнут в замызганный поповский подол. – «Прелюбы сотворял?» – тверже повторил отец Евлампий. Андрей Иванович сообразил, что отвечал не думая: «Нет, милушка… нет, батюшка». – «А не брешешь, старый? – громким шепотом сказал поп. – Забыл, как в окно к моей кухарке лазил?» Плешина у Андрея Ивановича налилась алым цветом, прошипел сердито: «Это ж, батюшка, давно было. Ты же снял с меня». – «Все равно нужно каяться». – «Грешник, батюшка», – и одними губами про себя: «…мать твою так». – «Бог тебя прощает, и я прощаю», – и как будто невзначай стукнул по затылку крестом.
Разговор этот произошел шепотом, но то ли подслушал его кто-то из молельщиков, напиравших на аналой, то ли молельщики просто догадались, что между батюшкой и стариком Морозовым происходит что-то неладное – по церкви побежал сдержанный хохоток. «Что вы ржете, яко жеребцы в стойле!» – не вытерпел отец Евлампий.
Каждый год поп, волосатый дьявол, мучил Андрея Ивановича этими прелюбами. Сам, бывало, по ночам, как только захрапит попадья, спустится неслышно с кровати и в одном белье – на кухню, к работнице. До сей поры одолевает ревность, не забудет никак.
Исповедовался вчера Андрей Иванович, а из церкви вышел и тут же согрешил: позавидовал своему ближнему. Да и как не позавидовать! Выгнали Абанкины быков на водопой, а они такие рослые, сытые, один другого краше и крупнее. У Андрея Ивановича даже в суставах защекотало: хоть бы пары две таких, вот бы нос утер соседям! Везет, скажи, людям в жизни! И с богом вроде мало дружат – в церковь-то не часто захаживают, а в гору лезут, как все равно на канатах туда их прут. Кум Фирсов тоже начал кошелем потряхивать. А давно ли приходил пшенички до нови занимать? Что значит быть поближе к Абанкиным! Как ни говори, а богатый человек завсегда помощь окажет: и деньжат по нужде ссудит, и другое ежели что занять – не прогонит. Опять же вес в обществе имеет – при случае словцо может замолвить.
Быков к речке гнали Трофим с работником. Увидя Надиного отца, Трофим снял папаху и низко поклонился, тряхнув чубом: «Здоровеньки дневал, Андрей Иваныч!» – «Слава богу, милушка, Трофим Петрович, слава богу!» И подумал: «Какой ласковый парень, даром что богатый, а почтительный – шапку ломает. Вот бы в зятьки такого залучить!»
Сегодня, пока Андрей Иванович собрался, к заутрене уже отзвонили. Вышел он из двора со святыми мыслями, легким сердцем, как и подобает перед причастием, и обомлел, взглянув на ворота. Восемь лет стояли они, желтые, чистые, доска к доске ровнехонько прилаженные, и ничего с ними не случалось. А то вдруг сделались до жути черными, траурными, как смолой облитые. «Что за оказия, – вытаращил глаза Андрей Иванович. – Уж не сатана ли вводит в искушение?» Не веря самому себе, сдернул варежку и пальцем ткнул в доску. Под ногтем обозначилось жирное, клейкое пятно, а на доске – бурая отметина. «Ми-и-лушки! – застонал старик. – Да ведь это же…» Он только тут заметил, как густой деготь медленно полз книзу, стекал на снег. Одним сапогом старик давил глубокую загустевшую лужу. «Ах, подлюка, ах, такая-сякая! Ребята устроили. Добегалась на улицу!». Забыв о причастии, Андрей Иванович кинулся к амбару, громыхнул запором и вместо кнута схватил бечеву.
Надя в одной нижней рубашке стояла у окна и, потягиваясь, расчесывала гребенкой волосы. Она только что встала с постели. Через розовеющий в саду вишенник, над которым кучками роились грачи, она глядела куда-то вдаль, на бугор. Из-за кургана не спеша поднималось солнце, а чуть повыше, прошитое лучами, неподвижно висело облако. Мысли Нади были безмятежны и спокойны. Она просто ни о чем не думала – смотрела на восход и радовалась новому дню своей жизни. В теле ее все еще бродило смутное и непонятное томление. Она стала замечать за собой, что день ото дня, чем настойчивей пригревала весна, тем все чаще к ней приходила затаенная тревога, мимолетная и неуловимая, как сновидение. А иногда было так: будто в жизни ей чего-то не хватает, большого и важного; чего именно – она и сама не знала, и от этого ей становилось грустно. Но грусть ее была – что вешний на заре туман: солнце выглянет из-за бугра, и туман голубой дымкой рассеется в небе.
Пашка, собираясь ехать в поле за сеном, чинил уздечку, двигал широкими лопатками, мурлыкал песню. Опаловые в подтеках синяки под веками уже завяли, и лишь небольшая на скуле царапина напоминала о масленице. Что таилось под рубахой – то от глаз было скрыто, хотя он и морщился, когда нечаянно его кто-нибудь заденет. Но ему не в новинку: заживало раньше и теперь заживет.
Бешено хлопнув дверью, путаясь в бечеве, в хату ворвался Андрей Иванович. Лицо злое, перекошенное, борода сбита на сторону.
– Запорю-ю-ю су-ук-кину дочь!.. Доходилась на посиделки!
Печатая сапогами дегтярную стежку, он подскочил к Наде и – та не успела повернуться – концом бечевы ударил ее по плечу.
– Опозорила, подлю-юка, на весь хутор опозорила! – срывающимся фальцетом выкрикивал старик. Он замахнулся бечевой еще раз, но руку его сзади поймал Пашка, рванул бечеву.
– Ты с ума сошел! Не дам бить!
Андрей Иванович коршуном налетел на сына, затопал каблуками, но тот скрутил ему руки и усадил на скамейку.
– Довольно, батя, довольно! – спокойно сказал он и, смотав в кольцо мокрую бечеву, отбросил ее к порогу. – Было дело – бил, а теперь довольно.
– А-а-а! Так вы так… та-ак! – хрипя, подпрыгивал рассвирепевший Андрей Иванович. – Сукины дети, шантрапа, потаскухи! Всех разгоню, всех! Первым же сватам отдам! За любого голодранца выдам! Я вас выучу! Я вас проучу-у!
– Да ты толком скажи, что случилось-то, погоди учить, – резонно пробасил Пашка, принимаясь снова за уздечку.
– Случилось вон, случилось! Забор-то весь в дегтю. Случилось! – взвизгивал Андрей Иванович. – И не признаешь. Думал уж – в чужой двор попал.
Пашка удивленно взглянул на отца и насупился.
– Стыдобушки сколько, головушка горькая!.. – бабка закачала седыми прядями. – Где это видано, господи боже! Пост великий, греха сколько… Кто ж это пристряпал? Какие бессовестные люди. Нешто можно?!
Надя прислонилась лбом к холодному стеклу, охватила наличник, и тяжелые подавленные всхлипы сотрясли ее тело. На плече пощипывающим ожогом горел кумачовый рубец. Но неизмеримо горше и больнее была незаслуженная обида. Косые, веником, лучи ударили в окно, скользнули по лицу, и бегущие вперегонки слезы заискрились на подбородке.
Андрей Иванович, остыв немного, бесцельно зашлепал у стола, размазывая по полу деготь.
– Ты чего к причастию не идешь! – накинулась на него бабка, – Говел-говел всю неделю, да и… Вытри сапоги, понагваздал тут. Ровно слепые, нечистый их душу знает. Смотри, поприляпал! – Хрустя мослами, она поползла на корточках, сырой тряпкой начала притирать следы.
Андрей Иванович переобулся, швырнул под кровать сапоги и, не сказав больше ни слова, ушел.
– Будя хныкать-то, расхныкалась! – и бабка ткнула в Надю грязной тряпкой. – Бегают, бегают по улицам, как сучки, а потом реветь начинают. Смолоду, девка, честь берегут, так и знай. Добрая слава – она под водой лежит, а худая по волнам бежит! Так-то! Возьми кипятку да побань ворота. Мож, отпаришь чего. Срамота какая, стыдно глянуть.
Надя оборвала всхлипы, оделась и, достав из печки чугун кипятка, вылив его в ведро, пошла с мутными от слез глазами во двор.
Обжигая руки, плескала кипятком на ворота, водила по ним тряпкой. Вода резвыми струйками разбегалась по жирным доскам, стекала, а деготь не только не смывался, но еще ярче блестел. Надя выплескала все ведро, но воротам нисколько не помогла. Тогда она отбросила тряпку, закрыла лицо черными в дегте ладонями и заплакала.
Пашка, возившийся у саней, услышал рыдания.
Брось, Надька, ну чего ты, – по-братски, с грубоватой нежностью пожалел он, – я вот узнаю, кто это удумал, наколупаю харю, ей-бо! Иди в хату и не мерзни. Никого не слушай, нехай бурчат. А драться я не дам. Сейчас я живо обделаю.
Он принес топор, щипцы; снял ворота с петель и, отрывая доски, начал переставлять их другой стороной.
Когда Андрей Иванович возвращался из церкви, он опять не узнал ворот. Они лоснились теперь желтым тесом, стояли как новенькие. «Что за леший его возьми, приснилось мне али что?» И, уже зайдя во двор, старик догадался:
– А-а, вон что… Ну и дьявол с ними. Лучше, гниль не заведется, сто лет проскрипят! – и деловито постучал костылем по планкам.
VII
Пока еще не совсем развезло дороги, Парамоновы спешили запасти муки. Весна в этом году идет, как видно, ранняя, скоро сев, и возиться с мельницей будет некогда. Через полмесяца пасха, а вальцовочной муки у них – ни пылинки, не из чего будет куличей испечь. Федор хотел было съездить в Филоново, на лучшую в округе мельницу – паровую, к Симбирцеву. Смолоть – так чтоб было как следует. Но Матвей Семенович настоял на водянке. Поближе. Не слишком большие господа – тащиться из-за этого в такую даль, за сорок верст. У них не гурты лошадей, чтоб по такому пути резать их за здорово живешь.
К Парамоновым – ехать на мельницу в складчину – присватался и дед Парсан. Двумя дворами снарядили они одну пароконную подводу. Ехали Федор и Феня. Старики поленились ломать кости. Зато не поленились выпроводить ребят ни свет ни заря, по морозцу.
К восходу солнца они добрались уже до места.
На подъезде у мельницы Федор повернул коней и соскочил с воза. В очереди стояло только две подводы, и это его обрадовало. Феня, болтая ногами и вертясь на мешках, осматривала местность. По берегу Бузулука сплошь тянулся низкорослый кустарник – поддубок и паклен. В зимней наготе кусты тесно переплелись между собой, с трех сторон обступая мельницу. Бревенчатый короб, объятый постоянной дрожью, чудом держался сбоку плотины под обрывом. Вода с ревом падала на колеса, булькала, кипела внизу, и сизые качающиеся столбы брызг хлестали через крышу.
– Ты как, на мешках заночевать решила? – отпрягая лошадей, шутливо спросил Федор.
Феня повела бровями, и скрытая улыбка заиграла у нее на лице.
– Ножки-то я отсидела, ф-ф!.. Ей-правушки, никак не могу.
– Ну и сиди, делов-то!
– Да ты ссади меня, какой ведь…
– Не выдумывай! – Федор покраснел. – Маленькая, что ли!
– А чего тебе… ты вон какой…
Федор прицепил к пеньку лошадей, кинул им сена и зашагал к мельнице.
– Бык упрямый! – Улыбка гасла на Фенином лице. – Ни дать ни взять – бык! – Она ребячливо надула губы, покосилась на Федора – под его упругим шагом тренькали льдинки – и легко спрыгнула с мешков.
В мельнице шум, стук, грохот камней. Вышка, ящики, редкий дощатый пол и все предметы – словно в лихорадочном ознобе. Под ногами – мягкая мучная пороша. Из ящика клубами вылетала пыль, оседала на людях. С завьюженными мукой лицами они толпились у лестницы, раскрывали рты, крича что-то друг другу, но звуков не было слышно. На вышке орудовал ключом маленький в брезенте человек – мирошник, подкручивал гайку. Узнав его, Федор взбежал к нему по лестнице и крикнул в забитое мукой ухо:
– Очередь большая?
– Не-е, – мирошник качнул головой, – вон за энтим будешь, вон, – и ключом указал на усастого верзилу, подпиравшего стояк.
Федор, сойдя с вышки, заглянул усастому в лицо – чтоб покрепче запомнить, – потолковал с ним, пощупал сеянку и вышел наружу. У подъезда увидел два новых фургона, сиявших лаком. Возле запотевших лошадей, отстегивая постромки, возился длинный, сухопарый человек. «Кто ж это такое? – всматриваясь, подумал Федор. – Кажись, Абанкиных работник Степан? Он и есть. Их фургоны».
– Ты один? – спросил Федор, подойдя.
– А-а, здорово! – Степан поднял худощавое отекшее лицо, – Нет, не один – с хозяином.
– С каким хозяином?
– С молодым, Трошкой. Да стой, идол! – и пнул мерина под брюхо.
– С кем? С Трошкой? – с необычайной живостью переспросил Федор. – Где ж он?
Степан в недоумении взглянул на Федора: «Чему он так обрадовался?»
– Ушел к хозяину мельницы.
– Фу, черт! – Федор сплюнул. – Сколько у тебя хозяев!
– Это уж так, – дружелюбно подмигнул ему Степан, и рябоватое лицо его посветлело, – у меня, брат, так: в собаку метни, а в хозяина попадешь.
– Не завидую, паря, не завидую, – поморщился Федор.
Степан Рожков на три года старше Федора. На службу его не взяли по какой-то мудреной болезни, название которой он и сам не знал. Но названия он хоть и не знал, зато крепко чувствовал, как из года в год она сосала его здоровье. Когда-то Рожковы жили рядом с Парамоновыми, и в детстве Федор дружил со Степаном. Потом Рожковы ушли в конец хутора, на просторное с заливной левадой поместье. Это поместье было действительно просторным – степь-матушка расхлестнулась без конца и края, – по для Рожковых оно оказалось несчастливым. Так говорили люди. Они быстро обнищали, захирели, и Степан уже несколько лет скитался по богачам в работниках.
В дверях сторожки показался Трофим. Хромовые сапоги на нем блестели, как в праздник; стеганная на вате поддевка – с иголочки. Весь он выглядел каким-то новеньким, чистым, словно со станка только. Взбираясь на пригорок, уверенно поскрипывал сапогами, попирал землю. В упор столкнулся с Федором и оторопел; маленькие, глубоко посаженные глаза его пугливо забегали. Но он быстро оправился и протянул руку.
– И ты тут? – спросил он, с трудом улыбаясь И ГЛЯДЯ в залохматевшую прореху на Федоровом полушубке – в этом месте был когда-то крючок; видно, в кулачных схватках его вырвали с корнем.
– Тут… – преодолевая вспыхнувшую злобу, процедил Федор. – Приперлись в такую беспутицу. Как бы плыть не пришлось.
– Ничего. Прибьемся к берегу, не робей. – Трофим зачем-то пошарил по карманам, потом спрятал под папаху чуб и повернулся к работнику: – Ты, Степан, зря там привязал лошадей, как бы они… Видишь, видишь… Стой, дуролом! – и поспешно удалился от Федора.
«Все равно не отбегаешься, – Федор с ненавистью смотрел на его бритый затылок, – где-нибудь уж да прижму!»
Феня отпугнула от саней хозяйскую непомерной тучности свинью и, не зная, что бы еще сделать, взобралась опять на воз, развязала сумку с харчами. Федор подсел к ней, насыпал на полог картошки и принялся сдирать с нее «мундир». Феня отломила большущий кусок хлеба и придвинула к Федору. Подшучивая над ним, она хохотала, поблескивая мелкими частыми зубками.
– Ты, Федор, ныне не в своей тарелке, ей-правушки, – говорила она ему. – Мухортый, пасмурный. Не иначе как верблюд на сосне приснился, а может, и страшней чего?
Федор принужденно посмеивался, уминал за двоих картошку и беззлобно поругивал стариков за то, что те по случаю поста не дали им ни молока, ни сала. Пересаживаясь с грядушки на мешок («На один бок наел, теперь на другой», – смеялась Феня), Федор глянул в сторону мельницы и увидел Степана Рожкова. Тот суетливо черпал из фургона пшеницу – мерцала вылощенная мерка. «Куда ж он таскает? Им ведь только к вечеру засыпать». Но вот в мельнице взметнулись крики, донеслась площадная брань, и Федор спрыгнул с воза.
Усастый казак, матерясь, брызгая слюной, наседал на мирошника, совал ему в нос шишкастый обветренный кулак.
Юркий, плутоватый мирошник пятился, таял на глазах, залезая с головой в брезент.
– Я, что ль, распоряжаюсь? Я? – вскрикивал он высоким дребезжащим голосом. – Хозяин приказал, при чем тут я? Иди к хозяину. Мне какое дело!
– Все вы хамы, мироеды, спалить вас не жалко! – кричал казак, и запыленные концы его усов трепыхались, как крылья при полете.
– Ну-ну-ну, ну-у!.. – мирошник грозился сухим пальчиком и все плотнее прижимался к стене. – К атаману за такие словеса! Я те дам «спалить»!
Трофим, пыхтя, оттаскивал на вышке от корца мешки, наставленные казаком; мокрая прядь волос, точно не находя места, металась у него по лбу. Степан, тоже взмокнув, носил из фургона пшеницу, сыпал в корец. В рытвинах его оспенного лица накапливался пот и грязными ручейками стекал за воротник.
«Без очереди, стервецы!» – подумал Федор, глядя на их работу, и почувствовал, как к кулакам приливает знакомый зуд. «Нельзя… свидетелей много, еще в тюрьму угодишь». С усилием подавил в себе желание стукнуть Степана, проскочившего мимо. «Что толку? Его самого заставляют». Опалил мирошника не сулившим добра взглядом и вышел из мельницы.
Окончили молоть Абанкины уже под вечер. За это время Федор выспался как следует, вволю налазился по кустам в поисках прямых дубков и пакленок и, скучая, бродил взад-вперед по плотине, глядел, как в коловерте воды, в яме лилово отсвечивал закат. Степан сыпал в торбы овес, готовился перед отъездом покормить лошадей. Трофим курил, сидя на дышле. Феня хворостиной отгоняла свинью, не желавшую уходить от воза. Больше у мельницы никого не было. Федор свернул с плотины. Проходя мимо Степана, улыбнулся ему одними глазами, шепнул:
– Ну-к сходи на минутку в лес!
Тот откинул мешок и разогнулся. На грязном и потном лице его было удивление. Он хотел было что-то сказать, но Федор так выразительно сморщил переносье и крутнул головой, что Степан только пошевелил губами и облизал их. Торопясь, закончил дележку овса, накинул на лошадей торбы и захрустел ветками.
Услав Феню в мельницу – узнай-де, не скоро ли засыпать, – Федор вплотную подошел к Трофиму.
– Так говоришь, смолол? – снимая варежки, безразлично спросил он.
Тот, бросив окурок, поднял глаза – на выпуклом виске у Федора, повыше брови, билась синяя жилка – и в предчувствии неладного встал с дышла.
– Смолол. А что?
– Да так. Хорошо, мол… смолол пораньше… Раньше и дома будешь.
– Неплохо, верно.
– Вот я и говорю.
– Да…
– Кгым, кгым…
– Кха…
– Дай закурить. – Голос у Федора жесткий, глухой.
Трофим сунул руку в карман и, не спуская с Федора настороженного взгляда, подал кисет:
– Надо бы ехать, а то ночь заходит, – и покрутил папахой, ища работника.
– М-мда, ехать надо. Это правда… Спички есть? – И, как бы между прочим, тихо, сквозь зубы: – А за что ты на кулачках пинком меня лежачего ударил? Помнишь: в стенке, на масленицу.
Трофим ловил в кармане коробку спичек, но пальцы дрожали, и он никак не мог ее взять.
– Что ты?.. – он судорожно глотнул воздух. – Когда я тебя бил?
– Забыл? – прошипел Федор с присвистом. Злоба уже кипела в нем. – А я вот помню, хорошо помню. Да и ты не забыл, брешешь.
Мысленно в этот миг Федор допрашивал Трофима еще и по другому поводу: «А за что ты, гад, осмеял Надю – дегтем намазал ворота? Кто же, кроме тебя?.. Сам намазал иль подкупил кого – все равно. Ты думаешь, она полюбит тебя за это?.. А почему ты молол без очереди – заставил меня, гад, ехать ночью?»
Трофим вытер рукавом пот со лба и в насмешливой улыбке скривил губы:
– Должно, померещилось тебе. Аль, может, во сне увидел.
– Ах ты, шкет! – Федор оскалился. – Ты еще брехать мне будешь! – С зажатым в кулаке кисетом он отвел до предела руку и по своему обычаю тычком ударил Трофима в бок, чуть повыше пояса.
Тот махнул через дышло сапогами и, роняя папаху, смачно шлепнулся в лужу. Вода брызнула во все стороны, и на щеке у Федора повисли мутные желтоватые капли.
– Степа-ан! – завопил Трофим, разгребая рукой кучу конского навоза.
– Заступника и-ищешь! – с багровым лицом трясся и шипел Федор. – Засту-упник понадобился… Вша паршивая. Сволочь! Долг платежом красен. – Избоченившись, он шагнул через дышло и носком сапога двинул еще раз в бок.
– Степа-ан! – Трофим барахтался на животе в своей стеганой с иголочки поддевке, и лужа под ним быстро мелела.
Федор кинул на фургон кисет, метнул вокруг глазами – не подглядел ли кто? – и громадными скачками через раскиданные бревна запрыгал к мельнице. «Степаан!» – в последний раз услышал он, и плеск воды, шум, грохот и скрежетанье камней поглотили все прочие звуки.
Домой Федор возвращался ночью. Отдохнувшие лошади шли бойко, потряхивали гривами. Под санями весело и звонко шуршали льдинки. Ночь, кованная легким морозцем, стояла мглистая, безлунная. Синяя густая муть да короткое фырканье лошадей. Федор пошевеливал вожжами, дремотно почмокивал и мечтал. А Феня без умолку щебетала, посмеивалась и незаметно все теснее прижималась к нему. В кусте дикого вишенника хлопнула птица, пискнула по-совиному и, невидимая, прошелестела над головой.
– Ой, чегой-то такое? Я боюсь! – встревожилась Феня и, спугнув с Федора дрему, приникла к его плечу.
Он вяло покачнулся.
– Что ты полохаешься, как кривая кобыла?
– Да вон посмотри, посмотри! – и, указывая куда-то вверх, локтем оперлась о его колени.
Федор, щурясь, глянул в муть.
– Ничего там нет, выдумываешь все… Да ну тебя! Подвинься хоть немножко, совсем спихнула!
Феня обиженно оттолкнулась от него и умолкла. Украдкой вздохнула. Мгновение в ней боролось женское самолюбие с яростью тела. Подле нее – мешок отрубей. Косясь на смутно мерцавший Федоров профиль, она поддела мешок штиблетом, посунула его и угнала на край воза, к грядушке. На раскате сани встряхнуло, и отруби бесшумно соскользнули.
– Упал! – деланно испугалась Феня.
– Тпру! Кто там упал?
– Отруби, кто ж другой! – С необычной резвостью она соскочила с саней, охватила мешок и, скрытно улыбаясь, охнула, присела на него. – Ой, милый, чегой-то в боку кольнуло, я не могу.
Федор подошел к мешку и швырнул его на воз.
– Садись, а то уеду.
– Да я не могу, ей-правушки, подсади меня.
– Вот навязалась-то!
Он неуклюже облапил ее и поднял на вытянутых руках. Длиннополая донская шуба ее внезапно распахнулась, спутала шаг. Мелко постукивая зубами и вздрагивая, она цепко охватила его шею, прильнула к нему грудью. В лицо Федору плеснулось ее жгучее дыхание, и он споткнулся на ровном месте. В его крови неукротимо забушевало. «А Надя?..» Он с силой оторвал от себя Феню и резким движением бросил ее в сани.
– Дуралей, дуралей! – копошась под мешком, выкрикивала Феня. – Ведь ты ребра мне поломал, истовый дуралей!
Федор шумно и тяжело сопел, что паровоз. В томительном смятении, растерянно стоял подле воза, слушал колотившееся сердце и не знал, что ему делать. «А может, и не узнает Надя?.. Одни. Степь. Как же другие? Кто может сказать?..» Но Феня не поняла его колебаний: начала язвить, насмехаться и расхолодила его. Он нерешительно забрался на воз, щелкнул лошадей кнутом и погнал их рысью.
– А казак тоже, – усаживаясь, тихим смешком переливалась Феня. – Какой же ты казак? Эх ты, мазила!
– Ты не лезь ко мне! – уже окрепнув, заворочался Федор. И, как бы мстя за свою слабость, грозно пообещал: – А то двину ненароком, так и полетишь отсель!
Верблюд, верблюжина! На это ума у тебя хватит, на что другое… Верблюд! – Феня закуталась в шубу и умолкла.








