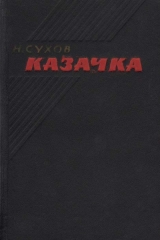
Текст книги "Казачка"
Автор книги: Николай Сухов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 41 страниц)
Они пели еще и еще: про Ермака Тимофеевича, сложившего свою буйную головушку в пенистых волнах Иртыша, когда во мраке блистала молния, шумел дождь и в дебрях бушевала буря; про отважного Ланцова, убежавшего из тюремного замка, спустившись ночью с чердака на веревке, свитой из рубахи и штанов; вспоминали седую старину до тех пор, пока утомленный Пашка как сидел подле колеса, так и свалился на зипун – уснул.
Безучастная, мудро-молчаливая степь – свидетель минувших казачьих лихолетий и буйств – поглотила недосказанную былину, последние отзвуки голосов, и все кругом замерло. С озера поднялась зоревая пахучая прохлада. Она поднялась белесо-мутным туманом и обняла двух сидевших под телегой, тесно-тесно прижавшихся друг к другу людей.
– Надо и нам спать, – еле слышно прошептала Надя, – а то мы засиделись.
– Посидим еще немного, – ласково удерживал Федор.
– Да-а, ишь ты какой, – сказала она и тяжело вздохнула.
Поднялась, постелила себе по другую сторону телеги, шелестя привезенным из дому свежим сеном, и притихла.
Федор курил, лежа между Пашкой и Мишкой, ворочался с боку на бок. Беспокойные, неотступные мысли поднимали его, жгли огнем. Он бросил одну цигарку, но тут же завернул другую. В жарком ознобе, с неукротимой дрожью во всем теле приподнялся на локте, прислушался к сонным ребячьим посвистам. Потом, сдерживая все возраставшее волнение, встал и зашел за телегу. Мгновение стоял у изголовья Нади, укрощая сердце – оно прыгало, распирало грудь – и, не совладав с собой, опустился…
– Фе-едя-я… Что-о ты… – стонущий, еле различимый шепот. И в предчувствии неотвратимого Надя беззвучно зарыдала.
– Надя… Надюша… милая… – Не помня себя, Федор притянул ее безвольное тело, прижал к себе и исступленно начал целовать ее влажные от слез губы и щеки…
X
Трофим пришел домой угрюмый, мрачный. Он только что был в хуторском правлении. Атаман срочно созывал молодых присягнувших казаков. По приказу из округа в недельный срок они обязаны были подготовить боевое снаряжение – коня, седло, всю прочую справу – и явиться в станицу на смотр. Прополз слушок, что казаков досрочно готовят на фронт, в пополнение действующих полков. Но точно об этом пока не было известно: в приказе говорилось только о «своевременной и безотлагательной» явке на смотр.
Трофим сбросил у порога грязные сапоги, пиджак (на улице лил дождь) и, рассеяно взглянув в передний угол, где у стола сидели отец с работником, молча прошлепал к скамейке.
Петр Васильевич постукивал о стол костяшками пальцев, распускал веером седеющую бороду и что-то строго наказывал Степану. Увидя расстроенное лицо сына, он оборвал разговор и повернулся к нему. Но Трофим этого не заметил. Вяло прислонился к косяку, опустил голову и тупо уставился в окно, по которому барабанили крупные дождевые капли.
– Ну?.. Что?
Трофим кинул на работника беглый нетерпеливый взгляд.
– Н-ничего, – сквозь зубы процедил он.
– Вызывали-то зачем?
– Да там…. так… вызывали, – мялся Трофим.
Петр Васильевич испытующе поглядел на сына и заторопил работника:
– Так ты, Степан, поезжай с богом, поезжай. Надень зипун и поезжай. Что? Дождь? Ничего. Знычт, ты же не глиняный, не размокнешь. Дело такое… откладывать нельзя. Давно надо бы.
Степан поднялся – сутулый, длиннорукий, вечно худой – и на носках, широко шагая, пошел из комнаты.
Петр Васильевич протяжно зевнул и потянулся, выпячивая широкую, колесом, грудь. Уж ему ли не известно, что многое из того, что расстраивает человека в двадцать лет, – в сущности, пустяки и мелочь.
– Случилось что-нибудь? – спросил он и, шаркая по полу сапогами, подошел к сыну.
Трофима будто жалили пчелы: он морщился, подпрыгивал, не находя на скамейке места.
– Служить забирают, на войну, – мрачно и часто заговорил он. – Атаман об этом не сказал, да чего там… и так видно. Через семь суток требуют на смотр. К чему это? И при полной боевой. Да путаница какая-то, не пойми-разбери. Иван Кучурин на две недели моложе меня, а его не требуют. Говорят, половина года. Писарь шепнул мне, что, мол, хотят зануздать нас раньше времени. Вроде есть секретная бумага.
– Ну-у, что ты!.. – Петр Васильевич растерянно заморгал. Он ожидал всего, но только не этих новостей. – Рано будто. Ваша книга через год только.
– Чего там рано! Это по мирному времени рано. А теперь… Война с этим не считается, – и Трофим обреченно махнул рукой: стоит ли, мол, языки чесать, когда и так все ясно.
– Гм, война… – в раздумье проговорил Петр Васильевич, точно впервые об этом услышал. – Вишь ты… С немцами да австрияками, знычт. Так, так… Вон оно какое дело. Та-ак. – Расставив кряжистые, что дубовые пеньки, ноги в забрызганных грязью сапогах, минуту он стоял, морща лоб, потом прошелся из угла в угол и заговорил так, словно бы нашел неполадки у своих работников: – Вот что. Воевать пускай идут – кому дома нечего делать. Таких, слава богу, хватает. А нам этим делом некогда займаться. Сергей офицерит у нас, и довольно. Мы и так на оборону всей семьей работаем – полк лошадей сеном снабжаем. Я уж старик, чтоб, знычт, мотаться без конца. Ты не горюй. У меня есть в станице знакомцы, Сергеевы товарищи. Завтра я поеду к ним и обстряпаю живо… Иль ты, может быть, не хочешь отставать от брата, офицером хочешь быть? – И Петр Васильевич натужливо, скрипуче засмеялся.
Он спросил об этом, разумеется, шутя. Разницу между своими сыновьями – Трофимом и Сергеем – он знал. Еще бы! Старшего сына Сергея – теперь офицера действующей армии – в глубине души Петр Васильевич немножко недолюбливал. Недолюбливал он его за откровенное мотовство и нерадивость к хозяйству. Отцовские стремления для него – трын-трава. До службы Сергей немало принес огорчений родителю. Зато Трофим, как бы в награду за все, вышел явно в отца. Смекалкой по хозяйству, хваткой и сноровкой он сейчас уже если и не перещеголяет умудренного опытом и отмеченного сединами Петра Васильевича, то во всяком случае отстанет от него ненамного. И Петр Васильевич не пожалеет ничего, но от себя его не отпустит.
Трофим сразу же повеселел, преобразился.
Офицером быть? – переспросил он оживленно и, понимая отцовскую шутку, в тон ему ответил: – Боюсь, как бы на глаза не повлияло. Они у меня слабые, а от погон все время блеск идет. Как бы безо времени подслеповатым не сделаться.
– Ну ладно, быть по сему. Не горюй. Как сказал, так и будет. Отдыхай, пока дождик сыплет, – Он накинул на плечи пиджак и пошел во двор проверить, уехал ли работник.
А утром, пока старик Абанкин, сидя за столом, потея, дохлебывал молочный суп, Степан выкатил из-под навеса беговые на рессорах дрожки, впряг в них только что обученного рысака и, просунув в щель приоткрытой двери голову, доложил хозяину, что все готово.
– Сейчас, сейчас, – кряхтел Петр Васильевич, – подержи лошадь.
Он вылез из-за стола, перекрестился, глядя не на икону, а на прилепившийся к носку сапога кусочек каши, и, столкнув его щелчком, зашел в свою стариковскую комнату-спальню.
Из сундука достал резную деревянную шкатулку, заплесневевшую от времени. Долго ласкал в пальцах радужные хрустящие бумажки, «красненькие», как называли десятирублевки. Отделил небольшую пачку и с глубоким вздохом сунул ее в кошелек. Замкнув шкатулку, он вдвинул ее в потайной ящик, на прежнее место. «А ну-к, дьяволы, заупрямятся…» Петр Васильевич крякнул и полез снова за шкатулкой: «Запас, знычт, кармана не давит».
Под тяжестью хозяина дрожки плавно покачнулись, пискнули. Петр Васильевич укрепился сапогами на фигурчатых подножках, намотал на руку вожжи и пустил рысака. Застоявшийся пятилеток с места взял крупной рысью, и ошинованные колеса мягко зашуршали по гладкой, накатанной дороге.
XI
Издавна ведется пословица: где тонко, там и рвется. Что в жизни бывает именно так, Матвею Семеновичу пришлось испытать на собственной шкуре. Он уже не однажды это испытывал, но в этот раз почувствовал особенно, до боли. Думал: пока подойдет время Федору уходить на службу, подрастут бычата – осенью подобрал их на покровской ярмарке, – продаст их, вот тебе и справа. Кое-что прибавит из мелкого скота и как-нибудь сведет концы с концами. Ан не тут-то было. Вчера вызвал в правление хуторской атаман и объявил: через неделю вынь да положь справу. Где хочешь и как хочешь, а достань, и все. Хоть укради, лишь не попадайся. Казаков, мол, требуют в станицу на смотр, и чтоб все блестело на них, как и полагается. Для того-де казак и существует на свете, чтоб как крикнул: «В ружье!» – он уж был бы на коне: «Где враг?» И земля, мол, ему для этого дадена.
А что земля, если так подумать? Ее немало, это правда. Но ведь сама-то она, кроме непролазного бурьяна, ничего не рожает. Ее надо смочить потом, обработать. А кто будет обрабатывать, на чем? Алексей – уже два года скоро – и глаз домой не кажет. Мечется с полком по Галиции – из одного прорыва да в другой, а из огня да в полымя. Хоть голову носит, и то слава богу. Федора еще оторвут от хозяйства – тогда и вовсе пойдет все прахом. Одними стариковскими руками гору не своротишь. А Настя какая же помощница? За домашностью надо же кому-нибудь смотреть.
По копейкам да по гривнам старик скопил сотняшку. Но разве ж ста рублями тут дело пахнет? На одного коня надо вдвое больше. На ярмарке лошадки взыграли в цене до двухсот, и с четвертной. А ведь конь – только половина расходов. Седло, уздечки, мундир и все иные причиндалы еще столько же съедят. Бычата – что и говорить! – мелькнут хвостами. Хоть и безо времени, конечно, но куда же денешься? С ними за компанию и с пяток овчонок. И все же этим не покроешь. Где-то надо доставать еще деньжат. А как их доставать? Легко сказать! Не сводить же с база последнюю корову. Тогда и губы-то молоком не помажешь, где уж там скоромиться.
Они сидели во дворе на корыте, советовались. Федор только что приехал с поля. Дорогой он потерял чеку и наскоро выстругивал новую. Уже с полчаса они толковали все об одном и том же: где достать денег? Решили заложить пай земли. Другого выхода не было. Матвей Семенович надумал сходить к Абанкину, к Петру Васильевичу. А Федор уперся, как бык в стену: не нужно да не нужно идти к нему.
– Лучше в правление заложи, чем Абанкиным.
– Да отчего же лучше! – Матвей Семенович, начиная сердиться, заскорузлыми пальцами щипал бороду. – Атаман на шесть красных не накинет, хоть лопни – казенная цена, а Петр Васильевич как-то говорил мне. Тебе чего они? Не один ляд подставлять, что лоб, что затылок – все та же голова. Кто больше даст, тот и батька.
– Не люблю я их! – Федор, морщась, строгал палку, и витые из-под ножа стружки летели на Матвея Семеновича.
Старик крутил головой, моргал, уклоняясь от стружек.
– Ты ровно на свет только народился, пра слово! Затвердил одно: «не люблю» да «не люблю». А на кой грец нужны они – любить их, никак не возьму в толк.
– Ну, как знаешь! С кем хошь, с тем и водись. – Федор откинул со лба волосы и пошел примерять чеку.
Матвей Семенович, зайдя на минуту в хату, наяснил коровьим маслом голову, надел праздничный пиджак и разыскал на дворе костыль. По пути заглянул в шинок, вытряхнул из кисета все, что было в нем, до последней копеечки, и сунул в карман красноголовую бутылку, проданную по особой просьбе.
Будто и такие же люди Абанкины, как и все прочие: и живут всегда здесь же, на глазах, и работают в том же поле, рядом, – а как стал к ним подходить Матвей Семенович, то начал робеть.
«Вот дурак-то! – ругал он самого себя. – Что они, господа, что ли, какие, аль уж дюже образованные? Такие же дроворубы, как я, как все. Чего же их стесняться! Не милостыню иду просить, со своим же добром навязываюсь». И старик, ободряя себя, независимо покашливал, выбрасывал костылик, взглядывая из-под ладони на заржавленного петушка над воротами.
Встретил его сам хозяин, Петр Васильевич. Он услужливо вышел навстречу, пожал шершавую протянутую руку.
– Добро, знычт, пожаловать, Матвей Семеныч, проходи, проходи, – ласково и дружелюбно приглашал он, шагая впереди него.
Матвей Семенович опасливо косил на кобеля, вздымавшегося на привязи, пятился к крыльцу.
– Этот чертан, случаем, не сорвется?
– Не-ет, что ты, не сорвется, не бойся. – И Петр Васильевич с затаеной усмешкой оглянулся на сгорбленного гостя.
Серый, гривастый, что матерый волк, кобель оглушительно бухал, становился на дыбы и, захлебываясь, хрипел от душившего его ошейника. В раскрытой пасти его торчали желтые редкие зубы. В лютом бессилии он скакал взад-вперед по двору, гремел цепью. Вслед за ним, пронзительно визжа и прыгая по проволоке, которая струной была натянута от угла амбара к леднику, скользила огромная шайба.
«Вот попадешься такому сатаилу!» – Матвей Семенович втягивал в плечи голову и, поспешая за хозяином, с завистью рассматривал двор.
Он был чисто выметен, убран. По обочине двора – от калитки и до кухни – тянулся дощатый навес. Под ним в ряд стояли косилки, конные грабли, телеги и прочий дорогой инвентарь. От кухни и до гуменных ворот, по обеим сторонам широкого проезда, лежали базы, огороженные новыми плетнями. На гумне, за рубленой, под жестью, конюшней, высилась соломенная рига, бурым покатым боком заслонявшая небо.
– Весна нынче славная, пригожая. Бог посылает погодки, – говорил Петр Васильевич, тяжело и грузно взбираясь на крыльцо.
– Весна ничего, славная, – эхом откликался Матвей Семенович, глядя на его стоптанный сапог. «Все копит, наживает. Жила!»
– Хлеба ха-араши идут, дух радуется! Не приведи господь какой планиды. И сена… куда там! Надо поторапливаться с покосом.
– Да, поторапливаться надо.
Они вошли в переднюю комнату – прихожую, пахнувшую горячими хлебами, дублеными шубами, тут же кучей сваленными на кровати, еще чем-то терпким и густым, чем пахнет только в крестьянских избах. Против окна, у кровати, сутулилась хозяйка, Наумовна. Латая мешок, она близоруко щурилась, далеко отводила руку с иглой. Матвей Семенович смахнул с головы фуражку, помолился в передний угол на тусклую икону и, отвесив хозяйке поклон в пояс, прошел к столу. Под полой нащупал сургучную головку, засуетился, дергая склянку из кармана.
– Ну, Петро Васильич, выручай! – сказал он, встряхнул бутылку и шлепнул донышком о стол.
– Знычт, жалься. – Абанкин придвинулся к столу и, взглянув на серую метелицу в бутылке, повернулся к жене: – Маша, подай нам пару стаканчиков.
– Нуждишка нас заедает, Петро Васильич, беда! – нерешительно начал старик, раскупоривая бутылку. – Гонишь ее, проклятую, в дверь, а она в окно лезет. Никуда от нее не ухоронишься. Должно, про нее говорят: ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Только станешь вроде бы подниматься на ноги, чуть-чуть крепнуть – хлоп! – какая-нибудь штука, и вот тебе опять… Такая, говорю, иной раз обида возьмет. Да будь ты трижды про-оклят, провались все пропадом! – Матвей Семенович налил стаканы с краями вровень: один стакан к хозяину придвинул, другой поднял сам. – Ну, Петро Васильевич, за ваше здоровье; как говорится, не последнюю и чтобы домашние не журились. – Он разгладил усы, бороду, помигал веками и, опрокинув стакан, громко глотнул.
– Это уж так, Матвей Семеныч, так. Будем здоровы. Га! Ух, ты!.. Маша, принеси нам чего-нибудь солененького.
– Диви бы лодырничали, что ли, как ежли, к тому говоря, али там еще чего, уж не досадно было бы. Или бы зашибали, как иные прочие, по неделе без просыпу, – ну уж куда ни шло! А то ведь кряхтишь день и ночь, везешь, тянешь, а толку на шиш! – Матвей Семенович откинулся к притолоке и показал из-под стола оттопыренный в морщинах палец с изуродованным ногтем. – Да ведь и как тут… Одного сынка справил, проводил – служи царю-батюшке, отражай басурманов. Не успел с силенками собраться – другого надо. А справа-то, она кусается ой как! Ведь это же разор, разор! Кто работать будет? С неба ничего не падает. Быдто израильтянам или кому-то там манна сыпалась с неба – Андрей Иваныч все толкует об этом. А теперь не видать вроде, не стала сыпаться. Работать надо. А кому? Опять же я да я. А какой уж из меня работник? Тут уж, прости господи…
– Да, да, Матвей Семеныч, да, – Абанкин налегал локтями на стол, тупым ножом пилил мягкий обрюзглый огурец, брызгал рассолом, – вот и моему сынку…
– Подыскал я лошадку у сватов, – перебивая Абанкина, все развязней продолжал Матвей Семенович, – меринок справный, ладный. О прошлый год комиссия приняла под строй. Но ведь сто-о во-осемьдеся-ат целковых!.. Это не шутка! Сто восемьдесят целковых надо отвалить. Да и то, спасибо свату, уважил. На ярмарке и за такую цену не уломаешь. Казенную «катеринку», что атаман выдал на справу, отдал вроде бы в задаток, а восемь красных обещал повременить денька два, то ись до послезавтра. А где их достать мне? – Матвей Семенович поднял мутные глаза и молящим взглядом уперся в раскрасневшееся лицо Абанкина, которое показалось ему странно расплывчатым и широким. Неуверенным движением, толчками он взял бутылку, выплеснул в стаканы остатки. – Вот я и пришел, Петро Васильич. Выручай, пожалуйста. Как-то однова ты говорил мне про землицу. Бери паек. Больше нет этого самого… Сними петлю с шеи.
Абанкин медленно двигал скулами, жевал вялые, как тряпки, огурцы, чавкал.
– Оно, как бы сказать, Матвей Семеныч, кгм, кгм! И ничего вроде бы – земля. Да. Ничего, знычт, не плохо. Но и так надо рассудить: всему свое время. Если бы пораньше трохи, я бы и слова не сказал. Мог бы распахать али что. А то будто и того… поздновато.
– Да ведь четыре года, Петро Васильич, четы-ыре! – Старик наваливался грудью на стол, жарко дышал Абанкпну в лицо. – Я не запрашиваю дорого. Как и вопче людские цены. Без запроса. Восемь красных бумажек.
– Во-осемь?! – трезвея, передернулся Петр Васильевич и, теряя дар речи, уставился на собеседника глубокими округлившимися глазами. – Знычт… то ни токма, ты… чего ж это, Матвей Семеныч? Мне, знычт, за шесть навязывают, бери только. С руками рвут. Вот как. Не-ет, Матвей Семеныч, это невмоготу. И не слыхал я таких цен. Нет, нет, никак невозможно, – и он, двинув стол, откачнулся на аршин от гостя.
– Да Петро-о-о Васильич! – уже кричал расслабленный, опьяневший старик. – Мне не богатеть с твоих денег, ты сам посуди. Не хоромы ставить. Я только душу спасаю. Мне – во! – он раскорячил пальцы и черкнул себя рукой по коричневым бороздкам на шее. – Во! А подай восемь красных. Четыре круга, Петро Васильич, четы-ыре. И напашешь, и сенов накосишь. Опять же лесные угодия, луг и все такое.
Абанкин качал мокрой, смоченной рассолом бородой, сметал со стола огуречные семечки, крошки хлеба.
– Как можно! Нет, нет, никак этого нельзя, никак. Что ты, Матвей Семеныч, где это видано? За шесть красных так и быть.
– Приба-авь, Петро Васильич!
– Не могу-у, Матвей Семеныч!
– Приба-авь!
– Ника-ак невозможно!
– От твоих капиталов – капля в море.
Абанкин мялся, мычал, пыхтел и наконец с каким-то хрипом тяжело выдохнул:
– Кгм, знычт… ну, уж, знычт, ладно. Быть по сему. Для дружка – сережка из ушка, ладно. Пятерик накину, так и быть. От себя оторву.
В комнату вошел Трофим. Он неприязненно взглянул на Матвея Семеновича и, не здороваясь с ним, подошел к отцу. Уткнул ему в зашеину козырек фуражки и загудел над ухом, зеленоватыми глазами поблескивая в сторону гостя.
– Ну вот еще! – и Петр Васильевич отсунул его. – Вы там улицы не поделили, а я через вас человека обижать буду. – Он сказал это намеренно громко, так, чтобы услышал Матвей Семенович, а тихо: – Дурак, не мешай!
Трофим поскреб пятерней в затылке и сердито хлопнул дверью.
– Так я эт-та… согласный, Петро Васильич, согласный, – и, едва удерживаясь на ногах, старик поднялся. – Спасибо за выручку. Мы как: бумагу будем писать иль как?
– По закону оно положено, полагается. Маша, принеси нам вексель. И чернильницу. Там она, в шкафу, плесни в нее водички. И деньжат Матвею Семеновичу.
– Каких вам деньжат! – вскудахталась Наумовна. – Вы земли не чуете… Завтра напишете. Проспитесь сперва.
– Завтра? Ну-к что ж! Завтра так завтра, – миротворил Матвей Семенович, надевая фуражку не так, как давно уже носит – козырьком на нос, а по-молодецки, чуть набекрень. – У бога дней много. И завтра день будет. Мы на все согласные. Э-э, ну-к что ж! – и махнул рукой.
Домой шел старик уже богатым и молодым. Мимоходом хотел было заглянуть в лавчонку – просто ни за чем, так, посмотреть, кто там есть, – но порожек у лавчонки оказался таким высоким, что, как он ни старался на него взобраться, никак этого сделать не мог. Нога со спущенным чулком оторвется от земли, поднимется в направлении порожка, но вот ее будто судорогой сведет, и она сунется куда-нибудь в сторону. Матвей Семенович, шарахаясь туда-сюда, лишь руками разводил: и когда, подлецы, устроили такой порожек, не заметил он.
– Мишка, Миш!.. – крикнул он, увидя у калитки внучонка. – Ты чего, сукин кот, бездельничаешь?
Босоногий, черный от загара малец играл «в коняшку». Сидя верхом на хворостине, он придерживал ее одной рукой, выгибал кверху, а другой – пощелкивал по ней палкой, как подгоняют плеткой лошадь. Приседал, кружился, задирал стриженую, в белых пятнах голову и ржал молодым жеребчиком: «И-и-го-го!..» Подскочил к деду, взбрыкнул раза два и дернул его за пустой карман.
– Тпру, коняшка, дедоку задавишь!
– Ах ты, сорванец окаянный; ах ты, Соловей-разбойник, ты это… нешто можно?.. – Матвей Семенович пригнулся, вытянул руки и хотел было поймать внучонка. Но тот ловко поднырнул под его руку и увернулся. – Ах ты, вьюн бесхвостый! Ну-к поди, я надеру тебе уши.
– Хо, какой хитрый, а ты поймай! – И запрыгал на одной ноге. – А чего, дедок, на бороде у тебя? Семечки какие-то, ма-ахонькие.
– Ну, ну, семечки, какие там семечки, кто их там сажал! – Матвей Семенович клюнул носом верею и, вычерчивая ногами замысловатые фигуры, полез в ворота.








