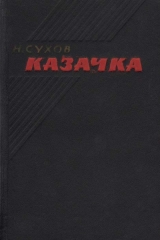
Текст книги "Казачка"
Автор книги: Николай Сухов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 41 страниц)
– Куда ты?
– Да тут… в картенки приглашали.
– А-а-а!
Пашка медленно вывернул Трофимов шелковый с вышивками кисет, потряс им и, скрутив бумажку, зачерпнул табаку. Цигарка внезапно развернулась, смялась. Пашка высыпал из нее табак, бросил бумажку под ноги и начал крутить новую. Трофим сидел как на иголках, проклиная и себя и Пашку. «Черти дернули его закуривать в эту минуту. Полчаса теперь провозится. Впору хоть кисет бросить, да неудобно: заметно очень». Наконец Пашка закурил, свернул кисет и отдал. Трофим наскоро распрощался и вышел.
На дворе давно уже стояла ночь, лунная, безоблачная. Под окнами никого уже не было. Небо вызвездилось в морозной стыни и слепило ярким голубым сиянием. Над головою веером расстилался «Батыев шлях». Надя скрипела заиндевевшим журавлем, перебирала руками. По улице, цокая подковами, пронеслись чьи-то запотевшие, в парном куреве рысаки. За крашеными санками-козырьками клубился звездным роем взвихренный снег, просвечиваемый лучами месяца. «Эх, вот бы так прокатиться с Надей!» – позавидовал Трофим и преградил ей дорогу.
– Пусти, Трошка, отец ждет.
– Подожди, Надя, хочу чего сказать.
– Ну?
Не выпуская из руки ведра, она остановилась перед ним, насмешливая, недоступная, совсем не такая, как на людях, и он заглянул в ее лицо. Широко открытые большие глаза ее в нетерпении блеснули, и блеск их показался ему таким же холодным, как и мерцание воды в ведре. Но он не из тех, которые теряются при первых неудачах.
– Теперь масленица, Надя, – сказал он нежно, – поедем кататься, а? Тройку заложу.
Она коротко усмехнулась, глядя куда-то через его папаху, и усмешка эта прожгла Трофима насквозь.
– Выдумал! Советовался с кем иль один придумал? У нас свои кони есть. Пусти!
Чтоб обойти Трофима, она шагнула в сторону, в сугроб, и неожиданно для самой себя расхохоталась, сверкнула зубами. Ведро накренилось в ее руке, и янтарные брызги заплясали у Трофима на валенке. Надя захохотала еще громче и в бессилии опустила ведро.
– Блинешник, ха-ха-ха, блинешник! Пашка мне рассказывал – тебя дразнят так. Блинцы об рождестве на воротах развешивал. Ха-ха-ха!..
Сдвинув на лоб папаху, Трофим стоял, как примороженный, и не находил слов для ответа. Злость и обида комом застряли в горле.
Надя оборвала смех так же неожиданно, как и расхохоталась. Подхватила ведро, встряхнулась и легкой припрыжкой побежала к крыльцу; платок развевался у нее за плечами.
V
С самого раннего утра Федор ходил хмурый и сердитый. Его не радовала и масленица. С постели поднялся – еще и Настя не вставала, пошел убирать скотину. Ходил по двору и вполголоса ругал кого-то. Все не по нем нынче было: и вилы стояли не на месте, и ворота были завязаны не так, и стог сена не с той стороны начал отец. А мерин, будто в насмешку, подпер ворота задом и задремал, подогнув задние ноги. Федор отхлестал его хворостинкой. Корову не стал поить в наказание за то, что она не отелилась к масленице. В хату вошел – и тут непорядки: кот забрался на стол и развалился, как на перине. «Брысь, дьявол!» – и Федор сшиб его рукавицей.
А с чего бы все это – Федор и сам не знал. Правда, отец говорил вчера, что встречать служивого к Морозовым приходил сам Абанкин с сыном, и они якобы сидели у них до самой полночи. Ну и леший с ними, пускай хоть каждый день ходят и прохлаждаются не только до полночи, а и до зари – какое до них Федору дело! Если им так нравится этот Милушка, пускай хоть никогда не расстаются с ним – пожалуйста! «А Трошка, должно, приставал к Наде?» – и Федор резким движением отодвинул от себя тарелку с блином.
– Ты чего, как дед Парсан, сам с собой гутаришь? – засмеялась Настя.
– А ты чего ж сырым блином потчуешь?
– Каки-им? Сырым?.. – И Настя, поджав губы, без нужды загрохотала в печке кочергой. – На тебя не угодишь! Никак уж гремит на сковороде, и опять все не по вкусу.
– Он, мам, всею ночь прокувыркался, – из-под полы высунулась Мишкина ежиком голова, – ничуть не дал мне вздремнуть, все бока протолкал.
Федор сморщил переносье и вылез из-за стола.
Ему хотелось поскорей увидеть Надю, расспросить, что у них делалось на вечере. Сходить к Морозовым, будто к Пашке, – ведь ныне же праздник. Но, кажется, еще рано. Солнце только что показалось и ползло так лениво, что впору было его хоть слегой подталкивать. Чтоб скрасть время, Федор не спеша начал наряжаться. Сапоги наваксил так, что хоть глядись в них вместо зеркала; праздничный вицмундир синего сукна полчаса тер щеткой – не оставил ни пылинки; вокруг шеи накрутил дымчатый пуховый шарф с витыми махрами; один конец через плечо кинул – махры ниже пояса, другой – впереди, почти до колен.
День выпал на редкость теплый, солнечный. С камышовой крыши амбара четко вызванивала капель, шуршали осыпающиеся сосульки. На ветках раины прыгали нахохленные воробьи, щипали друг дружку и без умолку чирикали. Пахло весною: талым снегом, курящимися кучами навоза и соломы, а от садов – тончайшим смолистым испарением. По улице гурьбой сновали подростки, травили собак и боролись в обнимку. По ухабистой дороге изредка ныряли сани-розвальни, и в них полно детишек. На все лады пищали они всяк свою песню, напоминая цыплят в гнезде. Федор, неторопливо шагая, посматривал по сторонам, лущил семечки и поплевывал.
Подходя к Морозовым, он увидел, что Пашка распахнул ворота и вывел пару впряженных в козырьки лошадей. Дуга – в ярких полосках материи, зеленых и красных, навитых вкось. Под дугой – малюсенький, чуть слышный колокольчик. В козырьках теснились девушки.
– Скорей, Федор, скорей! – кричал Пашка, взбираясь на козлы.
– Чего это вы вздумали? – спросил Федор.
– Это вон они, – и Пашка кивнул на сестру.
В дубленой шубке, с курчавой опушкой на воротнике и полах, Надя полулежала среди девушек, и локоть ее уютно покоился на Фениных коленях. Из-под голубой каемки платка на Федора смотрели ее искрящиеся смехом глаза. Федор пристально заглянул в эти глаза, и с него сразу же спала какая-то тяжесть. Пожав девушкам руки, он обменялся с Надей улыбками и вскочил на козлы. Ему не терпелось остаться вдвоем с ней, поговорить, но как избавиться от компании? Пашка опоясал лошадей кнутом, направил их на дорогу и покачнулся к Федору:
– Ты слыхал, паря, чего атаман удумал?
– Нет, не слыхал. А что?
– Говорят, из Михайловки три ведра водки привез. Во, паря! Хочет, чтоб на кулачках ныне цокнулись, как бывало. А то, мол, старичье повесило носы. Вроде самых ядовитых водкой будет угощать, ей-бо! Вот житуха! Теперь бородачи дуром полезут, отбоя не будет. И скачки вроде тоже.
– Ну-к что ж. Посмотрим. – Федор, поворачивая голову и наклоняясь, заглядывал в козырьки.
На Большой улице – центральной в хуторе – стали чаще встречаться подводы, всадники. Несколько парней гарцевали на подседланных конях. Престарелый казак, как видно выпивши, в одной гимнастерке, без шапки мчался, стоя в седле, – сверкали лампасы, развевался чуб. Его нагонял другой, помоложе; держась за переднюю луку, он прыгал на галопе с коня, перекидывал через него свое послушное тело справа налево и обратно. Ребятишки тучами носились из конца в конец, улюлюкали, свистели и градом снежков осыпали всех проезжающих.
Федор еще издали увидел Трофима на породистом скакуне. Седло дорогое, уздечка в блестящем ракушечном наборе. Удерживая на месте коня, он зубоскалил с девушками, окружившими его толпой. Но вот он отделился от них и, покачивая плеткой, шагом поехал по улице. Поравнялся с козырьками, сердито взглянул на Федора, затем на Надю и отвернулся, сделав вид, что не заметил их, хотя чуть не зацепился стременем за оглоблю. «Какая молодчина Надя, ну что за молодец! – возликовал Федор. – Не иначе как вчера чего-нибудь… Одернула его». Он посмотрел на Надю благодарным взглядом, и она, словно поняв его, ответила улыбкой.
– Федька Парамонов, будешь узелки ловить? – крикнул, подъезжая, белобрысый, добродушный паренек, сосед Федора, – Бери жеребца, если хочешь. А то у меня не выходит.
– Какие узелки?
– Да там атаман бросает, игру учинил. Бери, коль согласен.
Ну конечно, Федор согласен. После сделанного открытия усидеть ли ему на козлах! Теперь бы доброго коня да через барьеры! Но он все-таки повернулся к Пашке, как бы спрашивая общего согласия, – ведь они кататься выехали. Тот одобрительно кивнул. Федор сбросил с себя шарф, перчатки и, подойдя к коню, легко вскочил в седло.
Подле правления, на плацу, атаман устроил состязания. Всячески стараясь поднять дух казаков, приунывших за время войны, он не пожалел ради масленицы полсотни рублей из хуторской казны для лучших джигитов и кулачников. На дорогу он бросал носовые платочки с завязанными в уголках монетами. Платочки эти нужно было подхватить с коня на карьере. Саженях в семидесяти от правления сгрудились с десяток всадников. Когда подъезжал к ним Федор, от них оторвался не очень ловкий седок на приземистой лошадке. Федор усмехнулся, узнав в нем деда Парсана. «Вздумал на старости лет. Выпить не терпится». Дед Парсан направил лошадь, приосанился и, желая блеснуть удалью, выпустил повод. В нескольких саженях от платочка он рывком перегнулся, выбросил руку, но потерял равновесие и нырнул с седла. Чиненый, с губастой подметкой сапог застрял в стремени, и дед, болтая бороденкой, потащился по снегу вслед за лошадью. Под дружный во всю улицу гогот лошадь остановили, высвободили деду ногу; тот вскочил, встряхнулся – и как ни в чем не бывало.
– Ну как, показал, дед, гимнастику? – подсмеивался Латаный.
– А чего ты скалишься, как кутенок! – огрызнулся дед и, приплясывая, пятерней выскребывал из бороденки снег. – Я старик, да не боюсь полиховать трохи, тоску разогнать. А ты молодой, да что из тебя толку! – И перед носом Латаного дед поддернул брючишки, выражая этим полное к нему презрение.
Платочек подхватил молодой казак, скакавший вслед за дедом. «А, пожалуй, зря я ввязался, – струсил Федор, – конь неизвестный, кто его знает. Полохнется как раз – стыда не оберешься». Но вспомнив, что за ним теперь следит Надя, он отпугнул эти мысли и ладонью похлопал жеребца по золотистой шее. «Не подгадь, дружок, вывези». Подбористый полукровок тряхнул маленькой точеной головкой, застрочил ушами и насмешливым глазом покосился на Федора.
Атаман бросил новый платочек. Проскакал один, другой, третий всадник, а платочек все лежал. Дошел черед и до Федора. Он насунул поглубже шапку, выравнял повод и двинул коня каблуком. Жеребец вытянулся, взял с места в карьер. Федор припал к луке и почувствовал, как хмель задора иглами прошел у него по жилам. Перед глазами мелькнула пестрая шеренга людей, словно бы с одним вытянутым лицом, ражий седобородый атаман при медалях во всю грудь и насеке, зеленые ставни окон правления… Но взгляд Федора был прикован к распростертому на снегу платочку. Он стремительно летел к нему навстречу, и ветер полоскал его синеватые уголки. На мгновение Федор как будто упал с лошади. Смушковая шапка его далеко отскочила, густые в черном отливе волосы рванул ветер. Но вот он, как пружина, изогнулся, выпрямился и снова очутился в седле. Платочек трепыхался в его пальцах.
Атаман усложнил игру. Вместо платочка он бросил на дорогу засургученную бутылку с водкой. Дед Парсан с великим вожделением глянул на нее и завздыхал:
– Ах, мать честная! Устарел я… Ни в жисть бы не утерпеть!
– Куда уж тебе! – Латаный, как тень, не отставал от него. – Ты бабу на печке и то не поймаешь.
– Изыди, поганец! – дед Парсан затрясся в ярости и замахнулся концом повода. – Что прилип, как репей к хвосту. Потяну вот через лоб!
Латаный захохотал, мерцая на солнце бордовой щекой, и попятился в толпу.
Несколько всадников тут же выехали из строя. Остались только шесть человек. Первый раз все шестеро проскакали впустую. Федор только сдвинул бутылку: едва поднятая с места, она тут же выскользнула из руки. Зато во второй раз под крики и свист одобрения он уже не выронил ее.
Гордый своим успехом, Федор вручил жеребца хозяину и подошел к козырькам.
– Гульнем вечерком? – сказал он, мигнув Пашке, и бросил бутылку на козлы.
– Молодец, Федор! – похвалил тот и сунул бутылку в карман. – Гульнем, приходи, кума, косоротиться! А пока садись, а то девки заскучали.
– Эх, никудышная масленица! Ну что это за скачки! – II тоскующими глазами Федор поводил по сторонам, – Тюха да матюха, ни одного доброго казака. Дед Парсан за главнокомандующего. То ли было прежь, до войны!..
– Ну ладно, было, да сплыло. Садись! – Пашка дернул вожжи и хлестнул лошадей.
Он немилосердно гнал их, дразнил кнутом собак, гикал на встречных и правил по самым глухим, бездорожным закоулкам. Пашка испытывал большое наслаждение от того, что сани, мечась из стороны в сторону и подпрыгивая на ухабах, в любую минуту могли свалиться набок. Визги перепуганных девушек только раззадоривали его.
А когда он, вспенив лошадей, свернул снова на плац, здесь уже было ни пройти, ни проехать. Атаманова приманка сказалась здорово. У пожарного сарая кишмя кишела толпа, огромная, возбужденная. Была запружена вся улица, от одного забора и до другого напротив. Как катящийся снежный ком, толпа эта росла, плотнела и все дальше продвигалась от сарая в улицу. Разномастные папахи и шапки ныряли, что поплавки в волнах. В барахтающейся куче людей кто лежал, кто стоял, кто сидел, и все махали руками. С обеих сторон в эту кучу с большим азартом кидались люди. Безусые и седобородые, длинные и коротенькие, в тулупах и раздетые. Они наскакивали друг на друга, сшибались, падали в снег, снова вскакивали и снова сшибались. Не было ни ругани, ни криков. Только – сплошной храп, топот и пыхтение. Изредка лишь кто-то взвизгивал надсадно и глухо, как из колодца:
– Забегай, забегай, наши, забегай!..
Пашка привстал на козлах.
– Гля-ка, паря, никак нашу стену лупят, ей-бо!.. – и, бросив вожжи, спрыгнул с козел – Бежим, Федор!
– Куда ж вы нас бросаете? – пропела Надя таким притворно-испуганным голоском, что Федор, соскочивший вслед за другом, невольно приостановился. Надя, играя бровями, расхохоталась, и Федор, в растерянности махнув рукой, нагнал Пашку.
Обегая хомутовскую стену, прорезаясь сквозь толпу к своей стене, парни лезли напролом, сталкивали людей. Им подставляли подножку, цеплялись за рукава, карманы и всячески преграждали путь: за ними прочно держалась слава лучших кулачников с большеуличной стороны и пропускать их в стену было невыгодно. Но парни, работая локтями и изворачиваясь, пробирались все дальше.
Позади большеуличной стены, за частоколом спин, как оглашенный подскакивал и кружился дед Парсан. У него в кровь была разбита щека, оцарапаны губы. Он прикладывал к щеке кусок снега, на холостом, так сказать, ходу вертел кулаком и неистово орал:
– Забегай, забегай, забегай!..
Пашка дернул его за ворот полушубка:
– После будешь лечиться, пошли!
– Куда ж вы запропастились, нечистые духи! – обрадовался дед. – Нам дыхнуть не дают. Пошли, пошли! – Он тряхнул куцей бороденкой, засучил по локоть волосатую руку и полез за ребятами в людское месиво.
На левом крыле стена хомутовскнх была реже, и внести сумятицу парни решили отсюда. Рука об руку они внезапно выросли на передовой линии, и от первого же тычка Федора свалился, как сноп, престарелый казак, тот самый, что джигитовал, стоя на седле. Падать ему было некуда – сзади и с боков подпирала толпа, – и он, обмякнув, присел на корточки.
Федор всегда дрался с усмешкой, словно бы участвовал в самой безобидной игре. Он обнажал в улыбке зубы, на совесть посовывал кулаками и одного за другим, как говорят, кувыркал с казанков. Пашка же бил по-своему: не тычком, как Федор, а с размаху. Словно ветряная мельница, взмахивая то правой, то левой рукой, он был как бы прикрытием для Федора – ограждал его от бокового опасного удара. Левое крыло они, со свежими силами, смяли быстро. Многие из хомутовской стены, уже измученные свалкой, завидя Федорову усмешку, ложились заранее, так как отбегать было некуда. Попадать между Федором и Пашкой охотников находилось мало.
Но вот Пашка заметил, что с правого крыла хомутовских к ним продвигается, отшвыривая трухлявых большеуличных старичков, самый известный в хуторе кулачник – отставной казак Моисеев, человек в соку, заматерелый. Его удавалось сшибить только раз в году, да и то не в каждом. Втиснута в него нелюдская сила, хотя и скроен он был не очень ладно: сутулый, с обвислыми плечами.
Рассказывают: однажды с поля он ехал с возом сена. В дороге его застал дождь, и на колеса стала налипать грязь. Лошадь спустила отяжелевшую арбу в балку, а на горку – покрутила хвостом, подергала, и ни с места. Тогда он отпряг ее: «Волки тя ешь!» – и, взявшись за оглобли, вытащил сам. А еще был случай, когда сломалось колесо под воловьим возом – ехал со снопами. Он подлег под арбу, приподнял угол и, сбросив сломанное колесо, надел другое.
Этот силач теперь легко покачивал руками, будто рожь косил, и большеуличные никли целыми пачками, ложились к нему под ноги. Увидя улыбающегося Федора, он тоже раздвинул прокуренные усы и ощерил редкие лошадиные зубы.
– Ну, чего ж… стукнемся али как? – хриповато и спокойно сказал он.
Если Федор всегда шел напрямки и в открытую, то Пашка умел хитрить, хотя сражался вполне честно, самоотверженно и по всем правилам. Он знал, что одолеть Моисеева обычным путем им не под силу: тот и вблизь их к себе не подпустит. Тогда Пашка пошел на хитрость: подождал, пока Федор один приблизился к Моисееву на удар, а тот уже занес кулак величиной с недозрелый арбуз, – волчьим броском, непредвиденно для Моисеева, ринулся к нему на грудь. По многолетней практике Пашке хорошо было известно, что сразить противника без дистанции нельзя.
Пока Моисеев отталкивал Пашку, освобождая себе руки, Федор откинулся назад и со всей силой приложил кулак к его стальным ребрам. Моисеев захрипел каким-то нутряным хрипом и, потемнев лицом, упал на колени. Но тут же вскочил, и Пашка неожиданно оказался верхом на нем, обняв ногами его толстую шею. Десятки рук из-за Моисеева потянулись к Пашкиной спине. Федор испугался: по законам драки, нележачего – бей сколько влезет. Так «ловят» в стенах, когда мстят: одни держат, чтоб не упал на землю, другие бьют. Федор мотнул головой, сбрасывая надвинувшуюся на глаза шапку, напрягся и, не щадя себя, ткнул Моисеева в грудь. Он ткнул его лбом, с разбегу, как дерутся бараны. Моисеев из-под низу щелкнул его кулаком в лицо и вместе с Пашкой повалился в толпу. Тут же упал и Федор, чувствуя, как в ослепленных глазах брызнули искры. Хомутовская стена надвинулась на них, полезла, и большеуличные, потеряв опору, начали отступать.
Когда через Федора в последний раз мелькнули чьи-то большие подшитые валенки, он приподнял голову и хотел было привстать. Но вот под пах пришелся резкий пинок, и он вздрогнул.
– Куда смотришь, раззява, рас!.. – вспылил Федор и быстро повернулся. Ударный конец фразы он хотел неосторожному кулачнику метнуть в лицо – думал, что это кто-нибудь нечаянно. Но подле никого не было. В толпу, нагоняя отставших, бежал, согнувшись, Трофим Абанкин. «Ах ты гадина! – Федор заскрежетал зубами. – Ведь это он постарался…»
– Забегай, забегай, забегай! – как чибис на болоте, кричал где-то дед Парсан.
Опираясь на руки, Федор тяжело поднялся. На утоптанном снегу под ним краснело круглое пятнышко – натекло из носа. Шапка, втолоченная в сугроб, торчала неподалеку линялым верхом. Федор поддел ее носком сапога, пошлепал по коленке, выбивая из нее снег, и надел.
Пашка и Моисеев, наперебой сопя, отряхивались.
– Ну, ты ничего? – доставая кисет, улыбнулся Пашка.
– Ничего. Вот этот чертила, должно, портрет мне испортил. – Федор отнял от носа кусок заалевшего снега и бросил в Моисеева.
– Го-го-го! – заржал тот. – У тебя все на месте. А ты чего же, волки тя ешь, брухаешься, как козел. Мне аж дыхать больно… Да ты зажми нос и – кверху, кверху, в небо гляди. Все до свадьбы заживет. – Он дружелюбно обнял Федора и за подбородок поднял ему голову.
– А я, паря, Латаного по морде звезданул! – вспомнил Пашка. – Не разберешь теперь, на какой щеке у него сланец, ей-бо!..
Они свернули цигарки, насыпали из Пашкиного кисета и закурили от одной спички.
Людской вал колыхался, вздрагивал и мутной волной катился назад – хомутовские опять отступали. Глухой шум все чаще прорезался резкими призывающими выкриками. Дед Парсан умолк, видно занятый делом.
– Так говоришь, стукнулись? – Федор засмеялся.
– Добре, очень, – похвалил Моисеев. – А то что эти… как куга гнутся. Не успеешь и руки донесть, они – как на ногах не стояли. – Пуская через нос столбы дыма, он торопливо, без отрыву высасывал цигарку. – Надо идти, а то вишь!.. – и озабоченно кивнул, указывая на приближавшуюся стену.
– Иди, мы тоже, – не удерживал Федор. И когда Моисеев, увалисто раскачиваясь, скрылся в толпе, шепнул Пашке – Вот чего, давай-ка поймаем Абанкина. Он, сволочь, лежачего меня ударил. Я ему не спущу.
– Трошка? Ах, стервец!
Они бросили окурки и поспешно пошли в стену.
На этот раз большеуличные, отжимая хомутовских правым крылом, на котором действовали Пашка с Федором, теснили их все дальше к пожарному сараю. Распугав девичью улицу, вытолкнули на плац и повернули к церковной ограде. Возле ограды, в глубоких, еще не утоптанных сугробах схватка завязалась особенно ожесточенная. С разбитыми лицами, с синими отеками под глазами, с исцарапанными щеками, в каком-то диком, до безумия, азарте, люди лезли стена на стену, по-звериному рычали, мяли, душили друг друга, и никто не хотел сдаваться, никто не хотел признать себя побежденным.
На колокольне зазвонили к вечерне. Звонарь, наблюдая с вышки за ходом боя, попытался было образумить людей своими средствами. Он, как при пожаре, дергал во всю мочь за веревку; надтреснутый двухсотпудовый колокол выл, стонал, глушил людей медной жалобой. Из потаенных убежищ шарахались перепуганные голуби и с тревожным воркованьем перескакивали с купола на купол, кружились над церковью. А люди, озверев, все продолжали свое.
Из церкви, распуская по ветру кудлы, притрусил поп, отец Евлампий, в длиннополой рясе. Он протискался между стен, потрясая над головой крестом, и на весь плац громогласно зыкнул:
– Опомнитесь, слуги диаволовы! Церковь… церковь святую не поганьте! Весь приход мне разогнали!
Моисеев легонько оттолкнул деда Парсана, подскочившего к нему разъяренным гусаком, и, опуская кулаки, смущенно улыбнулся. Низко поклонился попу, мигнул глазом, под которым, казалось, была раздавлена слива, и полез в сугроб за папахой. Кулачники смешались, начали прятаться друг за друга и вяло, с ленцой потянулись от ограды. Моисеев поймал деда Парсана за рукав полушубка – на плече у того, щетинясь, зиял разодранный шов – и пробубнил над ухом:
– Ну, теперь к атаману… водку пить.
– Эт-то мы с нашим почтением. – И дед корявой ладонью смахнул из-под носа сукровицу.
Через несколько минут плац был уже пуст. На утрамбованном снегу пестрели бурые следы крови.
…Поймать Абанкина в этот раз Федору не удалось: в последних схватках его уже не было.








