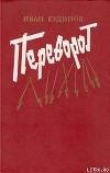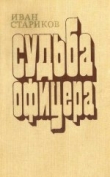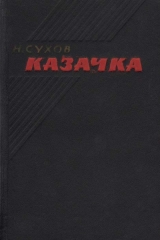
Текст книги "Казачка"
Автор книги: Николай Сухов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 41 страниц)
«Нашел кому жалиться, проклятый! Молодец Алексей… Всем бы надо было отобрать у тебя, у черта, паи». Федора тяготил этот разговор с человеком, который был ему ненавистен. Ненавистен не сам по себе – никакого зла старик Абанкин ему, Федору, не сделал, – а через сына, Трофима.
На счастье Федора, у подъезда в это время началось оживление, люди потянулись в здание, и Петр Васильевич, взглянув на удалявшихся стариков, попрощался. Федор облегченно вздохнул. За время разговора Петр Васильевич ни разу не обмолвился о Наде, не спросил о ней, ровно бы она никогда и не была его снохой, никогда не жила с ним под одной крышей. Но это и к лучшему. Если бы Абанкин заговорил об этом, то вряд ли Федор расстался бы с ним так мирно.
Зал, в котором происходило заседание, огромный и сумрачный, как показалось Федору, был наполнен низким приглушенным говором, шарканьем ног и грохотом передвигаемых скамей. Фронтовиков здесь было наперечет. И они как-то сбились в одну сторону зала. Подавляющее большинство депутатов – с мест, солидные бородастые и важные люди.
На возвышении, за столом президиума, в центре сидел большеголовый, лет сорока, человек с резкими и крупными чертами лица, весь бритый – генерал Дутов, председатель Совета союза казачьих войск; рядом с ним – его заместитель, подтянутый, сановитый в кавказской форме Караулов, а вправо и влево от них станичники, гражданские и военные чины – представители, и в том числе представители союзников.
Вопрос о создании автономных казачьих республик двенадцати казачьих войск Федора трогал мало. Он смутно понимал, для чего это, собственно, нужно и почему? Какая от этого выгода для таких землеробов, как он, Федор, и что убавится или прибавится от того, что область войска Донского станет автономной? Слабо вникая в слова выступающих, произносивших то вялые и длинные, то горячие и прочувствованные речи, он водил глазами по рядам, искал Малахова. Но того не было видно ни среди фронтовиков, ни в рядах бородачей. Может быть, он и сидел где-нибудь здесь же, да разве в таком содоме увидишь!
После того как была проголосована и принята почти единогласно резолюция ходатайствовать перед Временным правительством о санкции на образование автономных казачьих республик, перешли к вопросу о войне.
Фронтовики оживились, зашевелились. Федор, не привыкший к таким длительным собраниям и начавший уже было уставать, с напряжением слушал речь товарища военного министра Савинкова, невысокого, худощавого, ничем особенным не выделяющегося человека, с жидкой прядкой волос на лбу. Первый раз в жизни Федору довелось слушать такого важного начальника. Он только удивился про себя, почему появление в президиуме этого начальника не было встречено ни криками «ура», по военному обычаю, ни – на худой конец – хлопаньем в ладоши. Все сидели тихо, спокойно, будто и не заметили товарища министра. Ни депутаты с мест, ни фронтовики не выказали никакого восторга. Лишь по рядам волнами поползло непонятное шушуканье.
Федору невдогад было, что депутаты с мест, за малым исключением почти все вздыхающие по Николаю Второму, слабо наделены способностью умиляться, глядя на эсера; а фронтовиков, в свою очередь, мало радовало появление одного из толкачей в июньских бесславных походах.
Мог ли знать Федор, что завтра же по требованию генерала Корнилова и этого самого человека на фронте будет введена смертная казнь!
Федор жадными глазами смотрел на возвышение, откуда говорил Савинков, тянулся туда, вытягивая черную от солнца, давно не бритую шею, и казалось, что лицо его и даже вся фигура вытягивались. Но что он слышал?
Правительство в принципе стоит за мир, за прекращение войны. Наши демократические условия мира обнародованы уже давно. Еще в конце апреля от союзников потребовали созыва конференции. Скоро эта конференция состоится в Париже. Общими силами тогда будут урегулированы все вопросы, связанные с войной. Учредительное собрание, которое тоже скоро соберется, скажет свое решающее слово. А пока между союзниками и противником идут бои и враг не разгромлен, русская армия не может складывать оружие или стоять в стороне. Нужно помочь союзникам, Англии и Франции. Большевики во главе с Лениным сеют в народе недоверие правительству, но истинно русские люди… и так далее.
«Похоже, Ленин здорово насолил вам, коли все время о нем вспоминаете, здорово боитесь его, – подумал Федор, откидываясь на спинку скамьи и опуская утомленные глаза. – Пока вы будете регулировать да собирать собрания, у нас и голов не останется».
Ему вдруг стало скучно здесь. И зачем он приехал сюда? Черт дернул его дать в комитете согласие! Пускай бы кто-нибудь другой ехал. Он-то думал, тут в самом деле… Кто правильно говорит, кто совсем неправильно – сиди да глазей, хлопай ушами. Нешто ж сговоришь с такими важными начальниками! Федор уж хотел было выйти покурить, но внимание его привлек какой-то новый, странно зазвучавший голос, и он задержался.
На возвышении стоял бойкий и до смешного вертлявый француз. Он жестикулировал не только руками, но и головой и плечами – всем туловищем. Казалось, он весь блестел: блестели золотые зубы, блестело выхоленное выбритое лицо, блестел роскошный костюм. Слова из его золотозубого рта вылетали, как из пулемета пули. Говорил он по-русски или, точнее, силился говорить по-русски. Но чужим для него языком владел плохо, и речь его была ломаная, несвязная. К тому же, разгорячась, он забывал про аудиторию, начинал кричать на родном языке. Потом останавливался, восклицал: «Пардон, мсье!» – и, вытирая лоб платочком, снова начинал коверкать русскую речь и снова забывался.
Но как ни трудно его было понимать, все же Федор отлично уразумел, чего хочет француз. Говорил он от имени союзных держав. По его словам выходило, что победа совсем недалека: еще одно усилие, и враг окончательно будет разгромлен. В такой-де момент великой державе, России, связанной с другими державами честными обязательствами, не к лицу какие бы то ни было колебания, а тем более разговоры о прекращении войны. Общий дружный натиск, решительный нажим – и кампания выиграна.
«Ишь ведь, черт бы тебя не видал, мосье! – мысленно ругался Федор. – Горазд размахивать кулаками, подзуживать. Пойди пожми сам, тогда и похвалишься».
Вслед за представителем союзников выступил есаул Оренбургского казачьего войска Ногаев. Этот рассуждал со знанием дела, хладнокровно, будто на уроке словесности обучал молодых казаков. Он приводил многочисленные живые примеры из боевой практики. Обрисовал моральное состояние армии вообще и казачьих частей в частности, и в очень неприглядных тонах. Напомнил совещанию о глубоком разладе между рядовым составом армии и командным; о некомплектности подразделений: в ротах, сотнях и эскадронах осталось всего лишь по нескольку десятков людей. Затем не преминул упрекнуть правительство в том, что воинские части, особенно последнее время, слабо снабжены боеприпасами и всеми видами довольствия – и провиантского, и вещевого, и фуражного. Выводы его большинству присутствующих, депутатам с мест, показались суровыми, а фронтовикам недостаточно смелыми: вести наступательную войну русская армия не может. И не должна. В лучшем случае она может вести войну оборонительную.
«Вот это немножко похоже на правду. – Федор начинал ободряться. – Но в масть тоже еще малость не угодил. А близко… Аль уж из нашего брата, из простых фронтовиков, так и не сыщется ни одного такого, чтоб рубанул без промашки, прямо в масть?»
К возвышению тем временем подошел очередной оратор, военный, в форме рядового. Когда он, всходя по ступенькам и слегка наклоняясь приподнялся над головами сидевших, Федор посмотрел на его линялую, темную на лопатках гимнастерку и локтем толкнул в бок своего соседа, совершенно незнакомого казака-кубанца, нелюдимо насупленного, с отвислыми украинскими усами.
– Гля-ка… Малахов! Идол его возьми, где ж он был! Как же я не видел его!
Кубанец повернулся к Федору. Его широкоскулое обветренное, шелушащееся лицо выражало недоумение. Но тут же насупленные выцветшие брови его дрогнули и распрямились.
– Бачу. А що вин за звирь, не разумию.
– Не разумиешь? А вот сейчас уразумиешь!
При первых же словах Малахова, еще отрывистых и будто даже робких, зал начал смолкать; сморканье, кашель и различные шорохи прекращались, и все явственней воцарялась тишина. И по мере того как голос оратора с минуты на минуту креп, приобретая какую-то упругость, тишина делалась все более напряженной. Фразы Малахова не были ни учеными, ни цветисто-нарядными, наоборот, они были самыми будничными и зачастую скомканными. Но никто из выступавших не овладевал так безраздельно вниманием депутатов, как он. На лицах всех до единого так или иначе, но все ярче проступала либо враждебность, либо сочувствие.
Но вот в стороне гражданских депутатов поднялся какой-то смутный гул, будто все начали мычать, не разжимая губ. Гул этот все нарастал, неровными извивами перекатывался по рядам от передних скамей к задним и обратно и, как бы по закону ответного звучания, перекинулся на другую сторону, к фронтовикам. Только здесь он переламывался и принимал иную окраску. Федор как ухватился за спинку скамьи, что стояла впереди него, так, полусидя, полустоя, и застыл с широко раскрытыми глазами. И даже не слышал, как кубанец, рванув себя за ус, в восхищении прогорланил подле него:
– Мабуть, и вправду хлопец-то гарный!
На кубанца со всех сторон зашипели, и тот как бы для потехи, а по сути чтобы скрыть смущение, по-школярски спрятался за спинку скамьи, сгорбившись и пригнувшись, выставив могучие, в косую сажень, плечи.
Малахов, вскидывая изредка руку, отвечал предыдущим ораторам:
– …а вы говорите, победа, дружный натиск, оборонительная война или наступательная. А ради чего эта война?
Ради чего вы требуете жертв? Почему из вас никто не сказал об этом? Никто. Ради того, чтобы пухли у толстосумов барыши, а народ нужду принимал, страдал? Так ведь выходит. Вы кормите нас обещаниями: мол, конференция, Учредительное собрание. Барин, мол, приедет, барин рассудит. Хорошо. Пускай рассудит. А когда все ж таки он приедет? Сколько еще ждать нам? Мы ждали, много ждали, а теперь невтерпеж стало.
По залу перекатывалось уже не мычание, а настоящий рев, и все чаще из этого рева вырывались резкие возгласы:
– Большевичий подпевала, слыхали такие побаски!
– Бузуй, бузуй, станичник!
– Хватит, проваливай, пока цел!
– Режь под сурепку, под корень!
– Доло-о-ой!
Малахов на минуту умолк, покачался на месте, как бы разминая тело перед схваткой. Потом ладонью растер по лицу струйки пота и повернулся к фронтовикам.
– Мы думали: раз царя не стало, то, стало быть, мир. Думали, что революция прикончит бойню. Ан не тут-то было. Тот же самый Фома, лишь наново перекрестили… Выбрали казачьи комитеты. Хорошо. Но офицеры с нами не хотят работать, не признают нас. Я председатель корпусного комитета и ответственно говорю это. Гонят нас снова туда же… А мы не можем больше воевать. Мы, фронтовики, требуем: дайте нам немедленно мир, дайте беднякам помещичью землю, голодающим – хлеба…
Возгласы взметнулись с утроенной силой, угрожающие, гневные. Депутаты, вертясь и подпрыгивая на скамьях, загремели сапогами, задвигали стульями. Заволновался и президиум. Дутов, морща лоб и выпячивая крупные мясистые губы, зашептал что-то склонившемуся к нему Караулову. Малахов побледнел, и лицо его стало пестрым – оспинки подернулись коричневым румянцем. Отчаянно тыча пальцем в сторону бородачей, он уже не говорил, а, надрываясь, кричал:
– Братцы! Станичники! Фронтовики! Нам затыкают глотку. Вот они. Они нам затыкают глотку. Не-ет! Прошло время. Теперь не заткнете, нет. Фронтовики, вы посмотрите… Вы посмотрите, кто тут собрался, кто сидит. Тут черносотенная братия сидит. Мы ни в жисть не договоримся с ними. Никогда! Им царя надо, царя, дом Романовых. Мы не туда попали, не на тот Совет. Тут нам делать нечего. Совет союза казачьих войск распустить. Войти в Совет рабочих и солдатских депутатов, пусть он будет – и казачьих депутатов…
Тут уж поднялось что-то совершенно невообразимое. Говорить Малахову больше не дали. Зал заседания превратился в дико орущую, взбешенную толпу, и понять что-либо было решительно невозможно. Депутаты, размахивая кулаками, повскакали с мест, лица у всех налились яростью. Какой-то богатырского сложения старик, со всклокоченными волосами и бородой, грохая сапожищами, побежал к возвышению. У передних скамеек в него вцепились несколько фронтовиков и преградили ему дорогу. «Пустите, пустите, – хрипел тот, дергаясь, заикаясь от душившей его злобы, – у меня внеочередное предложение!» Но старика опередили, и внеочередное предложение уже вносилось: за государственную измену лишить вольноопределяющегося Малахова депутатских прав, казачьего звания и предать суду. Неизвестный фронтовик, вспрыгнув на возвышение, попробовал было доказать, что теперь свобода слова и каждый свободно может выражать своп мнения. Но фронтовика этого, не выслушав до конца, столкнули оттуда. Внеочередное предложение тут же в злопыхательстве было проголосовано и большинством голосов принято.
Федор смотрел на всю эту кутерьму и никак не мог поверить, чтобы здесь, в центре, на таком важном совещании, о каком он без волнения не мог, бывало, подумать, все происходило точно так же, не хуже и не лучше, как и на хуторских сходках. «Вот так свобода слова! – думал он. – Хороша свобода…» Все время наблюдая за Малаховым, Федор видел, как тот обогнул на возвышении всклокоченного старика, вырвавшегося наконец от фронтовиков, спустился в зал и спорыми редкими шагами пошел к выходу.
Федор заторопился следом. Но пока он, растолкав соседей, с трудом выбрался из средины ряда, Малахов скрылся. Федор метнулся в пустой вестибюль, оттуда на лестницу, с лестницы к подъезду, на улицу, где толпами брели горожане, но Малахова и след простыл.
«Ой, разиня, ой, какой же я разиня! – бессильно злясь, ругал себя Федор. – И как я не догадался вылезть пораньше». Нервно шагая, он походил взад-вперед у подъезда, выкурил подряд две папироски и вяло, неохотно, уже без веры и без надежд, неся в душе горечь разочарования, поднялся по ступенькам на второй этаж, в зал, где все еще бурлило заседание Совета и какой-то бородач из президиума, стуча по столу кулаком, громил внутренних и внешних врагов.
VI
Степь. Пустая и глухая. Сентябрь.
Давно уже потонул во мраке закатный луч солнца, по-осеннему багряный и неяркий: облил золотящейся полудой жнивье по обеим сторонам от шляха, расцветил поблекшие листья терновника, коротающего век небольшими садами и в одиночку, поиграл на гребнях курганов – и потух. Потух и единственный, на бугре, костер, пунцовой крапиной мерцавший вдали. Тьма объяла все. Степь отзвенела перепелами, кузнечиками, жаворонками; отблистала разноцветьем трав и замерла на зиму. Дико, черно и мертво. Мертвенным провалом зияет овраг, глубокий, крутобережный, на многие десятки верст разрезавший степь; мертвенно пахнут никлый, охваченный тленом полынок и седой подорожник; безжизненно и тускло отсвечивает луна. Ни звука. Лишь изредка, смутно шумя, прошуршит по стерне полуночный ветер, густой, вяжущий холодком, или сухо и слабо треснет что-то: то ли ветка терновника под дремлющей перелетной птицей, заночевавшей на кусту, то ли бурьянина под лапой зверя.
О людях напоминали лишь хриплые крики, доносившиеся оттуда, где еще недавно мерцал костер и где при скупом лунном свете работали, понукая волов, запоздалые пахари. Но вот незрелая луна скрылась, унеся остатки света, и тоскливые, бесконечно протяжные голоса пахарей утихли. Признаков человеческого уже не стало.
И тогда по чугунно гудящему неподатливому шляху в чуткой настороженной тишине застучали конские копыта. Застучали тревожно и немо. Не видно было ни седока, ни лошади. Только по-над шляхом низко-низко плыло какое-то серое пятно да несся, тревожа тишь, топот. У деревянного, через овраг, мостка лошадь, как видно, заноровилась, всхрапнула, танцуя на месте. Но раздалось злобное рычание, щелчки, похожие на всплески кнута, гулко стукнули копыта о дощатый настил. И удары копыт, стихая, унеслись дальше. Черствая от бездождья земля поглотила последние отзвуки. Все смолкло.
Молчит курган, притаившийся сбочь шляха, очевидец диких половецких тризн, бесформенный, огромный, сумрачный, с густыми космами бобовника на макушке; молчит прижавшийся к кургану куст терновника, низкорослого, воинственно ощетиненного, с плодами на приземлившихся ветках; молчит вся угрюмая, таинственно задумавшаяся, беспредельная степь.
* * *
В ту же самую пору, по тому же шляху, только в обратном направлении, ехал Алексей Парамонов. Он возвращался домой из Урюпинской окружной станицы, куда по окончании отпуска ездил на переосвидетельствование. На комиссию, признавшую его уже вполне здоровым и годным к продолжению службы, к назначенному часу он не поспел, пришлось хлопотать перед начальством, чтоб его пропустили в тот же день, ходить от одного начальника к другому, и он задержался дотемна. Старый кривой меринок, на котором ехал Алексей, быстроногостью не отличался, дорога предстояла дальняя, но оставаться на ночевку ему не хотелось – на сборы дали ему очень мало времени: через трое суток он уже должен отправиться в часть, и эти считанные дни – не дни, а часы – терять даром расчета не было.
Не было расчета терять время потому больше всего, что на гумне у Алексея лежало необмолоченное просо, и надо будет, думал он, хоть разбиться, но просо за эти деньки довести до дела. Кто же станет тут за него ворочать? А надеяться на стариковские руки, на отца, пожалуй, и стыдно и рискованно. Благо, что хоть погода пока терпит: стоит сухая, ясная. А ну-к да хлынут дожди? И будет каша, вместо того чтобы преть в печи, преть в стогу, на гумне. Уж, видно, отсыпаться придется в вагоне, в пути, а пока спать некогда.
То, что Алексею снова предстояло распрощаться с семьей, не было для него неожиданностью. Он давно уже, почувствовав себя окрепшим после ранения, предвидел это и готовился. Все коренные хозяйские дела, кроме проса, от которых зависит, быть ли семье в году сытой и согретой, им управлены. На гумне у них в четыре добрых прикладка, возов по десятку, растянулся скирд сена, хоть отчасти и тронутого плесенью, чуть потемневшего, оттого, что в разгар сенокоса помешали дожди, но это не беда: сено черное, зато каша желтая. В закрома амбара, как и на гумно, посмотреть тоже не в тягость было: один закром доверху засыпан пшеничкой, наливной, обдутой, полновесной; в другом – рожь, почти до половины; в третьем ячменьку немного; на закром, если не на полный, так без малого, наберется и проса… Словом, дома Алексей не сидел сложа руки. И тужить ему пока не о чем было: на год хлеба семье хватит вполне, и на другой еще перепадет. Полкруга жита вовремя посеял, зябь вспахал.
Нужно сказать, что с пшеницей в этом году Парамоновым подвезло, и даже здорово. И не случайно, конечно. Сам хлебец не пришел бы к ним и не полез в закрома. Алексей привел его, и главным образом с того поля, которое якобы принадлежало Абанкиным, что весной распахали вместе с дедом Парсаном. И если теперь Парамоновы запаслись зерном, так именно с того самого поля. А на каменистом мысу, на лылах, что им всучили при «растряске» паев и где надрывали скотину, действительно уродилось так, как предсказывал дед Парсан: былка от былки – стоговая вилка.
Тревоги Парамоновы пережили немало, прежде чем пшеница с загона перекочевала к ним в амбар. От атамана ли взялось иль от самих Абанкиных, а может, и от досужих людей, вроде старика Морозова, но всю весну и лето, пока, радуя хозяйский глаз, хлебец рос и наливался, в хуторе упрямо держались слухи, что урожай снимать будут не те, кто сеял, а те, на чьей, мол, земле посеяно, то есть Абанкины. Алексея эти слухи доводили до белого каления, и он хоть и чувствовал себя бессильным тягаться с атаманом, Абанкиным и со всею стоявшей на их стороне законностью, но все же готовился к защите, к самой крайней и решительной. Нередки были минуты, когда его навещали отчаянные мысли: что, если и в самом деле у него отнимут посев, он готов будет темной ночушкой, спрятав в кармане спички, пойти тайком на это урожайное поле… Пусть оно лучше погибнет, и то на душе будет легче.
Но все, людям на диво, окончилось благополучно. Абанкиных каким-то чудом вдруг обуяла голубиная кротость, миролюбие, и они уступили. Все же без скандала дело не обошлось, и Алексей догадывался, что скрытым зачинщиком этого скандала был сам Абанкин. За неделю до уборки хлебов, в праздник Петра и Павла, в хуторе проходила сходка. По чьему почину эта сходка созывалась – неизвестно. Началась она вскоре после обедни, за которой отец Евлампий, тряхнув стариной, произнес обильную назиданиями, а еще больше угрозами божьей кары проповедь, разъясняя прихожанам сущность десятой заповеди: «Не пожелай жены ближнего твоего, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, елико суть ближнего твоего». Почему отец Евлампий посвятил проповедь толкованию именно этой, десятой, заповеди, которая с праздником как будто никак не вязалась, ведомо было только ему.
Почти до вечера в тот день тянулась сходка, почти до вечера судили и рядили, как распутать узелок, завязавшийся между Абанкиными и Парамоновыми. Споров, как обычно, было – в куль не уложишь. Особенно неистовствовали, нападая на Парамоновых, культяпый Фирсов и Андрей Иванович Морозов. Последний без устали твердил о том, что не с руки-де милушкам-казакам перенимать мужичьи повадки, и с каким-то даже восторгом настаивал, чтобы сразу же, одним махом отбить охоту к этому у иных прочих, позавидовавших мужикам. Писарь, предрешая исход споров, узористо выкрутил было в приговоре хуторского общества: «…а посему владельцем оного посева считать Петра Васильевича Абанкина, коему земля принадлежит, а не Парамоновых».
Тогда с величественной медлительностью поднялся Петр Васильевич, до этого сидевший в кругу стариков молча. Поднялся он на ноги, солидный, важный, на голову выше всех, вприщур взглянул в сторону Матвея Семеновича Парамонова, робко топтавшегося позади, рядом с буйным дедом Парсаном. У того от гнева даже куцая бороденка растопырилась, а глаза воспалились – он все цапался попеременно то с культяпым Фирсовым, то с Моисеевым. Взглянул на них вприщур Петр Васильевич и снял фуражку. На лоснящейся от пота, гладко причесанной голове его сверкнула проседь. Скупо и степенно он поклонился сходу, забрал в руки бороду и с жалостливым выражением на лице, точь-в-точь как у апостола, страдальца за мир, нарисованного в церкви, сказал:
– Спасибо, господа старики, что судите по справедливости. Покорно благодарю. Но так, знычт то ни токма, и быть: посев энтот, что на моей земле посеяли Парамоновы, дарю им. Дарю, знычт, так и быть. Пускай косят. Двое их, казаков Парамоновых, воюют. Казаки справные, хорошие. Пускай попользуются. Только другой раз чтоб не делали так. Нехорошо… Нехорошо между собой учинять раздоры. Скверно! Лучше добром, по-соседски. Да по-божески. А вас, господа старики, еще раз покорно благодарю.
Он сказал это спокойно, медленно и не очень громко, а как будто всех сразу оглушил, все как-то притихли, переглянулись.
Особенно был поражен Андрей Иванович. У него даже нижняя губа отвисла и глаза выпучились. Тихо и тоненько пропел он, вкладывая в это слово самые противоположные чувства:
– Ми-илушки…
Опешил и буйствующий в негодовании дед Парсан. Он оборвал свою гневную, нацеленную в Моисеева речь, которая состояла почти из одних междометий, недоуменно взглянул на Петра Васильевича и, встретившись с его сощуренным взглядом, засовестился чего-то, опустил глаза.
А Моисеев – толк в бок Матвея Семеновича и восхищенно забормотал ему:
– Волки тя ешь, ну и ну! Подталанило тебе, а! Всю жизнь моли бога за Петра Васильевича.
– Да, да, всю жизнь моли! За благодетеля! – насмешливо подтвердил одноногий Федюнин, муж Бабы-казак, и хитро и зло чему-то усмехнулся.
На одного лишь старика Березова, никогда и ничему не удивлявшегося, слова Абанкина не произвели никакого действия: он стоял, как обычно, в сторонке, опираясь о посох, и на мрачном волосатом лице его блуждала всегдашняя непонятная ухмылка.
Все это случилось месяца три назад, перед хлебной уборкой. А сейчас Алексей, позевывая в тарантасе, подрагивая от холода и похлестывая меринка, почему-то вспомнил об этом и сосредоточился на разгадке этой редкостной и до этого еще не водившейся за Абанкиным щедрости. Алексей плохо верил, что Петр Васильевич мог поступиться чем-либо ни с того ни с сего – просто по доброте. Не таковский он человек, чтобы за здорово живешь идти на убытки. Да и чего ради он сидел бы тогда день-деньской и смотрел, как вокруг него беснуются люди. Ведь мог бы он свою щедрость выказать сразу, не томить народ. Сделано это, понятно, неспроста, с каким-то умыслом. Но с каким? Нельзя также думать, что он, Абанкин, мол, вдруг струсил, испугался мести Парамоновых или деда Парсана и уступил. Смешно! Тут скрывается что-то иное.
Но поразмыслить об этом Алексею не удалось: ему почудилось, что где-то скачет лошадь. Он тряхнул головой, спугивая дрему, и прислушался. Действительно, в отдалении совершенно явственно раздавалась ритмичная дробь копыт. Едва различимая сначала, она быстро нарастала, прерывистая, сдвоенная, и Алексей привычным ухом без труда определил, что лошадь мчится во весь опор. Скок с каждой секундой становился все звучнее. Ясно было, что к нему приближается всадник. Но приближается ли он встречь или нагоняя, определить из-за тарахтения колес было трудно. А тут еще совсем некстати расфыркался меринок.
Пока Алексей, напрягая слух, старался распознать, с какой стороны скачет лошадь, хотя надобности в этом решительно никакой не было – мало ли кого и куда нужда погонит в полночь, – впереди замелькало серое расплывчатое пятно; затем в нос ширнуло сладковато-терпким острым и горячим потом, и сквозь густую муть Алексей рассмотрел смутные очертания распластавшейся в беге лошади и голову всадника, кажется, без шапки. Серым пятном оказалась раздувавшаяся на всаднике рубаха. «Какой жаркий! – первое, что подумал Алексей. – Будто в мае. Тут никак одетого цыганский пот прошибает, а он голый почти… А лошадь-то гонит, дуралей! Никак вся потом прошла».
Всадник с разлету чуть было не сшиб меринка. Тот в испуге даже мотнул головой и попятился. Еще бы мгновение – и глупая, совсем нежданная беда была бы неминуема. Алексей в темноте не заметил этого и незаслуженно наказал меринка, жиганув его кнутом. Всадник, шарахнувшись в сторону, изогнулся на лошади, упал на холку, ловя рукой гриву, и тут же выпрямился, принял прежнюю позу. Проделать это с такой ловкостью мог только опытный, искусный седок. Затем он вздыбил лошадь, повернул ее и, нагоняя Алексея, взволнованно крикнул горловым, низко шипящим, как испорченная в граммофоне пластинка, голосом:
– Подожди, казак!
Алексей на всякий случай нащупал в передке тарантаса, под сеном увесистый железный шкворень и остановил меринка.
Всадник вплотную приблизился к тарантасу, не сходя с лошади, на которой он сидел без седла и у которой из ноздрей вылетал пар, а бока широко раздувались. На фоне серого неба фигура всадника была видна вся. Незнакомый, дюжий и, видно, очень сильный человек с бритым лицом не был похож на крестьянина. Алексей заметил, что он босой, в расстегнутой нижней рубашке и брюках, – эта одежда никак не шла к осенней с заморозком ночи. Брюки у него до колен засучились; ноги он все прижимал к брюху лошади, должно быть, грея. Волосы у него, кажется, ежиком, на висках глубокие залысины, и лоб оттого выглядел непомерно большим.
– Куда едешь, казак? – смело склоняясь к Алексею, спросил всадник все тем же низко шипящим строгим и нетерпеливым голосом.
– Домой еду.
– Где он, дом-то?
– На хуторе Платовском.
– Ага, на Платовском, хорошо! А чей там будете?
Алексей помялся.
– Зачем вам надо?
– Я управляющий имением Мокроусова, – с возраставшим нетерпением, досадой и непонятной Алексею злобой часто заговорил всадник. – У меня… стихийное бедствие. Огромное! Заплачу тебе – сколько спросишь. Гони во весь дух коня – брось тарантас! – передай своему хуторскому атаману просьбу, неотложную: не медля ни минуты, пускай снарядит, как по тревоге, десятка два казаков и сейчас же пришлет их в имение… Лучше при оружии. И сам приезжай. Магарычом не обижу. Будет водка и все. Передай атаману, чтоб не медля… Записку писать некогда. И не на чем.
– Но ведь… под боком тут Терновка, – недоумевая сказал Алексей, – три версты от имения. А до Платовского двадцать. Гораздо скорее бы…
– Нет, нет, пожалуйста! – приходя вдруг в ярость, перебил его управляющий густо зарокотавшим голосом. В темноте Алексей не мог видеть, как при упоминании о слободе Терновке лицо управляющего ожесточилось. – Нужны только казаки. Гони, гони, браток! Не бойся, уплачу. Я бы заплатил сейчас же, но видишь… – Управляющий болтнул босой ногой и подергал на себе подол рубашки. – Видишь, как выскочил…
– Ладно, – вяло сказал Алексей и про себя подумал: «Я еще с ума не сошел – бросить тарантас да сгубить коня. Для меня мое плохое дороже вашего богатого». Он уже начал догадываться, что это за стихийное бедствие напало на имение Мокроусова, и все больше проникался к управляющему недружелюбием: просьба его была совсем не по нутру Алексею. Хотел было все же спросить, что за бедствие такое и о том, куда же скачет он, сам управляющий; но тот, крикнув еще раз: «Гони, гони, браток!» – повернул свою скаковую голенастую лошадь и исчез во мраке.
Усадьба помещика Мокроусова, на которую Алексей мимоездом не однажды заглядывался, лежала неподалеку от шляха, самое многое в версте от него, на берегу громадного, обросшего камышом, осокой, а кое-где и вербами озера, славившегося линями. Со шляха проезжающим хорошо виден за решетчатой городьбой и тополями дом, старый, просторный, порыжевший от времени; надворные под железом постройки, расположенные дугообразно, и выше всех – конюшня с каким-то застекленным мезонином – вероятно, голубятня; фруктовый сад, углом отделявший двор от скотных базов. Заезжать в усадьбу Алексею никогда не доводилось, но понаслышке он знал, что усадьба гораздо старше шляха, что сам хозяин, унаследовавший не только эту усадьбу, но и тысячи две – две с половиной десятин земли, наведывается сюда раз в год, а то и ни разу – живет с семьей в Питере; и что по просторнейшим ковыльным пастбищам, верст на пять в длину и ширину, гуляют косяками породистые донские лошади и наливаются жиром отары курдючных овец.