Стихотворения и поэмы
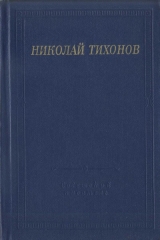
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Николай Тихонов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц)
Ты возникал нежданно,
Как нищих шалаши,
Под зеленью каштанов,
Как окрики ажанов,
Как свисты рваных шин.
Как чалмы радж индийских,
Как миллион гостей,
Как бар, где дуют виски
Всю ночь, а вместе с тем —
Ты был и друг и недруг,
Ты презирал покой,
Твои раскрыты недра
Любых искусств киркой.
Но скольких же ты предал
И на смерть уложил,
Ты жил, как жизнью, бредом,
Но это тоже жизнь!
Часами в танце ходят,
Им платят за часы,
Зевают при народе
Скучающие псы.
Мне жалко племя псиное,
Скучающее тут,
И желтые и синие
Хвосты им нос метут.
И крутится всё туже
Столб розовых пелен,
И женщин рот потухший
Почти испепелен.
И в их глазах замученных
Коктейлей отсвет лег,
И болью обеззвученной
Им сводит жилы ног.
Бессонница ползучая
Им в уши ворожит,
Кружись столбом – до случая,
И это – тоже жизнь!
Парижа злые ночи,
Фигурные огни,
В какой бесценный почерк
Уложены они.
Какой уже заранее,
Не виданный в глаза,
Мне ночи отчеканили
Той улицы пейзаж,
Где в каменной обители
Спят люди разных каст,
Где, может быть, не спите вы,
Как я не сплю сейчас,
Где море истин трезвое,
Тихонько отступив,
Лишь издали приветствует
Иной волны прилив.
И полночь режет по сердцу
Тупым стеклом тоски,
И с улицы доносятся
Больших машин гудки.
Стоит стена глухая,
В огнях вокзал дрожит,
Всю ночь не потухая…
Что ж – это тоже жизнь!
Где пыльный монпарнасский
Грохочет виадук,
Спит парень без опаски
У ночи на виду.
Лишь синий галстук мается,
Обтрепанный уже,
Но грохот не касается
Лежащего ушей.
Под самым виадуком,
Газету подостлав,
Усталостью застукан…
Скажи, что он не прав?
Пусть улицы двужильная
Гремит над ним гора,
Попробуй, докажи ему,
Что он сейчас не прав?
И грохот всей округи,
Попробуй, докажи —
Он спит, раскинув руки…
И это – тоже жизнь!
1935 или 1936
(Форт Дуомон)
На холмах проросла небольшая трава,
На отравленной газом земле,
Видно, знающий кто-то траве колдовал
И учил пробираться во мгле.
Двадцать лет она билась и вышла на свет,
Захотелось взглянуть после мглы
На леса, на деревни, а их-то и нет —
Лишь кресты, словно гуси, белы.
Лишь осколки бризантной лежат головы,
Как тогда, их зубец раскален,
И под шорохи той недовольной травы
Мы спускаемся в форт Дуомон.
Тьма и плесень, ходы и ходы
Углубляются, стены сверля,
И тяжелые капли воды,
Точно плачет в обиде земля.
Полосатый бетона обвал
Порыжевшие скрепы когтят,
Точно свод на колени упал
И пощады просил, тарахтя.
Лазарет подземелий на дне,
Чтобы чувствовать люди могли,
Умирая, прижавшись к стене,
Что они уже в недрах земли.
Триста дней, триста зорь и ночей
В барабанный огонь погружен,
И не всё ли равно, был он чей —
Этот дьявольский форт Дуомон?
Тут пруссак ли о Рейне мечтал,
Иль бретонец – о зыби морей,
Иль писал на парижский почтамт
Парижанин девчонке своей,
Или, тайно листовку держа,
Бывший слесарь иль бывший портной
Тут мятежною дрожью дрожал
От предчувствия битвы иной, —
Все они были распяты здесь,
В перекрестках подземных ходов,
Шла громов небывалая смесь
Над броней Дуомона седой.
Под особо громовый разрыв
Им казалось, таящимся тут,
Что стихийные силы ведут
Поединок, о людях забыв.
Иногда приводил ураган
В подземелье чужие штыки,
И стрелялся в углу комендант,
И гудели углы, как быки.
Запах пороха, крови, мочи,
Вместо солнца – осколок свечи.
Похлебали же в этом хлеву
Безысходного сна наяву.
Здесь сегодня румяный юнец
Бойким голосом радостно врет
Про войну, про геройский венец,
Продает за гроши этот форт.
Но во мне только рев тех ночей,
Человечества темный полон.
И не всё ли равно, был он чей —
Этот дьявольский форт Дуомон?
Мы наверху. Холмы желтей, грубей.
Трава. Лесок отравленный и вялый,
И жалкий столб, и надпись на столбе:
«Деревня здесь такая-то стояла».
И мертвые, с оружием в руках,
В траншеях спали, полные печали,
И, точно рожь всходила впопыхах,
Штыки, блестя, из-под земли торчали,
Америки богач ограду им
Соорудил – врата убрал мечами.
Что пользы в том? Сквозь этой жертвы дым
Проходим мы в своем другом молчанье.
Нет, не хотел бы надпись я прочесть,
Чтобы в строках, украшенных аляпо,
Звучало бы: «Почтите мертвой честь —
Здесь Франция стояла! Скиньте шляпу!»
1935
Как будто на сказочном круге,
Не знавшем вовек перемен,
Дорога из дряхлого Брюгге
В не менее ветхий Менен.
Как будто не ради соблазна,
Но сытости высшей верна,
Стоит, улыбаясь атласно,
Лесов голубая стена.
Здесь дым распыляется грубый,
Чтоб он не чернил высоту,
Здесь в белое крашены трубы,
Чтоб всю подчеркнуть чистоту.
И трубы, метели белее,
Растут по заводским холмам,
И райского блеска аллеи
К счастливым подводят домам.
Такая рассыпана щедрость
И так разлита благодать,
Такая луна без ущерба,
Что можно им сердце отдать.
Каналы и виллы не плохи…
Уж мнится в порыве простом,
Что мы не в железной эпохе,
А в веке совсем золотом.
Но тут подступает вплотную
Вся тяжесть ночей и трущоб
И руку кладет ледяную
На жаркое ваше плечо.
И вот уж не в света обновы,
А в сумрак, что злобой намок,
Свивает на валик свинцовый
Тоску меловую дорог.
И валик, рыдая, скрежещет,
И сердцу не встать из тисков,
Бедою клейменные клещи
Стучат у холодных висков.
Ни праздности душною силой,
Ни сытостью розовых стен —
Ты душу мою не купила,
Дорога из Брюгге в Менен.
Полночного края опора,
Ты мчишься, подобно ему,
Не только из города в город —
Из тьмы в еще большую тьму.
1935
На горе Де-Ка, на голой,
Я сидел и пиво пил
И от пива стал веселый;
И соседа я спросил:
«Нет на свете стран печальней
Европейских черных стран,
Кто ж весельем неслучайным
Наполняет мой стакан?
Кто варил такое пиво?
Где найти весельчака?»
Отвечал сосед учтиво:
«Тут же рядом, на Де-Ка».
И взобрался по тропе я,
Где траппистов монастырь
Стережет, во сне тупея,
Терпкий кладбища пустырь.
Человек пивного царства,
Что рождает пенный вал,
Опирался там на заступ,
Над могилой пребывал.
Босиком, зеленокожий,
Мыслей муть устав толочь,
Делать заступом он может
Два удара только в ночь.
Рыть могилу по уставу
Он годами обречен,
Свет скончавшейся державы
Плыл в глазах его свечой.
Кто ты, роющий могилу
Европейский человек?
Дипломат ли ты унылый,
Жадный золота ловец?
Знал ли книжные ты басни,
Боевые ль ордена
Скрыл тяжелый твой подрясник
Из верблюжьего сукна?
Я безумею от ночи,
Что в глазах твоих сквозит,
Где, как лист, весь мир источен,
С пивом заступ говорит.
Ты во мраке на обрыве,
Но и мраку есть предел,
Вот откуда горечь в пиве,
Горечь лет и горечь дел.
Тонкий вихрь опустошенья
По склерозным жилам дул,
Он лицо в изнеможенье,
Словно флюгер, повернул.
И сказал я через силу
В эту прозелень свинца:
«А не лучше ли могилу
Рыть уж сразу до конца?»
Ничего не отвечал он,
Дом без двери, без окна;
Как пивной ручей, стучала
В кровь высокая луна.
1935
В равнине, на холмов откосе —
Ну где б ни привелось, —
Навстречу Фландрия выносит
Багряный шелест роз.
Как ни взгляни – повсюду розы,
Но истины ушли
Не в эту сладостную россыпь,
А в серый слой земли.
Под ним лежит необозримый
Солдатский Пантеон,
Но всё уносит синим дымом,
Так унесен и он.
И в это сумрачное лето
Я снова вижу их,
Чей крик, не получив ответа,
Под известью затих.
Был день, закат, что шел, трезвея,
По рвам, как по рабам,
Как по ступеням Колизея,
По брошенным домам.
И часовых всё глуше гнуло
Усталости кольцо,
Пока ипритом не пахнуло
В померкшее лицо.
Какие б розы ни свисали,
Хотя бы на пари, —
Но я кровавых тех красавиц
Не привезу в Париж.
Я не хочу, чтоб розы Фландрии
Стояли на окне,
Они пустыннее, чем ланды,
Чем Альпы при луне.
Они безжалостней, чем поле,
Где шли траншей круги,
Но их срывают поневоле,
Затем что нет других.
1935
Вы, девушки с красивой головой,
И домики, украшенные хмелем,
И вы, луга, богатые травой,
Вы помните бои под Пашендейлем?
В природе наступила нищета,
Сто тысяч лет тянулся дождь в болоте,
Гасил он тотчас искры на щитах,
Их вырезали пули на излете.
По пояс в грязь, по горло в грязь уйдя,
Ползли, ложась в гробы воды болотной,
И посреди природного дождя
Шли стрел дожди работы самолетной.
Алел в дыму фосгеном огнемет,
Под пахнувшим, как ад, противогазом.
Стон громом был, пылал иссохший рот,
Глаз становился лошадиным глазом.
И захлебнулись бивни батарей,
Увязли танки в глинах первозданных,
Как будто битва с каждым днем быстрей
Спускалась в жерла грязевых вулканов.
А в замке отдаленном генерал
Досадовал на медленность движенья,
Он тех во гневе трусами назвал,
Кто был дровами на огне сраженья.
Ему всё снились парки да шоссе,
На карте сёла просто улыбались,
И он писал во всей своей красе
Приказ «Вперед!» – историку на зависть.
Тогда солдат на генеральский гнев,
Штык погрузив в крутящуюся воду,
Ударил в грязь и крикнул, почернев:
«Ты, хлябь, смотри – вот здесь конец походу!..»
И замер фронт… А генерал берет
Автомобиль, примчался, как на приступ,
Увидел дождь, в безбрежной мгле болот
Увидел труп, осмелившийся всплыть тут.
И он заплакал, этот генерал,
Забормотал, а слезы с грязью тают:
«Сюда я гнал их, боже… Я не знал!» —
Что делать тут? Они всегда не знают.
Вы, девушки с красивой головой,
И домики, украшенные хмелем,
Вы – черепа под пышною травой, —
На свете много этих Пашендейлей!
1935
Я вечером увидел Зеебрюгге,
В лиловой пене брандера плечо,
След батарей за дюнами на юге
Я, как легенду черную, прочел.
Пустыней мол и виадук сияли,
Дымилась моря старая доска,
И жирной нефти плавала в канале
Оранжево-зеленая тоска.
Простого дня тягучее качанье,
В нем чуть дрожал полузабытый миф,
Когда сюда ворвались англичане,
Ночную гавань боем ослепив.
Далекий бой – он ничего не весил
На горизонте нынешнего дня,
Как будто клочья дымовой завесы
На вечер весь окутали меня.
Я пил и ел, я думал, не проснется
Во мне война – сны день мой заглушат:
Мне снился блеск форштевня миноносца,
Которым крейсер к молу был прижат.
Мне снился брандер, тонущий кормою,
И на корме – тяжелый сверток тел,
И виадук воздушною тюрьмою,
Искрящейся решеткой просвистел.
Мне снился человек на парапете,
Над ним ракеты зыбились, пыля,
Он был один в их погребальном свете,
За ним фор-марс горящий корабля.
Мне снилась та, с квадратными глазами,
Что сны мои пронзительно вела,
Отвага та, которой нет названья,
И не понять, зачем она была.
Проснулся я. Стояла ночь глухая,
На потолке, снимая ночи гарь,
Легко сверкнув и снова потухая,
Как гелиограф, шифровал фонарь.
1935
(Остенде)
Ненастный день. Как лезвия
Небезопасных бритв,
Срезает отмели, звеня,
Разгневанный прилив.
Сырые серые пески
Морщинами косят,—
Багровой тушей толстяки
Над морем в ряд висят.
И каждый крутит колесо,
И на стальных цепях
Корзина черная, как сом,
Ползет к воде, скрипя.
И, неумелою рукой
В волну погружена,
Под свист колес наверх с тоской
Является она.
И в ней мелькают два угря…
В их жалком серебре
Весь день, прожитый снова зря,
Блеснул и отгорел.
И завтра снова, как сейчас,
Придут толпой висеть,—
Владыки, мне не жалко вас,
Мне жалко вашу сеть.
И я, печальный, как прибой,
Вхожу на праздник ваш,
И море путаю с судьбой,
И слышу черный марш.
Пусть то играют в казино,
Пусть то набобы в ряд,
В шелка, в душистое сукно
Одетые, скользят.
Пусть то играют на молу,
Пусть то набобы в ряд
Рабынь на водяном балу
Твоих боготворят.
Шершавый душит смех меня,
На узкой полосе,
У волн холодного огня
Вы здесь столпились все.
Чтоб праздник свой изображать…
Но дальше некуда бежать…
За вами – материк,
Где страшной глубине рожать
Последней боли крик.
Владыкам некуда бежать,
И силы двух глубин
Их каждый миг готовы сжать
И кончить в миг один.
1935
Мы чинно ползем
По белесому скату,
Вот это Ла-Маншем
Зовут небогато.
Костистый чиновник —
Канадская ель —
Сосет безусловно
Не первый коктейль.
Сидит, проверяя
Потом паспорта,
Но вермута раем
Душа налита.
По службе ж до гроба
Ему не везет,
Сидит он сурово
И когти грызет.
Влюбленных наречье
На палубе рядом,
И чайки навстречу им
Диким парадом.
Влюбленные знают,
Терзаясь у борта,
Что ночь поджидает их
С кольтом потертым.
И в ярость одетый
Джентльмен круто
Швыряет газету,
Уходит в каюту.
Ложится, стеная,
Хрипит на полмира,
И жаба грудная
Здесь душит банкира.
Шпион одинокий
Жрет ростбиф горячий,
И с шулером в покер
Схватился приказчик.
Высоко над ними
Глаза капитана,
Что были стальными,
Туманятся странно.
Здесь место, что мучит
Не мелью худою, —
Здесь сын его лучший
Лежит под водою.
Лежит на обломках
В подводных полянах.
Глядят, как в потемках,
Глаза капитана.
В день раза он по три
Идет здесь, тоскуя,
И смотрит, и смотрит
В пучину морскую.
1935
Под эти шумящие кроны,
Под неба британскую строгую высь
Народы Дуная, и Роны,
И Рейна, и Эбро сошлись.
И вот загудела непросто
В свинцовом плетенье солдатских шагов
Немецкого лагеря поступь,
Костры у чужих берегов.
Испанская легкая доблесть
Сияла, как рыжее пламя орла;
Какая-то робкая область
В пастушеском вальсе плыла.
Пахнуло гранитным фиордом,
Гремело венгерской равнинной тоской,
Мелькнули и скромность и гордость
И мирно ушли на покой.
Но вечер нежданно украшен —
В народов узорном усталом кругу
Советская молодость пляшет
На старом английском лугу.
И танец – невесть что такое,
Но ритм – истребителя точного взлет,
Но кончены счеты с покоем,
Бескрайнее сердце встает.
И кажется, сердца не хватит,
И воздух все жилы ночные открыл
Для этих летящих объятий,
Для этих отчаянных крыл.
В них искры обвалов и крепи
Души богатейших, откровеннейших шахт,
Пространство такое, что степи
Могли б перед ним не дышать.
И кажется, небо взорвется,
И звездно – ничем невозможно помочь —
Посыплется в пропасть колодца
Английская древняя ночь.
И зритель из парковой чащи
Был вырван, как песни невольной звено,
С потоком таким восходящим
Унесся гулять заодно.
И зритель, собой не владея,
Как будто в полете в мальчишеском сне,
Лишь видит, что он молодеет,
Ныряя в такой глубине.
И вот уже всё, как вначале,
И лишь в океане старинной листвы
Деревья шатает отчаянье
Под град восхищенной молвы.
Сорваться бы им, и рвануться,
И ринуться – ног и души не жалей —
Широкой листвой революции
Шуметь по Британии всей.
1935
Ржавые ангелы. Легкая мгла.
Пыльных фамилий потоки.
В сердце Хайгета плита залегла —
Скромности самой жестокой.
Ветер над ней не пытался звенеть,
Жестью веночной обрамив,
Желтые листья лежали на ней
Позднего лета дарами.
Так тишина говорила про всё,
Даже про то, что не дожил,—
Будто бы только что он принесен,
Только что в землю положен.
Вечер торжественным быть не умел,
Времени узы минуя,
Просто мы жизнь перебрали в уме,
Близких его именуя.
Женни, когда б ты взглянула на свет,
Ты б не узнала Хайгета,
Вырос за эти полвека Хайгет,
Стал живописнее летом.
Женни, когда б ты подняться могла,
Ты б удивилась немало,—
Там, где когда-то Россия была,
Новой вселенная стала.
Солнце сегодня зарылось в пыли,
Делая пыль золотою,
Имя прошло от земли до земли
С огненной быстротою.
В сердце осталась в большой тишине
Эта могила, как пламя,—
Желтые листья лежали на ней
Позднего лета дарами.
1935 или 1936
Он спит, опираясь лицом на канат,
Как сброшенный с круга боксер.
«Так все загрустившие докеры спят,
Но днем он подтянется, cöp!»
Так все загрустившие докеры спят…
Чуть слышно во сне говорит,
Он спит – у него от виска и до пят
Тревогою тело горит.
На бледных скамейках так докеры спят,
Сидят, опираясь щекой
На старый канат, а старый канат
Бежит оловянной рекой.
Как все загрустившие докеры спят,
Я сплю, опираясь лицом на канат,
Усталый от схваток боксер,—
Сквозь грохот, который меня доконал,
Я слышу, ваш голос через Канал
Приносит: «Вы встанете, cöp!
Пусть все загрустившие докеры спят,
Но, щеки зарей леденя,
Вы встанете прежде – как чайки взлетят,
Чтоб заново вспомнить меня!»
1935
1
Бег созвездий. Мороз. Светящимся мелом
Обведенные выси. Мерзлой грязи кайма.
Пар над тощей верблюдицей, галоп оголтелый,
Иа-Оренс. Аравия. Полночь. Зима.
Узкий шорох полыни. Холмов вереницы.
Сон в седле. Почернелых сугробов разбег.
И с разбега верблюдица мордой ложится,
Зарывая наездника по уши в снег.
Он встает и верблюдицу тянет. Над ними
Одиночество ночи. Стальная луна.
Шесть мешков до отказа полны золотыми,
В кровь изранены ноги. Пустыня. Война.
Одиночество! Что перед ним непогоды?
В неизвестной стране, в неизвестном году
Как во сне видит крепость, бойницы и своды,
Босиком он идет по звенящему льду.
2
Он раскрыл «Одиссею» на доблестной песне девятой.
Стоял Одиссей, Полифему в лицо говоря:
«Я – Никто! Так меня называют друзья и солдаты,
Таким меня знают чужие края и моря».
Полифем – от него грохотала пещера —
Пил вино, смотрел, как испуганы люди кругом,
Над Лондоном шел дождь, туман шел темно-серый,
Человек над поэмой подумал совсем о другом.
Он был Одиссеем. Империи черные волны
Проносили его между Сцилл и Харибд по ночам,
От которых седеешь, но делаешь дело безмолвно,
Эти ночи закрыты, никаким не подвластны ключам.
Он звался Никто. Ни подруги, ни друга, ни брата,
Ни следа ни в пустыне, ни в городе, ни в камышах,
Слишком много имен, иные звучат как расплата —
Иа-Оренс, и Шоу, и Лоуренс, Пирр Карамшах.
3
Плач овцы. Гиндукуш. Разбойничья копоть
Пещеры. Игра воровская костров.
Империи нужны в глуши одинокие тропы,
Одинокие трупы, одинокий заброшенный ров.
Как бормочет заклятья язычник,
Он бормочет Гомера в гнилых, как чума, шалашах,
Он клянется Кораном средь горцев тяжелых и зычных, —
Так живет равнодушный и горестный Пирр Карамшах.
Лагерь, как облако битвы вчерашней,
Скрыло облако. Лохмотья кустов,
Так знакомы бойницы, и входы, и своды у башен,
Всё уж было, всё было в стране вот такой же простой.
Через страны идет он, как тень, неприметен,
Сон в седле. Захлебнулись в реке стремена.
Одиночество. Дым костров. Тмином пахнущий ветер.
Бег коней. Горечь пустыни. Война.
4
Над Лондоном шел дождь, туман шел
темно-серый,
И покидал пещеру Одиссей,
Чтоб отомстить Циклопу полной мерой,
В руне барана стоило висеть.
Воспоминанья резали страницу:
Он звался Шоу – был простой солдат,
В броню казарм хотел уединиться,
Как тень теней, как знак из вереницы
Беззвучных цифр, какими строй богат,—
Чтоб стать собой, он бреду был бы рад.
Всё та ж, всё та ж пещера Полифема,
Шатер, шалаш, казармы ли отдел,
Закон гласил – повиноваться немо
И даже смерть его предусмотрел.
В каком бы мраке он ни распростерся,
В какую бы пустыню ни бежал,
То не было еще единоборство,
А только лишь попытка мятежа.
5
Был Лондон сер и стар. Его сжимала жалость,
Когда смотрел он на людей своих, —
Но что ему героикой являлось,
То было вечным бедствием для них.
В Аравин всходило солнце. Глухо
В Геджасе пели дюны. Гиндукуш
Лавинами на дно ущелий бухал,
В Туркмении шли овцы к роднику.
И у костра, покрытого корою
Седого пепла, не сжимая век,
Прекрасною рассветною порою
Лежал обыкновенный человек.
Его не звали Пирром Карамшахом,
Не всё ль равно, как называть его, —
Он молод был, он землю шаг за шагом
Брал трудолюбьем сердца своего.
Грядущего над ним стояло имя,
И не войны рука его вела,
И шесть мешков, набитых золотыми,
Он никогда не видел у седла.
О Иа-Оренс, он не уступил бы
Ни в чем тебе – он вырос среди гроз,
Как ты, он в дебрях самых страшных жил бы,
Но кровь и грязь он в дебри б не принес.
Он был веселым, легким Одиссеем,
Земля, дымясь, вступала в новый рост,
И над ее дорогами висели
Великие созвездья вольных звезд.
1935–1936
(Северное море)
В руках нелегких автомата
Маяк льет желтый свет,
И видит в окна вал косматый,
Что человека нет.
А что-то движется такое,
Что властвует одно
Над серым камнем, над прибоем,
Слегка искрясь в окно.
А тот, с кем говорило море,
Стал морю незнаком,
Из трубки в кольцах вьется горе,
Зовется табаком.
Но всё глядит он глазом душным
Туда, где вдалеке
Слуга хозяйствует бездушный
На белом маяке.
А дочка тоненькая бродит
По влажному песку,
И вал косматый к ней подходит,
К сиянью смуглых скул.
Она бежит к нему от скуки,
Но отступает вал,
Цветы ему кидает в руки,
Чтоб он не горевал.
Но отступает вал, бросая
К ее ногам свой плен,
И рада девочка босая
Гремучим вихрям пен.
Она смеется смехом лучшим
Той радостной игре,
Ей не понять тоски цветущей
Стареющих морей.
1936
Вот птица – нет ее свежей —
Оттенков пепельного дыма,
Породы башенных стрижей,
Чья быстрота неповторима.
Летит, нигде не отдохнув,
От тростников Египта пресных
До Гельголанда – ночь одну —
До стен, как мужество, отвесных.
Уж небо стало зеленей.
Она зарей уже умылась,
И, окантован, перед ней
Могучей пеной остров вырос.
Но там, где серого гнезда
Комок однажды прилепился,
Бьет время, волны разнуздав,
Осколки рухнувшего мыса.
И плачет птица, огорчив
Весельем залитые мели,
Как будто ночь еще кричит
В ее худом и темном теле.
Так, европеец, удалясь
От той земли, что звалась детством,
Ты вспомнишь вдруг былую связь
И чувств потерянных соседство.
Преодолев и ночь и дождь
Крылом свистящим, в летной славе,
Ты прилетишь – и ты найдешь
Совсем не то, что ты оставил.
1936








