Стихотворения и поэмы
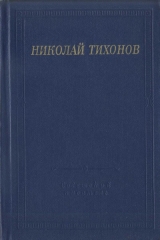
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Николай Тихонов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 36 страниц)
А какое озеро! Голубое озеро.
Остров – и на башне
Колокола медь,
И туда тропою козьей
Ходят, чтоб на счастье
В эту медь звенеть.
Легкое, лукавое, голубое озеро,
У тебя на башне
Приручена медь —
Счастье это медное над тропою козьей,
Тихое, нестрашное,—
Не хочу иметь.
Ты послушай, ясное, голубое озеро,
Всё начни сначала,
Почерней волной,
Чтоб, как буря колокол полночью некозьей,
Страсть меня качала
И звенела мной!
Между 1945 и 1947
Прешерн Френце – знаменитый словенский поэт (1800–1845). Мотив трагической любви к Юлии проходит через все его творчество.
[Закрыть] В СЕЛЕНИИ ВРВА
Вот дом: здесь любили и грезили,
И вот – колыбель под рукой,
Быть может, рождалась поэзия
Вот именно в зыбке такой.
Весь дом, как бессмертия улей,
Портреты – поблекли они,
Поэзия, может быть, – Юлия,
Попробуй возьми, догони.
Твой стих был и пылок и розов,
А Юлия всё же ушла.
Вы умерли. Дней наших проза
Вас снова друг с другом свела.
Вот тексты прославленной «Здравицы»
Поэзию в люди несут,
Сегодня внезапно понравится
Она в партизанском лесу.
Гравера, от пороха пьяного,
Трезвит этих строк новизна,
И вот уже издана заново
Под треск автоматов – она.
Атаки ее не согнули,
И песня спешит в вышину…
Поэзия, нет, ты не Юлией
Вернулась в родную страну.
Сегодня стихи в карауле,
Сегодня в бою им почет,
А Юлия, Юлия, Юлия?
А Юлия снова уйдет!
Октябрь – ноябрь 1946
Партизан шумадийский сидит на Зверинской,
В Ленинграде, и песни поет,
Как их пели под Брянском и пели под Минском —
Там, где был партизанский народ.
А Шумадии чащи лесные – краса их —
Эти песни любили до слез,
И качаются сербские буки, касаясь
Светлопесенных русских берез.
Здесь лесов шумадийских гвардейское право
О себе говорить, потому
Что Нева здесь сливается с синей Моравой,
Чтобы течь по пути одному.
Мы такую хлебали смертельную вьюгу,
Добывая победу свою,
Мы, как братья, стояли на страже друг друга,
Помогая друг другу в бою.
Потому что фашист, сербской пулей пробитый,
Над Невой не вставал из могил,
Потому что фашист, над Невою убитый,
Шумадийским лесам не грозил.
Мы об этом поем в Ленинграде полночном,
Миру ясно, о чем мы поем.
Долго жили мы только приветом заочным,
А сегодня – сошлись за столом!
Октябрь – ноябрь 1946
ГРУЗИНСКИЕ ДОРОГИ
После бури, после мрака,
Где ревел простор земной,
Мы в селенье Филипп-Яков
Повстречались с тишиной.
Здесь и рощи полусонны,
И дома по сторонам.
Вот кувшин воды студеной
Девушка выносит нам.
Мне почудилось, что долго,
Долго, долго будет так:
Камень белый, полдень колкий,
Лист пожухлый на кустах.
И над плавными волнами
Будет небо голубеть,
Чуть тревожными глазами
Будет девушка смотреть.
Прядь откидывая резко,
Будет бусы колыхать,
Так же будет занавеска
В белом домике играть.
Жажду я хочу иную
Утолить – ее одну, —
Пить, как воду ледяную,
Эту мира тишину.
Пить глотками, пить большими,
Не напьешься ею, брат,—
Так губами молодыми
Час затишья пьет солдат.
Пьет между двумя боями
Тишину, как синий сон,
Пересохшими губами,
Всем на свете увлечен:
Теплой рощей полусонной,
Легким небом без конца,
Этой девушкой, влюбленной
В неизвестного бойца!
Октябрь – ноябрь 1946
1948
Гул лавин как будто снится,
Пролетел и был таков —
Снова Гуд-гора дымится
Тонкой тенью облаков.
Снова встали исполины,
И метель по льдам метет,
Койшаурская долина
Далеко внизу цветет.
Обступают снова скалы,
С перевала даль ясна,
И морозец самый малый
Освежает щеки нам.
Восемь лет я вас не видел —
Ветеранов ледяных.
Встал Казбек и пену вытер
Облаков с усов своих.
Словно хочет целовать он
Снова путника в уста —
И высот меньшую братью
Оглядел он неспроста.
Что вам смены поколений —
Вот вы смотрите туда,
Где идут к лугам весенним,
Как всегда, идут стада.
Посох движется пастуший
В белой кипени отар,
Ломкий снег скрипит послушно —
Только высь уже не та.
Новым светом лиловеет,
И расцветка неплоха —
Без погон шинель темнеет
На плечах у пастуха.
Догони – и он расскажет
Про походы все свои,
И про скал карпатских кряжи,
И про венские бои.
Как все вьюги зарыдали
У Казбековых полей,
Как закрыл родные дали
Грудью собственной своей.
Как мечтал он на походе,
Что вернется вот сюда,
Где сейчас стада проводит,
Горд собой, как никогда.
И друзья его такие ж,
Так же весело горды —
На груди у них увидишь
Пестрых ленточек ряды.
Ты, Казбек ледяноплечий,
Оцени их и пойми,
Что тебе гордиться нечем
Перед этими людьми.
И признайся, не к обиде,
Ты, так взысканный судьбой,
Что таких людей не видел
Никогда перед собой.
И Казбек нам улыбнулся
В гор воинственной толпе,
И Казбек как бы качнулся
К той пастушеской тропе.
Над шинелью той военной
Задышал туманом склон,
Снежной дымкою мгновенной
Пастуха окутал он.
Будто сам Казбек безбрежный
Обнялся с бойцом простым,
Обнялся с приветом нежным
Снежный маршал высоты.
<1948>
Я видел их не на полях сражений —
То был труда обычного пример,—
В колхозе, что не знает поражений,
Который все зовут «миллионер».
Как будто бы играли руки эти
С зелеными листочками, скользя
По веточкам нежней всего на свете,
Лишь смуглоту я этих рук приметил,
Но быстроту их описать нельзя.
Быть может, так вот пальцы пианистки,
По клавишам летая наизусть,
Как ласточки, срезают низко-низко
Мелодии заученную грусть.
И падают, и падают в корзину
Дождем зеленым всё на тот же круг
Листочки с легких жилок паутиной,
Как ста ножами срезанные вдруг.
Как ласточки, над темным чайным морем
Летают руки в этой жаркой мгле
Кустов зеленых, спящих на просторе,
На раскаленной добела земле.
И руки те – в Москве ли величавой,
Или в ферганской дальней чайхане, —
Я вижу их под солнцем нашей славы,
Их закалившим в трудовом огне.
<1948>
Жаркой масти, желтогривы,
Кони древности седой
Здесь, на Цалкинских обрывах,
Проносились над рекой.
От бойцов, что в бой летели,
От несметных тех рядов
Две-три кости уцелели
Да гробницы холодок.
Среди проволок крученых,
Ожерелий из кремня
Были найдены ученым
Золотые два коня.
Это – крошечные кони,
Но работы непростой:
В золотой они попоне,
Даже с челкой золотой.
И стоят, прижавшись тесно,
Золотой огонь в очах, —
Инженер седой Храмгэса
На ладони их качал.
Перед ним вода синела,
Где вчера под волчий вой
Котловина каменела,
Жестяной звеня травой.
Перед ним жила плотина,
Где вчера неслась река.
Вспомнил путь туннелей длинных,
Их зеркальные бока.
И, свое прищурив око,
Он сказал: «Сигнал я дам,
Золотые кони тока
Полетят по проводам.
И от их огнистой гривы
Станет людям веселей,
Глаз блеснут их переливы
Среди улиц и полей.
И в Тбилиси я с отвеса
Вижу с Цалкинских высот
Золотых коней Храмгэса
В синих улицах полет:
Золотые наши кони —
Братья этим малышам»,—
И малюток на ладони
Он погладил по ушам.
Хорошо сказал строитель,
Сам не ведая того.
Засмеялись тихо кони
На ладони у него.
<1948>
В битве при Аспиндзе в 1770 г. грузинский царь Ираклий разбил полчища турок. Тмогви и Хертвиси – древние крепости в том же ущелье. Вардзиа – пещерный город царицы Тамары. Аспиндзское ущелье – ущелье непрерывных битв в старину, путь вторжений иноземных захватчиков.
[Закрыть]
Тяжелых скал изломы,
Река острее бритвы,
Нас секретарь райкома
Привел на поле битвы.
С таким поведал жаром,
Как битва бушевала,
Как будто в битве старой
Он сам был генералом.
Ущелье, что лежало
Налево и направо,
Вдруг сразу задышало
Аспиндзы днем кровавым.
Мы видели так живо,
Как топчут виноградник,
Как падают с обрыва
В Куру и конь и всадник.
…А ночью месяц вышел
Атласно-золотистый,
Кура шумела тише,
Светясь сквозь сумрак мглистый,
Над башнями Хертвиси,
Отвесом черным Тмогви
Шел тихий месяц в высях
Над всем руин безмолвьем.
На бревна мы, как дома,
У садика присели;
С секретарем райкома
Беседа шла о севе,
О нивах горных, тесных,
О новой коз породе,
О всем, что повсеместно
В районе производят.
И он сказал: «В пещерном
Вардзийском древнем граде
Вы вспомнили, наверно,
О древнем винограде.
На фресках нарисован,
Погиб в столетьях старых,
А мы поднимем снова
Тот виноград Тамары.
И через год мы с вами
Вином наполним роги…»
…Шел месяц с облаками
Ущельем этим строгим.
Мне снились все сраженья,
Что были здесь когда-то,
Все войск передвиженья,
Все кони и солдаты.
С секретарем райкома
Века стояли рядом,
Вся ярость битв знакомых
Шла по реке за садом.
Строитель он и воин,
Ему покой не снится.
Он помнит: за рекою
Опять лежит граница.
И дышит по ущелью
Такой тревожный ветер,
Как в смотровые щели
Пред боем на рассвете.
<1948>
На безжизненной равнине,
Каменистой, темнотравной,
Где рассыпаны осколки
Безымянные веков,
В майский день вошли мне в душу
И остались навсегда в ней
Этот хруст камнедробилок,
Эта пересыпь гудков.
Перестук скользящих кранов,
Стены, точные, как скалы,
Тяжкий храп землечерпалок,
Паровозов синий дым —
Это Грузия бетона,
Это Грузия металла
Воздвигала свой Рустави,
Поднимаясь вместе с ним.
Силачами встали в поле
Мачты дальней передачи,
В сизом мареве терялись
Плеч их черные края.
Над страною виноградной,
Над холмов красой горячей
Первых домен и мартенов
Очертанья видел я.
Новой красной черепицей
Город пел о переменах,
И взбежали рощи смело
На пустынные бугры.
Где шипели брызги пены
У быков тяжелостенных,
Падал светлый дождь весенний
В воду темную Куры.
То, что здесь я вижу сердцем,
Станет видимо воочью:
Сталь руставская польется,
Вспыхнув огненной рекой,
И шофер проезжим скажет,
Степь срезая темной ночью:
«Это светится Рустави!» —
И покажет вдаль рукой.
Как бывалые солдаты
Опытом своим делиться
Собираются и снова
Все бои переберут —
Здесь собрались ветераны —
Ими Грузия гордится,
Те, что строили Ткварчели,
Рионгэса знали труд,
Что смиряли силу Храми,
Одичавшую волчицу,
От Тбилиси до Самтреди
Проводили провода,
Доты ставили над бездной,
Там, где лом в гранит стучится,
На Военной на Грузинской,
Когда к ней пришла беда.
Дружбой светлою народов
Здесь равнина засверкала,
Ночь истории пробили
Эти люди и огни.
К мастерам пришли грузинским
Мастера высот Урала,
Те, что знали дни Тагила
И челябинские дни.
Пусть прольются светлым ливнем
Мая шелковые тучи,
А у братьев у казахов
Поговорка есть одна:
«Если хочешь великана
Ты родить благополучно —
Не жалей же на пеленки
Дорогого полотна».
И сейчас, когда равнина
Вся гремит и вся бряцает,
В этот майский, бирюзовый,
Вдохновенный этот час
Видим мы тебя, Рустави,
И невольно восклицаем:
«При рожденье великана
Мы присутствуем сейчас!»
<1948>
Бамбук умирает —
Приходит черед и бамбуку.
И он зацветает
Раз в жизни – на скорую руку.
И желтых цветов этих
Переплетенья —
Ничем не согреть их,
Подернутых тенью.
А розы – как пламя,
Ликуют самшиты,
И тунга цветы как шелками
Расшиты.
Бамбук засыпает
И видит в неведомом сне,
Как лес проступает
В тяжелых снегов белизне.
Зарницы дрожат
На высоком чужом берегу,
Две палки бамбука лежат
На снегу.
Они умирают,
Припав к белоснежной земле.
Они зацветают,
Но цвет их заката алей.
Здесь лыжник покинул
Ему предназначенный путь.
Он руки раскинул,
Как будто прилег отдохнуть.
Недвижно лежит,
И слышится смутно ему,
Как Черное море
Шумит через белую тьму.
1948
Похожая на скатерть-самобранку
Поляна. Небо. Горные края.
И выпил я за женщину-крестьянку,
В колхозный вечер стоя выпил я.
Не потому я пил за незнакомый,
Печальный, добрый взгляд,
Что было здесь мне радостно, как дома,
Иль весело, как двадцать лет назад.
Не потому, что женщина вдовою
Бойца была, и муж ее зарыт
В обугленной дубраве над Невою,
И сыну мать об этом говорит.
Не потому, что, бросив хворост наземь,
Ответила улыбкою одной,
И в дом ушла, и вынесла, как в праздник,
Печенье, что белело под луной.
Нет, я смотрел на ломтики витые,
Что по-грузински «ка́да» мы зовем, —
Вернулись мне рассветы боевые
В неповторимом городе моем.
…Мешочек тот был невелик и ярок —
И на ладони ка́да у меня.
Кто мне прислал тот фронтовой подарок
На край земли, на линию огня?
Шатаясь от усталости, лишь к ночи
Вернувшись с поля, может быть, она,
Склонив над ним заплаканные очи,
Сидела молчаливо у окна,
Чтоб в ночь осады, в этой тьме кромешной,
Мне просиял ее далекий зов,
Привет земли, такой родной и вешней,
Грузинским солнцем полный до краев.
…Мне завтра в путь, в работу спозаранку.
Темнеют неба дальние края.
Вот почему за женщину-крестьянку
В колхозный вечер стоя выпил я.
<1948>
Шел боец хребтом Кавказским
Через льды и тучи,
По снегам глухим и вязким,
По недобрым кручам.
Повисал он на веревке,
Бездны презирая,
Знал свирепые ночевки —
Хуже не бывает.
Чтоб не спать, шептал он сказку,
Карауля немца,
На снегу пускался в пляску,
Только чтоб согреться.
А на отдыхе коротком,
Чтобы уважали,
Пел абхазским он молодкам
Песни об Урале.
«Скоро ль мы врагов прогоним?»
Отвечал он: «Скоро!»
– «Как вы в горной обороне:
Вам по нраву горы?»
«Географья – как на блюдце, —
Отвечал он сжато, —
Но чудно места зовутся —
Помнить трудновато…»
Он грузинским – удивитесь! —
Научился песням,
Был дружок его – тбилисец,
Был его ровесник.
Так провел в горах он осень,
Вьюги уж клубили —
И с хребта он немца сбросил,
А дружка убили.
«Где работал он?» – «В Рустави…»
– «Это что такое?»
– «Там завод огромный ставим,
Дело боевое…»
«Мы, уральцы, дело любим,—
Он сказал степенно.—
Как войне башку отрубим,
Я вернусь – заменой.
То, что друг мой верный начал,
За него докончу…»
И пошел в боях маячить,
Драться днем и ночью.
Где он только не был с боем,
Где бивак не ставил…
Но вчера нашел его я
Техником в Рустави.
1948
Был час ночной и поздний,
Для меня
Желтел фонарь колхозный
На камнях.
Вода плясала
В свете фонаря,
Моим глазам немало
Говоря.
Как будто в пенах,
Вихрях водяных
Мелькали смены
Быстрых дней моих.
Топя их враз
В холодной быстрине,
Стальной рассказ
Река кидала мне.
От строк шумящих
Глаз отвесть не мог,
От тех летящих
Леденящих строк.
Их голос плыл
И в уши грохотал:
«Какой ты был,
Каким теперь ты стал…
Смотрел в меня,
В Арагву, ты тогда
При свете дня —
В те юности года.
Смотри ж сейчас,
Мы вместе и одни —
В полночный час
В седой поток взгляни…»
Торчали камни,
И по их плечам
Стекали славно
Струи, клокоча.
Я камнем не был,
Волнами тесним,
И, видит небо, —
Я не буду им.
Фонарь сиял,
Жестоко обнажив
Зеленый шквал
И всплески, как ножи.
Сверкали искры
В свете фонаря,
Как будто освещала их
Заря.
И каждая жила
В огне волны,
Как будто шла
Из самой глубины,
Пронзая ночь
И ночи непокой…
Я был, Арагва,
Искрою такой!
1948
Что там ни говори,
А есть места на свете,
Где смотришь как с горы,
А день особо светел.
Таков, Тбилиси, ты,
Тут не в соблазнах дело,
А в чувстве простоты,
Душевной до предела.
В словах, что будут жечь,
Испепелившись даже.
И в щедрой смене встреч,
Чей след на сердце ляжет.
И в верности такой,
Что всё ничто пред нею,
Когда уж не рукой,
А жизнью жертвуй всею.
1948
А сколько, Тбилиси, тебя воспевало,
Стакан осушая до дна.
Прибавь к этим сонмам великих и малых
Еще одного, старина!
Не буду с тобой совещаться о деле
И славить иль в честь твою пить —
Я просто люблю на проспект Руставели
Без всяких забот выходить.
Смешаться с толпою тбилисцев и с ними
Пойти по знакомым следам,
Где, может быть, встречу далекое имя
И вновь его сердцу отдам.
Увижу я там, в переулках гадая,
Пройти – не пройти мне по ним,
Грузинка сидит на окне молодая,
Беседуя с другом своим.
Взгляну и сойду переулком негладким,
По тихой Судебной потом.
Я вижу, что всё в этом мире в порядке,
В вечернем, тбилисском, большом.
А в комнате ночью ко мне на свиданье,
Все стулья заняв и кровать,
Сойдутся все прошлые воспоминанья
Тбилисскую ночь коротать.
Мы плакать не будем, смеяться не будем,
Мы просто поговорим
О том, что всегда вспоминается людям,
Когда не до отдыха им.
<1948>
Над Тбилиси шум рабочий,
Он с утра над головой,
И смолкает только к ночи
Этот грохот трудовой.
Ты сегодня как столица
Еще краше, чем вчера,
И с тобою не сравнится
Ни Багдад, ни Тегеран.
Если б ты Багдад увидел,
Этот рабства пыльный ад,
Ты заплакал бы в обиде
За униженный Багдад.
Что б ты видел в Тегеране?
В лязге денег и оков
Он живет как бы в дурмане,
Под надзором чужаков.
Ты же, вольный и красивый,
Всей страны любимый сын,
Дети пишут здесь курсивом:
«Я – советский гражданин!»
Ты врезаешься с разбега
В степь и в горы над Курой,
Город пламенного века,
Новой доблести герой.
Через всех хребтов громаду
Светит, взрезав ночи мрак,
Тегерану и Багдаду
Большевистский твой маяк!
<1948>
Мне кажется, что я встречался с ним
Уже не раз: на Рионгэсе или
В тквибульских шахтах, с крепким, молодым,
Которого все знали и любили.
Или его я видел стороной
В полях колхозных юга Алазани,
Иль он промчался нынче предо мной
Средь комсомольцев в конских состязаньях.
Или в горах сванетских привелось
Однажды нам палатки ставить рядом,
Или на Красной площади как гость
Он любовался юности парадом.
А может быть, мелькнуло мне в пургу
Его лицо под белым капюшоном
В окопах где-то или на снегу,
Пороховой пыльцой запорошенном.
Не помню я. Но этот взгляд прямой,
Не легкий шаг, развернутые плечи
Встречаю я, когда иду домой,
На улицах тбилисских каждый вечер.
Но не было всего, что написал,
Его не встретить никакой порою:
Он крепко врос в высокий пьедестал
В большом саду над старою Курою.
Борис Дзнеладзе… он из первых тех,
Из комсомольцев Грузии Советской,
Он вышел в битву рано, раньше всех,
Со львиной страстью и душою детской.
И смотрит он на город с высоты
Тех ранних лет, чей подвиг тяжкий поднял.
Не потому ль ловлю его черты
Я в комсомольском племени сегодня?
1948
Снова звезды повисли
Над улиц пустеющим дном,
Замирает Тбилиси,
Темнеет окно за окном.
Точно в горле кувшина,
Тишина на реке,
Только где-то машина
Прошуршит вдалеке.
И дома закачались
На волнах темноты,
Вот уж в мире остались
Лишь две белых черты.
Угол белый и звонкий
Кошуетской стены,
Нарисованный тонкой
Рукою луны.
Больше линий не надо,—
Что среди темноты
Спят Тбилиси громады —
Скажут эти черты.
Нет ни проблеска света,
Кроме них – только мрак,
Может, краткость вот эта —
Лучший мастера знак!
1948
Она стояла в двух шагах,
Та радуга двойная,
Как мост на сказочных быках,
Друзей соединяя.
И золотистый дождь кипел
Среди листвы багряной,
И каждый лист дрожал и пел,
От слез веселых пьяный.
В избытке счастья облака
К горам прижались грудью,
Арагвы светлая рука
Тянулась жадно к людям.
А гром за Гори уходил,
Там небо лиловело,
Всей пестротой фазаньих крыл
Земли светилось тело.
И этот свет всё рос и рос,
Был радугой украшен,
От сердца к сердцу строя мост
Великой дружбы нашей.
1948
Ломаются и хрипнут голоса,
И новые идут на смену им.
Теперь не разберусь уже и сам,
Принадлежу я к голосам каким.
Оставшись войн великих ветераном,
К спокойному не склонен рубежу, —
И лишь пахнет в лицо мне ветер ранний —
Я в новый путь веселый выхожу.
И хочется еще мне говорить
О зареве, бегущем невской льдиной,
И о пожаре медленной зари
Над мирною Мухранскою долиной.
Они со мной – походный мой мешок
И сапоги с подкованной подошвой,
Чтобы стихам шагалось хорошо
В большом пути под самой трудной ношей.
И в тихом Сагурамо я живу,
Как будто бы в блаженном сне богатом,
Лишь потому, что грозно наяву
Я слышу грома дальнего раскаты.
И стих встает к оружью, как солдат,
Проспавший ночь у друга на биваке
Под крышей – и встающий снова в ряд
Для боевой, для стиховой атаки!
1948








