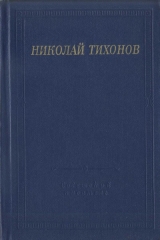
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Николай Тихонов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 36 страниц)
Пьеса знаменитого автора «Дон Кихота» Сервантеса «Нумансия» представляет эпизод борьбы Древнего Рима с Испанией. Трагические подробности осады города Нумансии римлянами показывают нам неукротимую борьбу за свободу испанского народа, его мужестве и презрение к смерти.
Это мужество роднит доблесть защитников республиканской Испании с их древними свободолюбивыми предками.
В трагедию, состоящую из четырех хорнад, введены Сервантесом интермедии в стихах. На сцене появляются аллегорические фигуры: Испания, Война, река Дуэро, Голод, Слава. Эти аллегорические фигуры произносят речи об Испании сервантесовских времен.
Героическая трагедия «Нумансия» шла в дни борьбы республиканской Испании на сцене как антифашистская пьеса.
Я переписал заново интермедии «Нумансии», которую предполагалось поставить у нас, и добавил новые фигуры Фашиста и Антифашиста. Реку Дуэро я заменил рекой Эбро.
Говорит Испания
Ты, жесткая земля моих нагорий,
Мой жаркий лес и мой зеленый луг,
Как пламенем, охваченные горем
И в пламени исчезнувшие вдруг,
И городов моих семья родная.
Жестокой правды я не утаю:
Перед врагом безжалостным одна я,
И ночь и день бессменная, стою.
О милая Нумансия, когда-то
В годах, подобных доблестному сну,
Тогда в боях еще звенели латы,—
Ты римских лат рубила крутизну.
Ни золотом, ни лестью и ни кровью
Рим не добыл твоей свободы дней,
Тем подвигом, лишенным многословья,
Ты стала мне сейчас еще родней.
А я была обманута своими,
Они к себе призвали новый Рим,
Какое дашь ты этой своре имя,
Ругавшейся над именем моим?
Предатели великого народа,
От злобы обезумевшие псы,
Они позвали псов другой породы,
Чтоб и чужак был нашей кровью сыт.
И Рим пришел. Рим прилетел скорее,
Неся на крыльях ликторский топор.
Как тот топор, рубя испанцам шеи,
Фашистский Рим глядит на нас в упор.
Согнув своих застенком и обманом,
Залив свинцом у непокорных рот,
Увлек одних безумных слов туманом,
Бичом нужды погнал других в поход.
И дикари, что в век Октавиана
Входили в Рим под шкурами рабов,
Как будто бы поднялись из тумана,
Как будто бы восстали из гробов.
И, свастики искривленные зубья
Нося как символ рабского труда,
Нагрянула небес испанских глубью
Германская фашистская орда.
И над моей землею несравненной
Они глумятся, всё испепелив,
Ручьи текут, искрясь кровавой пеной,
Скрипят стволы обугленных олив.
Пощады нет ни зданью, ни картине,
Ни статуе, ни книге – ничему,
Как будто всё, что существует ныне,
Их волей погружается во тьму.
В их словаре такого нет названья,
Как человек, – обычай их таков:
Всю жизнь людей гонять по истязаньям
И – загнанным – не ослаблять оков.
Тогда народ страны моей любимой
Оружье взял – сначала в шквале том
Он умирал с мечтой неукротимой,
Пусть лучше смерть – не слабость
пред врагом.
Нумансия! Легенда вековая,
Смотри на легендарных храбрецов:
Вот девушка-испанка, умирая,
Не побледнев, глядит врагу в лицо;
Вот юноша, еще не знавший жизни,
А вот старик, вовек не знавший войн, —
И на колени матери-отчизны
Склоняются кровавой головой.
И вот тогда на помощь отовсюду
Пришли бойцы далеких самых стран,
Как человеку, верящему в чудо,
Им помогал могучий океан.
Им помогали травы Пиренеев,
Они пришли, не смывши пыль дорог, —
Они пошли в атаки и в траншеи,
И каждый дрался, умирал, как мог.
Испанию сестрою называя,
Шла доблесть мира к нашим берегам,
И встала гнева туча грозовая
И наши молньи бросила врагам.
Швыряй их, ветер, шли им бурю, море,
Ущелья пусть ловушкой станут им,
Им на голову – камни плоскогорий,
Стволы лесов в лесах нагромоздим.
Знай, Эбро, ты, река моя большая,
Старинных дел великий водоем,
Пускай наш враг всё злобою решает —
Мы доблестью их злобу разобьем.
Ты, Эбро, здесь словам моим внемли,
Мы – старая упорная порода.
Мы защитим свободу всей земли,
Пока жива испанская свобода!
Говорит Эбро
Мать-Испания! Я вижу
Тени вражьих самолетов,
Чужеземцев кровожадных
На высоких берегах.
Мать-Испания! Я слышу
Голос пушек и пожаров,
Клекот танков беспощадных
На замученных лугах.
Прямо в море уношу я
Мертвецов твоих несчетных,
Словно гневом, окружены
Шумной пеной удальцы.
«Вы за что погибли, дети?» —
Вопрошаю я погибших.
«За Испании свободу!» —
Отвечают мертвецы.
Речка малая Харама,
Мансанарес мелководный
Иль водой богатый Тахо,
Блеск Дуэро – взмах ножа,
Вы видали тех испанцев,
Вы видали тех друзей их,
Что дрались, не отступая,
Головой не дорожа.
Мать-Испания! Однажды
Нашей славы батальоны
Тихо к берегу спустились —
Навести к утру мосты,
Кто входил по горло в воду,
Кто по пояс, кто по локоть,
Ставя грузные понтоны,
Ставя лодки и шесты.
И, смотря на это дело,
Обмелеть бы я хотела
Иль пригнать им сверху челны,
Чтоб сапер не горевал,
Силу вод своих уменьшить;
Я их холодом бодрила,
Через их нагие плечи
Перекатывая вал.
Только утро осветило
Берегов моих уступы,
Как, подобные в полете
Черным молньям шаровым,
Бомбы вражьих самолетов,
Воду вспенив, зашвыряли
Окровавленную пену
По настилам мостовым.
И когда мосты взлетали,
Вихрем щепок распадаясь,
В воду прыгали саперы,
И стояли вновь мосты;
Как сестра дивится братьям,
Я дивилась тем саперам,
Что простые были парни
Небывалой красоты.
Проходил народ веселый
По мостам, залитым кровью,
Он с улыбкой не случайной
Шел за правду умирать,
Пусть другие реки мира
Нам объявят перекличку,
Чтобы славу рек испанских
Славой собственной назвать.
Я хочу услышать голос
Хуанхэ, реки храбрейших,
Вод китайских ветерана —
Шум Янцзы, как шум грозы,
Я хочу услышать голос
Рек маньчжурских, абиссинских,
Сунгари или Такказе,
Партизанских рек язык.
Из других бассейнов водных
Я приветствовать желаю
Мне далекие, родные
Воды озера Хасан,
Где штыком красноармейским
Руку вору пригвоздили,
Славен будь Союз Советский
На земле и в небесах!
Мать-Испания! Скажу я:
Вот Нумансия когда-то
Вся погибла, не сдаваясь,
Но досель она жива,—
Будешь ты костром вселенной
И теплом углей горящих
Согревать того, кто бьется
За народные права!
Говорит Испания
Знай, Эбро, ты река моих героев:
Всем миром мне наказ великий дан,
Ему верна и, силы все утроив,
Фашистских сил сломаю ураган!
Говорит Война
Как будто был закат совсем не грозный
И в радио веселая волна,
Вставай, беги, постой, безумец, – поздно!
Я здесь стою у двери, я – Война!
Я кралась меж уловок дипломатов,
В шпионском шифре, между строк статей,
Чтобы упасть нежданной и крылатой
И зашуметь в полночной черноте.
И ты меня не знаешь: я такая —
Я пряталась пожаром торфяным,
И, тайному пожару потакая,
Жгли предо мной завесы душный дым,
Чтоб человек невольно задрожал,
Увидя в лоб несущийся пожар.
А как его движения стройны,
А как чудесен арсенал войны!
А как душа налетчика горда —
В перчатках белых рушить города,
Когда рукою легкой, как волчок,
Рычаг рванет и смерти даст толчок.
И вот под ним взамен столицы спящей
Встал дымом ад, горящий и вопящий;
Вы стелете искусственный туман
И танков бронированный таран
Пускаете, закрыв его туманом
И пронизав сначала газом пьяным.
И танки мчатся, давят, давят кости
Хохочущих от газа на погосте.
Хохочущий чудесен легион —
Уже хрипит, а всё хохочет он!
Великого художника потеха —
Придумать так: в бою сгореть от смеха!
И лучший повар будет поражен,
Коль огнемет в бою увидит он.
Что́ жарил он гуся крыло рябое!
Здесь человека жарят в кухне боя.
А гул тревог идет волной двойною,
Психологической зовясь войною,
И кажется смятенному уму,
Что враг вокруг, уж у него в дому.
Со льдом в глазах, с покрытой потом кожей
Тут все бегут, и бегство жертвы множит.
А сила газов! Перед нею немы
Все краски симфонической поэмы.
То человек лиловый, как цветок,
То жабы он желтее и бугристей,
То просто тень, и в ней трепещет ток,
То валится он головешкой чистой,
То, ослеплен, садится он и плачет
И боль по нем от сердца к мозгу скачет.
То жидкий воздух в бомбе загремел,
Как будто бы слетел лавиной мел.
Так в облаке известки, краски, пыли
Лежат куски, что прежде домом были.
Пыль улеглась, и уж спешите вы
Смотреть в кафе гостей без головы.
Или вагон трамвайный пополам
Снаряд разбил – дымит железный хлам.
Сто километров пройдено снарядом,
Чтобы отец упал с ребенком рядом.
А фосфор загоревшийся, скользя,
Ничем на свете потушить нельзя.
И улица горит, как муравейник,
Ржавеет дым, как осенью репейник,
И, словно мух, людей круговорот
Прихлопывает с неба пулемет.
Но помните, позвавшие меня,
Я не простой бегущий столб огня,
Покорный вашей кровожадной воле,
Сжигающий одно чужое поле, —
Нет, заповеди черные войны
Для всех сторон смертельны и равны.
И, вызвав газ, вы сами газ глотнете,
И бомбовоз услышите в полете
Над собственною крышей, трепеща,
И тень тревоги – серого плаща —
Вам выбелит и волосы и щеки,
И танка след увидите широкий
На собственной пылающей земле,
На городов разрушенных золе.
А как народ вас вытащит на суд —
Об этом мне чуть позже донесут!
Говорит Голод
История, отдернувши завесу,
Сегодня нам показывает пьесу.
Когда-то Рим нашел блестящий случай
И голодом Нумансию замучил.
Я тоже генерал – и сам не молод, —
Не смейтеся над генералом Голод!
Люблю фашистов я послушать речи —
Мне нравится их звук нечеловечий.
Тишайший генерал в мундире скромном,
Любуюсь я их планом вероломным.
Когда гремит огромный конь войны,
Мне стремена его не так важны,
Он мне милей не боевым наскоком —
Когда над ним сидят вороны скопом!
Пусть в первый день победы суждены,
Но я зовусь последним днем войны!
Со штабом всех болезней тише нищих
Я обхожу поля, леса, жилища.
Над мертвым краем мертвая метель —
И вьется пыль, где прежде вился хмель.
И там, где были водные пути,
Ни рыбака, ни рыбы не найти.
Вхожу я незаметно в города —
На улицах голодная орда.
А в магазинах тронут я картиной —
Лишь пауки корпят над паутиной.
Под стражею заводы на ходу,
Где трудится рабочий как в бреду,
И, жирных бомб обтачивая стенки,
Шатается, как тень кнута в застенке.
Рабочему, который изнемог,
Кладу осьмушку хлеба на станок.
Фашистские плакаты, беспокоясь,
Кричат свое: «Подтягивайте пояс!»
Полны газеты бешеных затей,
Рождаются уж дети без ногтей.
А стоны жен – утехи войнов бравых —
Приправлены болезней всех отравой.
Я прохожу по улицам нагим,
В глазах у встречных черные круги,
Дерутся из-за падали другие,
И вижу глаз зеленые круги я.
Я прихожу в раскрашенный дворец.
«Стой, кто идет?» – «Я, генерал Конец!»
И, побледнев под каской, часовой
Звонит в звонок над бедной головой.
И я иду, всей роскошью дыша,
Туда, где войн преступная душа,
Где в кабинете самых строгих линий
Сам Гитлер или, может, Муссолини.
То бычий череп с челюстью тяжелой,
Мясистый рот с усмешкой невеселой
И маленькие руки мясника,
Упершиеся в круглые бока,
Иль от бессонницы лицом желтея впалым,
С лунатика стеклянным взором вялым,
С клоком волос на лбу и на губе
И с кулаком на кресельной резьбе —
Мне всё равно: я с ними не жилец,
Мне всё равно: я – генерал Конец!
Я говорю, и плавно речь течет:
«Тряпичник я, пришел отдать отчет.
И лучшая помойка, как ни странно,
В которую вы превратили страны,
Тряпье и кости – больше ничего, —
Вот результат отчета моего.
После войны тридцатилетней, древней,
Исчезли замки, бурги и деревни,
И каждый немец, грустно поражен,
Был должен брать не менее двух жен.
Чтоб прокормить тех женщин хоть бы малость,
Мужчин в стране почти что не осталось.
Хотите ль вы того иль не хотите,
Но рушится фашистская обитель,
И миллионы, голодом ведомы,
Идут на ваши пышные хоромы.
И, штык подняв в гнилой воде окопа,
За мной идет голодная Европа.
Вам не придется издавать закон,
Чтоб каждый брал не менее двух жен, —
Нет, голодом гонимые, те жены
Не будут вашим палачом сражены.
Всё это называется судьбой —
Я их веду на их последний бой!
Я тоже генерал из самых голых —
Не смейтеся над генералом Голод!»
Говорит Фашист
Вот говорят: фашистская держава
Не знает человеческого права,
Что мы глядим на вещи слишком просто,
Что любим мы лишь тишину погоста.
Сейчас я объясню вам, отчего:
Народ – дитя, мы – фюреры его.
Ребенка вы, чтоб вырос он титаном,
С младенчества кормите барабаном.
Парадов факелом слепите по ночам,
Привейте вкус к воинственным речам.
Довольно книг – в костер обложек глянец!
Вокруг костра устраивайте танец,
Какой плясал в медвежьей шкуре предок,
И песню затяните напоследок,
Что всей земли народов вы грозней
И призваны господствовать над ней.
Но так как ваш народ не до конца
Покорен воле фюрера-отца
И хочет жить, трудиться, веселиться,
И предками не хочет он гордиться,
И с ним вы не справляетесь добром —
Вооружитесь добрым топором.
И вот, когда по мере власти роста
Во всей стране величие погоста,
И введены военные харчи,
И есть приказ: работай и молчи! —
Тогда, чтоб не нагрянула разруха,
Возьмитесь вы за воспитанье духа:
Верните женщин кухне и перине,
Утехой войнов будут пусть отныне.
Усильте рев газетных батарей:
Виной всех бед марксист или еврей,
И что подчас они одно и то же —
Пускай наш гром скорей их уничтожит!
Нас вовсе сжали жалкие соседи,
В военной мы нуждаемся победе!
Твердите всем: обижены судьбою,
Отныне приступаем мы к разбою!
Чтобы за вами выла вся страна:
«Война! Война! Да здравствует война!»
Да здравствует война всегда и всюду,
И городов пылающие груды,
И вопли женщин, и оружья грохот,
Победы гул и побежденных ропот.
Покой и труд – марксистская гримаса,
Все расы – прах, есть только наша раса!
Так в пепел всё – над пеплом знамя наше,
Пусть вражьи черепа идут на чаши.
Дыхнем из них дыхание вина —
И всё до дна: да здравствует война!
Говорит Антифашист
Чтоб надо мной стояла ночь и день
Тюремщика вихляющая тень,
Чтоб каждой мысли вольное движенье
Немедленно бралось под подозренье,
Чтобы страницы мной любимых книг
Костер фашистский уничтожил вмиг,
Чтоб вместо слов простых и человечных
Рев фюреров я слышал бесконечный,
Чтобы всю жизнь под диких песен вой
Шагал с лопатой в лагерь трудовой,
Чтобы, презренной жизнью дорожа,
К народам пленным шел я в сторожа,
Участвовал в разбойничьих походах,
Чтобы убийц я славил в рабских одах,
Чтоб стал, как труп, безмолвен и, как труп,
Гнил заживо между заводских труб,
Одной войне дымящих славословье,
Моих друзей обрызганное кровью,
Чтоб я забыл, что есть на свете разум,
Косясь на мир налитым злобой глазом, —
Нет! Будет мир стоять неколебим,
Он помнит всё, что пережито им:
Пожары, казни, бедствия, сраженья,
Века позора, рабства, униженья,
Где б ни свистел кнутами новый Рим —
Мы ничего ему не отдадим!
Ни наших нив, шумящих морем хлеба,
Ни наших гор, вонзивших пики в небо,
Ни наших рек, струящихся в тиши,
Ни наших песен сердца и души,
Ни слов любви, ни дружбы, ни забот,
Ни начатых народами работ,
Ни городов, где улиц гул веселый,
Ни тех полей, где расцветают села;
И соловей не должен умереть,
О нашей славе будет он греметь,
И ястреба, что над холмов горбами,
Пускай парят простыми ястребами,
И ни тропинки розовой весенней,
И ни морей, что нету многопенней,
И ни костра, чей вьется рыжий дым
В лесу осеннем, – мы не отдадим.
Не отдадим улыбок наших смелых,
Ни парусов на лодках наших белых,
Ни воздуха, которым дышим мы,
Ни блеска дня, ни теплой ночи тьмы,
Последней ветви яблони румяной,
Луча зари над спящею поляной,
Ни гордости самим собою быть,
Ни права завоеванной судьбы.
Фашизм найдет лишь гибель впереди —
Мы ничего ему не отдадим!
Пусть северный иль южный встанет Рим
Смертельно с ним в бою поговорим!
Говорит Слава
498. КИРОВ С НАМИ
Труби, труба, звени, труба,
Нумансия жива,
Пускай молчат ее гроба —
Не умер древний род,
Народа вольного права
И смерть не отберет.
Слава Нумансии нашей!
Я доблесть новую пою,
Шуми, народный флаг,
Греми, труба моя,
Опять Испания в бою,
Опять пришел свободы враг
В испанские края!
Тому сраженью срока нет,
Враг яростью одет,
Уж год ушел, ушел второй,
И третий год идет.
Когда сражен один герой —
Другой герой встает!
Слава Испании нашей!
И стало поле битвы здесь
Яснейшим издали,
И всех друзей не перечесть,
Что в помощь ей пришли,
Что в битвах умерли за честь
Народов всей земли!
Слава борцам за свободу!
Зажжет последняя борьба
Всемирные края —
Звени, моя труба,
Греми, труба моя.
И встанет вольной навсегда
В бессмертной армии труда
Испания моя!
Слава Великому Октябрю!
Слава!
1938
1
Домов затемненных громады
В зловещем подобии сна,
В железных ночах Ленинграда
Осадной поры тишина.
Но тишь разрывается воем —
Сирены зовут на посты,
И бомбы свистят над Невою,
Огнем обжигая мосты.
Под грохот полночных снарядов,
В полночный воздушный налет,
В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет.
В шинели армейской походной,
Как будто полков впереди,
Идет он тем шагом свободным,
Каким он в сраженья ходил.
Звезда на фуражке алеет,
Горит его взор огневой,
Идет, ленинградцев жалея,
Гордясь их красой боевой.
2
Стоит часовой над водою —
Моряк Ленинград сторожит,
И это лицо молодое
О многом ему говорит.
И он вспоминает матросов
Каспийских своих кораблей,
Что дрались на волжских откосах,
Среди астраханских полей.
И в этом юнце крепкожилом
Такая ж пригожая стать,
Такая ж геройская сила,
Такой же огонь неспроста.
Прожектор из сумрака вырыл
Его бескозырку в огне,
Названье победное «Киров»
Грозой заблистало на ней…
3
Разбиты дома и ограды,
Зияет разрушенный свод,
В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет.
Боец, справедливый и грозный,
По городу тихо идет.
Час поздний, глухой и морозный…
Суровый, как крепость, завод.
Здесь нет перерывов в работе,
Здесь отдых забыли и сон,
Здесь люди в великой заботе,
Лишь в капельках пота висок.
Пусть красное пламя снаряда
Не раз полыхало в цехах,
Работой на совесть, как надо,
Гони и усталость и страх.
Мгновенная оторопь свяжет
Людей, но выходит старик,—
Послушай, что дед этот скажет,
Его неподкупен язык:
«Пусть наши супы водяные,
Пусть хлеб на вес золота стал,
Мы будем стоять как стальные,
Потом мы успеем устать.
Враг силой не мог нас осилить,
Нас голодом хочет он взять,
Отнять Ленинград у России,
В полон ленинградцев забрать.
Такого вовеки не будет
На невском святом берегу,
Рабочие русские люди
Умрут, не сдадутся врагу.
Мы выкуем фронту обновы,
Мы вражье кольцо разорвем,
Недаром завод наш суровый
Мы Кировским гордо зовем».
4
В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет.
И сердце прегордое радо,
Что так непреклонен народ,
Что крепки советские люди
На страже родимой земли…
Всё ближе удары орудий,
И рядом разрывы легли.
И бомбы ударили рядом,
Дом падает, дымом обвит,
И девушка вместе с отрядом
Бесстрашно на помощь спешит.
Пусть рушатся стены и балки,
Кирпич мимо уха свистит,
Ей собственной жизни не жалко,
Чтоб жизнь тех, зарытых, спасти.
Глаза ее грустны и строги,
Горит молодое лицо,
Ей гвозди впиваются в ноги,
И проволок вьется кольцо.
Но сердце ее непреклонно
И каменно сжаты уста,
Из Кировского района
Прекрасная девушка та.
Вот юность – гроза и отрада,
Такую ничто не берет.
В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет…
5
Глашатай советского века,
Трибуном он, воином был
На снежных предгорьях Казбека,
Во мраке подпольной борьбы.
Он помнит кровавые, злые,
В огне астраханские дни,
И ночи степные, кривые,
Как сабли сверкали они.
Так сердцем железным и нежным
Осилил он много дорог,
Сражений, просторов безбрежных,
Опасностей, горя, тревог.
Но всей большевистской душою
Любил он громаду громад
Любовью последней, большою —
Большой трудовой Ленинград.
…Но черные дни набежали,
Ударили свистом свинца,
Здесь люди его провожали
Как друга, вождя и отца.
И Киров остался меж ними,
Сражаясь, в работе спеша,
Лишь вспомнят могучее имя —
И мужеством крепнет душа.
6
На улицах рвы, баррикады,
Окопы у самых ворот,
В железных ночах Ленинграда
За город он тихо идет.
И видит: взлетают ракеты,
Пожаров ночная заря,
Там вражьи таятся пикеты,
Немецких зверей лагеря.
Там глухо стучат автоматы,
Там вспышки как всплески ножа,
Там, тускло мерцая, как латы,
Подбитые танки лежат.
Враг к городу рвется со злобой —
Давай ему дом и уют,
Набей пирогами утробу,
Отдай ему дочку свою.
Оружьем обвешан и страшен,
В награбленных женских мехах,
Он рвется с затоптанных пашен
К огням на твоих очагах.
Но путь преградить супостату
Идет наш народ боевой.
Выходит, сжимая гранату,
Старик на сраженье с ордой.
И танки с оснеженной пашни
Уходят, тяжелые, в бой;
«За Родину!» – надпись на башне,
И «Киров» – на башне другой.
7
499. СЛОВО О 28-ми ГВАРДЕЙЦАХ
И в ярости злой канонады
Немецкую гробить орду
В железных ночах Ленинграда
На бой ленинградцы идут.
И красное знамя над ними
Как знамя победы встает.
И Кирова грозное имя
Полки ленинградцев ведет!
Ноябрь 1941
Безграничное снежное поле,
Ходит ветер, поземкой пыля, —
Это русское наше раздолье,
Это вольная наша земля.
И зовется ль оно Куликовым,
Бородинским зовется ль оно,
Или славой овеяно новой,
Словно знамя опять взметено,—
Всё равно – оно кровное наше,
Через сердце горит полосой.
Пусть война на нем косит и пашет
Темным танком и пулей косой,
Но героев не сбить на колени,
Во весь рост они встали окрест,
Чтоб остался в сердцах поколений
Дубосекова темный разъезд,
Поле снежное, снежные хлопья
Среди грохота стен огневых,
В одиноком промерзшем окопе
Двадцать восемь гвардейцев родных!
1
Из Казахстана шли бойцы,
Панфилов их привел могучий:
Он бою их учил, как учат
Сынов чапаевцы-отцы.
Учил маневру и удару
Лихих колхозников Талгара,
Казахов из Алма-Ата,
Киргизов и казахов дюжих.
Была учеба не проста:
Кругом бои, пустыня, стужа,
Фашисты рвутся на Москву,
Снега телами устилая,—
Стоит дивизья удалая,
Похожа сила боевая
На тонкой стали тетиву.
Она под опытной рукою
Звенит, натянута, и вдруг
Своей стрелою роковою
Рвет вражьей силы полукруг.
Она, гвардейская Восьмая,
Врага уловки понимает.
Стоит, откуда б он ни лез,
На всех путях наперерез.
И не возьмешь ее охватом,
Не обойдешь ее тайком —
Как будто место то заклято
Огнем, уменьем и штыком.
Герой подтянутый и строгий,
Стоит Панфилов у дороги,
Ему, чапаевцу, видны
В боях окрепшие сыны.
Глядит в обветренные лица,
На поступь твердую полков,
Глаза смеются, он гордится:
«Боец! Он должен быть таков!»
Его боец!.. Пускай атака,
Пусть рукопашная во рву —
Костьми поляжет – и, однако,
Врага не пустит на Москву!
2
Окоп. Гвардейцев двадцать восемь.
Сугробов белые ряды.
По горизонту ветер носит
Пожаров дальних черный дым.
Там горе горькое маячит,
Там песен больше не поют,
Там хоронятся, стонут, плачут,
Там подневольный, рабский труд.
Стоят в окопе двадцать восемь
Под небом диким и седым,
Глядя, как ветер вдаль уносит
Пожаров долгих горький дым.
И говорит Кужебергенов
Дружку Натарову:
«Иван,
Москвы стоят за нами стены,
Любимый солнцем Казахстан!
Там наши девушки хохочут,
Какие там весною ночи,
Какие в песнях там слова,
Какая там в лугах трава!
Я грузчик. Я простой рабочий.
Я жизнь люблю. Я жил, Иван,
Но дай сейчас две жизни сразу —
Не пожалею их в бою,
Чтоб бить фашистскую заразу
И мстить за родину свою!
Смотри, Иван, на эти дымы
И этот край – наш край любимый!
Он близок сердцу моему, —
Как тяжело сейчас ему!»
Стоит на страже под Москвою
Кужебергенов Даниил:
«Клянусь своею головою
Сражаться до последних сил!»
И говорит Иван Натаров:
«Я тоже человек не старый,
Я тоже человек прямой —
Боец дивизии Восьмой.
И память – нет, не коротка.
Я помню, как мы ладно жили,
Как мы работали, дружили.
Дни тяжелы у нас пока —
В них тяжесть полного подсумка.
Есть у меня такая думка:
Что мы не посрамим Восьмой,
Не посрамим гвардейской чести,
А час придет – погибнем вместе,
Врага в могилу взяв с собой!»
Окоп. Гвардейцев двадцать восемь.
Здесь каждый вспоминал свое,
Родных, родного неба просинь,
Ее, далекую ее,
Ту девушку, что помнит друга…
Но мысли, сделав четверть круга,
Как сон, что снится наяву,
Все возвращались под Москву.
Сияньем преданности высшей,
Любовью всех окружена,
Она вставала неба выше,
И каждого звала она.
…И тут увидел Добробабин
Меж снежных горок и ухабин
Иную, черную гряду.
«Идут, – сказал, – они идут!»
3
Посланцы ржавой злобы вражьей,
Фашистской детища чумы,
Шли двадцать танков с лязгом тяжким,
Сминая снежные холмы.
Танкист увидел низколобый
Большие белые сугробы,
Окоп, который раздавить
Труда не стоит никакого…
Шли двадцать танков, как быки,
Один другого безобразней,
Из мира каторжной тоски,
Из стран безмолвия и казней.
Шли двадцать танков как один,
И низколобый паладин
Не об окопе думал ближнем —
О повторении Парижа:
Вино, ночной распутный час,—
Посмотрим, какова Москва там?
И, грохнув, первые гранаты
Порвали гусеницу враз.
4
На русском поле снежном, чистом
Плечо к плечу в смертельный миг
Встал комсомолец с коммунистом
И непартийный большевик.
Гвардейцы! Братьев двадцать восемь!
И с ними вместе верный друг,
С гранатой руку он заносит —
Клочков Василий, политрук.
Он был в бою – в своей стихии…
Нам – старший брат, врагу – гроза.
«Он дие, дие, вечно дие», —
Боец-украинец сказал,
Что значит: вечно он в работе.
В том слове правда горяча,
Он Диевым не только в роте —
В полку стал зваться в добрый час.
И вот сейчас Василий Диев
С бойцами примет смертный бой.
Он с ними вместе, впереди их
Перед грохочущей судьбой.
«Ну что тут, танков два десятка,
На брата меньше, чем один»,—
Он говорил не для порядка,
Он видел подвиг впереди.
Хвала и честь политрукам,
Ведущим армию к победе,
В бою, в походе и в беседе
Сердца бойцов открыты вам.
Пускай цитаты на уме,
Но правда, правда в самом главном —
В живом примере, а пример,
Живой пример – сей бой неравный!
5
Тяжелой башни поворот —
И танк по снегу без дороги,
Как разъяренный бык, идет,
Тупой, железный, однорогий.
Не побледнел пред ним боец —
Лишь на висках набухли жилки,
И – однорогому конец:
С горючим падают бутылки.
Прозрачным пламенем одет,
Как бык с разрубленною шеей,
Он издыхает, черный бред,
Пред неприступною траншеей.
На бронебойных пуль удар —
Удары пушек, дым и стоны,
Бутылок звон. И вновь пожар,
И грохот танков ослепленных,
И танки на дыбы встают
И с хрипом кружатся на месте —
Они от смерти не уйдут,
Они закляты клятвой мести.
Смотри, родная сторона,
Как бьются братьев двадцать восемь!
Смерть удивленно их уносит:
Таких не видела она.
И стих обуглится простой
От раскаленной этой мощи,
Пред этой простотой святой,
Что всяких сложных истин проще.
И слабость моего стиха
Не передаст того, что было.
Но как бы песня ни глуха —
Она великому служила!
Часы идут. В крови снега.
Гвардеец видит, умирая,
Недвижный, мертвый танк врага
И новый танк, что стал, пылая.
Нет Добробабина уже,
Убит Трофимов и Касаев,—
Но бой кипит на рубеже,
Гвардейский пыл не угасает.
Упал Шемякин и Емцов,
И видит, падая, Петренко:
Среди железных мертвецов
Дымятся новых танков стенки.
Снарядный грохот стон глушит,
И дым течет в снегах рекою —
Уже четырнадцать машин
Гвардейской сломаны рукою.
И страшный новый гул один,
Не схожий с гулом бьющей стали,
Со снежных стелется равнин,
Идет из самой дальней дали.
И тихий голос в нем звучит:
«Кто, как они, не может биться —
Пусть тоже подвиги вершит,
Которым можно подивиться».
Героя миги сочтены,
Но в сердце входит гул огромный:
То руки верные страны
В забоях рушат уголь скромный,
То гул неисчислимых стад,
То гул путины небывалой,
То стали льется водопад
В искусной кузнице Урала;
Станиц казахских трактора
Идут в поля с веселым гулом,
Гудит высокая гора
Трубой заводской над аулом.
И слился мирный гул работ
С непревзойденным гулом боя,
Как перекличка двух высот,
Перепоясанных грозою.
6
Глядит Клочков: конец когда же?
И видит в дымном полусне,
Как новых тридцать танков тяжко
Идут, размалывая снег.
И Бондаренко, что когда-то
Клочкова Диевым назвал,
Сказал ему сейчас, как брату,
Смотря в усталые глаза:
«Дай обниму тебя я, Диев!
Одной рукой могу обнять,
Другую пулей враг отметил».
И политрук ему ответил,
Сказал он:
«Велика Россия,
А некуда нам отступать,
Там, позади, Москва!..»
В окопе
Все обнялись, как с братом брат,—
В окопе снег, и кровь, и копоть,
Соломы тлеющей накат.
Шли тридцать танков, полны злобы,
И видел новый низколобый
Сожженных танков мертвый ряд.
Он стал считать – со счета сбился,
Он видел: этот ряд разбился
О сталь невидимых преград.
Тут нет ни надолб, ни ежей,
Ни рвов, ни мин, ни пушек метких,
И он в своей железной клетке
Не видел одного – людей!
Спеша в Москву на пир богатый,
Навел он пушку, дал он газ, —
И вновь гвардейские гранаты
Порвали гусеницу враз.
И видит немец низколобый:
Встают из снега, как из гроба,
Бойцы в дыму, в крови, в грязи,
Глаза блистают, руки сжаты,
Как будто бы на каждом латы
Из сплава чудного горят.
Летят последние гранаты,
Огонь бутылочный скользит.
Уже вечерняя заря
Румянцем слабым поле метит,
И в тихом сумеречном свете —
Достойно так же, как и жил, —
Кужебергенов Даниил,
Гранат последнее сцепленье
Последним взрывом разрядив,
Идет на танк, дыша презреньем,
Скрестивши руки на груди,
Как будто хочет грузчик грозный
Схватить быка за черный рог.
С ним вместе гаснет день морозный,
Склонясь у ночи на порог.
…Нет Бондаренко, а Натаров
Лежит в крови, упал Клочков…
Пока всё поле в сизом дыме,
Раскрой страницы книги старой
И гвардию большевиков
Сравни с гвардейцами иными.
Увидишь синие каре
Наполеоновской пехоты,
Где офицеры в серебре,
В медвежьих шапках гибнут роты.
Ваграм с убийственным огнем,
И Лейпциг – день железной лавы,
И Ватерлоо в резне кровавой,—
Вам не сравниться с этим днем
Гвардейской русской нашей славы!
Переверни еще листы —
Увидишь Торрес-Ведрас ты,
Красномундирные колонны
И с пиренейской высоты
Солдат бывалых Веллингтона.
Нет, нет, они дрались не так —
Чтоб до последнего, чтоб каждый
С неотвратимой силой жаждал
Врага в могилу взять с собой,
Чтоб смерть играла им отбой!
Ни Гинденбурга гренадер
В болотной Фландрии воде,
Ни люди Марны и Вердена,—
Гвардейцы всех времен вселенной,
Вы не сравнитесь никогда
С советским богатырским парнем!
И нашей гвардии звезда
Всех ваших гвардий лучезарней.
Ну где у вас такой окоп?
И где такие двадцать восемь?
Здесь танк, уткнувшийся в сугроб,
У мертвецов пощады просит!
7
Стемнело в поле боевом,
Лежит израненный Натаров,
И Диев жадно дышит ртом,
И шепчет он с последним жаром:
«Брат, помираем… вспомнят нас
Когда-нибудь… Поведай нашим,
Коль будешь жив…»
И звук погас,
Как гаснет искра среди пашен.
И умер Диев в поле том,
В родном, широком, белоснежном,
Где под ночной земли пластом
Зерно сияло блеском нежным.
Колосья летом зазвенят —
Полей колхозная отрада.
Спи, Диев! Все солдаты спят,
Когда исполнили, что надо.
Уж вьюга поле бороздит,
Как будто ей в просторе тесно.
Лежит Натаров, он не спит
И всё же видит сон чудесный:
Как будто с вьюгой он летит.
И голосов полна та вьюга —
То политрук с ним говорит,
То слышит Даниила-друга.
А вьюга кружит по стране,
По городам, по селам вьется,
И, как бывает лишь во сне,
Он слышит голос полководца:
«Натаров, доблестный стрелок,
Сейчас лежишь ты, холодея,
Но ты сражался так, как мог
Сражаться истинный гвардеец!..»
И плачет радостно Иван
И снова с вьюгой дальше мчится.
Он видит яркий Казахстан,
Хребты, и степи, и станицы.
Он слышит песню, молвит он:
«Полна та песня славы гула,
О ком она?» Он поражен:
О нем поют уста Джамбула.
Поют о двадцати восьми,
Поют о доблести и долге,
И песнь живет между людьми
Над Сырдарьей, Курой, над Волгой.
Он входит в Красную Москву.
Еще не смог он удивиться —
Как сон исчез, и наяву
Над ним видны родные лица,
Красноармейских шапок ряд,
Бойцы с ним тихо говорят
И перевязывают раны…
А дальше: вьюги новый плен,
Но эта вьюга белых стен,
Простынь, халатов лазаретных.
И шепчет он рассказ заветный
О всех товарищах своих,
О жизни их, о смерти их,
О силе грозной их ударов…
Сказал – задумался, затих…
Так умер наш Иван Натаров!
8
Нет, героев не сбить на колени,
Во весь рост они стали окрест,
Чтоб остался в сердцах поколений
Дубосекова темный разъезд,
Поле снежное, снежные хлопья
Среди грохота стен огневых,
В одиноком промерзшем окопе
Двадцать восемь гвардейцев родных!
20 марта 1942








